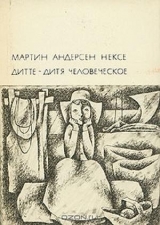
Текст книги "Дитте - дитя человеческое"
Автор книги: Мартин Андерсен Нексе
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 50 страниц)
X
У ДИТТЕ НАШЕЛСЯ ОТЕЦ
Однажды Марен, встав поутру, увидела, что жильцов ее нет больше в доме, – скрылись ночью.
– Видно, черт их унес! – весело сказала старуха. Она даже рада была избавиться от них, такие они были неприветливые и сварливые. Но плохо было то, что они задолжали ей за двенадцать недель – двенадцать крон, которые она надеялась приберечь к зиме.
Она вывесила на пожарном сарае в поселке объявление и стала поджидать новых постояльцев. Но никто не приходил. Ведь прежние жильцы распустили слух, что в доме «нечисто».
Потеря дохода от жильцов была тем тяжелее, что Марен отказалась от своего ремесла. Не хочет она больше слыть знахаркой, носить на себе клеймо проклятой колдуньи!
– Ступайте к тем, кто поумнее, а меня оставьте в покое, – отвечала она людям, которые прибегали к ней за; советом или приглашали ее к больным.
Посетители уходили ни с чем, и скоро в окрестности прошла молва, что Марен «потеряла силу».
Да, силы ее слабели, и зрение она почти потеряла, и ноги отказывались ей служить. Она стала прясть и вязать на людей и опять «ходить по миру». Дитте должна была водить ее со двора во двор, с хутора на хутор. Трудные это были походы. Старуха не переставала охать и тяжело опиралась рукой на плечо девочки. Дитте тогда еще ничего не понимала и только тяготилась этими походами, – ее манили цветы у придорожных канавок и сотни других вещей, ей хотелось сбросить с плеча свинцовую тяжесть и бегать, резвиться по своей воле; бесконечные жалобы старухи наводили на нее тоску. Иногда девочка позволяла себе алые шутки.
– Бабушка, я потеряла дорогу, – вдруг говорила она и не хотела шагу ступить дальше или же просто убегала от старухи и пряталась где-нибудь поблизости.
Марен бранилась и грозила девочке, потом, устав, присаживалась у края дороги и плакала. Дитте становилось жалко бабушку, и она спешила к ней и обнимала ее. И обе плакали – вместе – от горя, от жалости к себе и от радости, что снова нашли друг друга.
Недалеко от Хижины на Мысу, по дороге в поселок, была пекарня, и хозяин ее давал им раз в неделю бесплатно белую булку. В те дни, когда Марен не поднималась с постели, за хлебом ходила Дитте. Девочка всегда бывала голодна, и для нее это поручение было связано с большим искушением. Всю дорогу обратно домой она мчалась бегом, чтобы удержаться от соблазна, и, когда ей удавалось донести хлеб в целости до дому, обе они одинаково радовались. Но иногда голод пересиливал, и девочка на бегу выщипывала из теплой еще булки мякиш. Ей не хотелось, чтобы это было заметно, и она выщипывала сбоку – по крохотным кусочкам, но не успевала опомниться, как от булки оставалась одна пустая корка. Тогда Дитте злилась на себя, на бабушку, на весь свет.
– Вот тебе хлебец, бабушка, – говорила она, швыряя корку на стол.
– Спасибо, дитятко. Он свежий?
– Да! – И Дитте убегала и пряталась.
А старуха сидела, глодала корку слабыми деснами и бранила внучку:
– Негодница!.. Розгами бы ее!.. Прогнать со двора! Пусть попадет в сиротский дом!
Богадельня, сиротский дом – ничего хуже этого обо они представить себе не могли. Мысль о том, что они могут попасть туда, постоянной угрозой висела над ними. И когда Марен начинала говорить о сиротском доме, Дитте выскакивала из своего уголка, плакала и просила прощения. Старуха тоже плакала, и потом обе принимались ласкать и утешать друг друга.
Однажды Марен после такой сцены начала вздыхать:
– Ох-ох-ох! Тяжело нам жить на свете! Был бы – у тебя отец… настоящий отец… Правда, тебе доставалось бы от него – без выучки человеку не набраться ума-разума, но зато я жила бы, пожалуй, у вас в доме, вместо того, чтобы ходить по миру!
И только она это сказала, на дороге перед домом остановилась телега, запряженная старой, костлявой клячей. Рослый, кудлатый и бородатый человек спрыгнул с передка телеги, бросил вожжи на спину лошади и, сутулясь, направился к дому.
– Это торговец селедками, – объявила Дитте, стоя на коленях на плетеном стуле под окном. – Открыть ему дверь, бабушка?
– Да, впусти его.
Дитте откинула на входной двери крюк, и человек вошел в сени. На нем были высокие брезентовые сапоги с деревянными подошвами и штаны, заправленные в голенища. Он громко топал ногами и никак не мог выпрямиться во весь рост в низеньких сенях. Он постоял немного в дверях кухни, осмотрелся и вошел в комнату. Дитте глядела на него, спрятавшись за бабушкину прялку. Он протянул старухе руку и, видимо, смутился, потому что Марен не протянула ему своей руки.
Дитте прыснула со смеху.
– Бабушка у нас слепая!
– Вот как! Ну, тогда странно было бы требовать, чтобы вы меня разглядели, – пошутил он и сам взял старуху за руку. – А я ведь зятем вам прихожусь, если хотите знать. – Слова будто рокотали у него в груди, благодушно и весело.
Марен с живостью подняла голову:
– А на какой же из моих дочек вы женаты?
– На матери вот этой девчурки, – отозвался он и махнул на Дитте своей большой мягкой шляпой. – То есть мы не совсем женаты, как оно требуется по закону… У пастора еще не побывали. Решили отложить это, пока нет крайней необходимости, много есть других забот, поважнее. Но кров и очаг у нас имеются, хоть и очень скромные. Живем мы в целой миле пути за общественными лугами – на Песках. А домишко наш прозвали Сорочьим Гнездом.
– А как зовут тебя самого? – спросила Марен.
– Ларc Петер Хансен, как окрестили.
Старуха подумала немножко и покачала головой:
– Нет, такого что-то не припомню.
– Так не вспомните ли отца моего, по прозвищу Живодер?
– О нем-то я слыхала, хоть и не с лучшей стороны.
– Так, пожалуй, со многими бывает, – добродушно ответил Ларc Петер Хансен. – Не всегда волен человек в прозвище своем или в славе своей. Если у него совесть чиста, то и этого довольно. Но я вот ехал мимо и порешил навестить вас. Когда мы сговоримся с пастором, чтобы он обвенчал нас с Сэрине, я заеду за вами, и вы будете с нами в церкви. А может, вы захотите перебраться к нам еще до этого? Так, пожалуй, было бы лучше всего.
– Это Сэрине велела тебе спросить нас? – недоверчиво проговорила Марен.
Ларс Петер Хансен пробормотал что-то, похожее и на да и на нет.
– Я так и думала, что это твоя собственная затея. И спасибо тебе за твою доброту, но нам лучше остаться на своем месте. А на свадьбу приедем с удовольствием. Из моих восьмерых детей чуть ли не все уже поженились или замуж повышли, но на свадьбу свою никто еще не приглашал.
Марен задумалась и немного погодя спросила:
– А чем ты промышляешь?
– Я торгую селедками и… еще чем придется. Скупаю кости и тряпье, – у кого что насобираю.
– На этом, пожалуй, много не заработаешь. Людям приходится носить свое тряпье, пока ни одной цельной ниточки не останется – по крайней мере многим. Разве в ваших краях народ зажиточнее здешнего?
– Нет, должно быть, такой же, – изнашивает тряпки до последнего волокна, а кости свои таскает, пока те не рассыплются! – смеясь отозвался Ларc Петер. – Но чем-нибудь да надо промышлять.
– Да, да, чем-нибудь да надо кормиться! Но ты, должно быть, проголодался? Особого угощенья мы тебе предложить не можем, но кофейком, если не побрезгуешь, попотчуем. Дитте, сбегай в пекарню, скажи, что у тебя сегодня грех вышел с хлебцем и что у нас гость. Они тебя, пожалуй, побранят, но все-таки дадут другой. Бели же не дадут, то скажи, что мы как-нибудь обойдемся без хлебца на будущей неделе. Но ты расскажи всю правду. Беги же. Да не отщипывай от хлебца.
Дитте не очень-то спешила идти. Тяжелое наказание наложили на нее, и она мешкала в надежде, что бабушка пожалеет ее и позовет обратно. Щипать хлебец… Нет, этого она уж не станет больше делать ни сегодня, ни потом, никогда в жизни. У нее уши горели от стыда, что ее новый отец узнал об этом, да и в пекарне теперь
узнают, какая она негодная девчонка, обижает бабушку. Выпутаться как-нибудь враньем она не хотела. Выгораживать себя ложью – все равно, что сбивать головки чертополоха, говорила бабушка, на месте одной сбитой вырастет полдюжины новых. И Дитте сама убедилась в этом. Ложь всегда потом обнаруживается, и тогда еще труднее бывает выпутаться из нее! Дитте и собственным умишком дошла до вывода, что лгать не стоит.
Ларс Петер Хансен сидел у окошка, глядя вслед девочке, которая сначала еле плелась по дороге, а потом вдруг припустилась бегом.
– Как вы с нею справляетесь? – спросил он Марея.
– Она девочка неплохая, – отозвалась старуха из кухни; там она начала ощупью разводить огонь под плитой. – Другой опоры у меня нет, да и не надо. Но она еще мала, а я старуха, и ей тяжело со мной. Тут две крайности. Жеребенку хочется бегать, а старой кляче – дремать у яслей. Невесело проводить детство около старой развалины.
Дитте влетела в пекарню вся запыхавшись, так торопилась она поскорее исполнить поручение и вернуться домой к тому большому, сутулому, добродушно бурчащему человеку.
– Теперь у меня есть отец, как у других детей! – крикнула она, задыхаясь. – Он сидит в гостях у бабушки. И у него собственная лошадь с телегой!
– Неужто? – спросили люди с удивлением. – Как же его зовут?
– Живодером! – с важностью сообщила Дитте.
Видно, здесь его знали. Дитте заметила, как люди переглянулись.
– Ну, стало быть, ты хорошего роду! – сказала жена пекаря и положила на прилавок хлебец; она, поглощенная этой новостью, очевидно, забыла, что девочка уже приходила к ним сегодня за хлебом.
А Дитте, не меньше ее поглощенная тем же самым, подхватила хлебец и убежала. И вспомнила о том, что должна была сказать, только на полпути к дому, когда уже поздно было.
На прощанье Ларc Петер Хансен подарил им два десятка селедок и повторил, что заедет за ними, когда будет свадьба.
XI
НОВЫЙ ОТЕЦ
Месяцев десяти от роду Дитте любила все совать себе в рот и пробовать – съедобное или нет?
Дитте смеялась теперь над бабушкиными рассказами о той поре. Теперь ведь она стала уже большой девочкой и поумнела. Знала, какие вещи несъедобные, но зато ими приятно любоваться, а вот такие-то съедобные, но лучше всего поберечь их, на них нужно посмотреть только и представить себе, какие они вкусные, да поглаживать себя при этом по животику и, жмурясь, причмокивать от восхищения. Тогда удовольствия от лакомства хватало надолго.
– Какая же ты глупышка! Отчего ты не скушаешь, пока это не испортилось? – удивлялась бабушка.
Но Дитте умела быть экономной. Она ходила, переживая в воображении вкус чего-нибудь, например, подаренного ей румяного яблочка.
Она прикладывала его к щеке, подносила к губам и целовала. Или возьмет да спрячет его подальше и с какою-то тихой, благоговейной радостью долго лелеет втайне мысль о нем. Если же потом найдет, бывало, яблочко уже сгнившим, то невелика беда. Ведь девочка уже много раз мысленно насладилась его вкусом. Бабушка такого удовольствия не понимала. На старости лет она становилась жадной. Теперь уже старуха никак не могла насытиться и набивала себе рот чем придется.
А в свое время как они оба с Сэреном оберегали малютку, боясь, чтобы она не проглотила чего-нибудь вредного, не захворала бы! Особенно беспокоился дедушка и то и дело остерегал ребенка: «Нельзя совать в рот, ни-ни!» Несколько мгновений Дитте глядела на него во все глаза, потом извлекала из ротика все, что в него засунула, и пыталась положить это в рот деду. Может быть, она пыталась заручиться сообщником, а может быть, малютка полагала, что он не велит ей совать в рот то или другое потому, что ему самому хочется пососать это? Дедушка так никогда и не разобрался в причинах.
Во всяком случае, Дитте рано выучилась считаться с эгоизмом людей. Когда они советовали ей что-нибудь или наставляли на путь истинный, то, конечно, не столько ради ее блага, сколько ради своих собственных интересов. Девочки постарше, встретив ее по дороге с яблоком в руках, часто говорили:
– Фу! Фу! Брось это гадкое яблоко, а то червяка проглотишь!
Теперь Дитте уже не слушала таких советов, – она успела убедиться, что девочки за ее спиной поднимали это яблоко и сами съедали его. Вообще на белом свете не все складывалось так просто, как казалось; напротив, за тем, что улавливали глаза и уши, скрывалось обыкновенно еще что-то, и часто как раз самое главное.
Бывало и так, что люди попросту держали у себя за спиной то, что могло угрожать другим людям, например, палку, поэтому не мешало всегда быть настороже.
Ну, уж, конечно, не с бабушкой. Она была просто бабушкой, только бабушкой – при всяких обстоятельствах, и ее незачем было остерегаться. Она только чем дальше, тем больше ныла и вовсе уж не могла ничего делать. Теперь на плечи Дитте легли все домашние заботы, и она научилась добывать пропитание. Она знала сроки, когда на каком хуторе сбивали масло или резали скотину, и вовремя поспевала туда, чтобы выпросить кое-что для бабушки.
– Отчего вы не попросите у местных властей, чтобы вас взяли на попеченье? – спрашивали Дитте некоторые хозяйки, но все-таки подавали ей. Нельзя в такое время отпускать нуждающегося с пустыми руками, не будет тогда удачи в хозяйстве.
Когда обстоятельства сложились таким образом, Дитте не могла питать прежнего уважения к бабушке и обходилась с нею все чаще, как с большим избалованным ребенком, – то журила ее, то ласково уговаривала.
– Да, тебе хорошо говорить, – сказала однажды старуха, – у тебя глаза зоркие, ноги здоровые, тебе все дороги открыты. А у меня впереди одно утешение– могила.
– Так тебе хочется умереть? – спросила Дитте. – Пойти к дедушке?
Ну, понятно, старухе не особенно хотелось умирать. Но нельзя было все же не думать о могиле, она постоянно о себе напоминала – и пугала и притягивала. Старым, усталым косточкам уже не отдохнуть здесь на земле как следует, долгий-долгий сон под дерновым покровом рядом с Сэреном манил старуху. Только бы знать наверное, что не придется там мерзнуть; да еще – что девчонка не пропадет без нее!..
– Ну, я просто уйду к своему новому отцу, – успокаивала ее Дитте всякий раз, как заходил этот разговор. Право, бабушке незачем беспокоиться о ней. – Но ты думаешь, что дедушка Сэрен все еще там?
Н-да… На этот счет у старой Марен не было настоящей уверенности. Она хорошо представляла себе могилу как последний, окончательный предел земного пути и мирилась с этим представлением; и что же может сравниться с блаженством склонить свою усталую голову там, где не проезжают никакие телеги, навек избавиться от ревматизма и всяких тревог, и забот, и от смертельной усталости – только отдыхать, отдыхать. Но, пожалуй, не всем это блаженство дается. Разное говорят на этот счет. Пастор – одно, миссионер – другое. Пожалуй, Сэрена и нет там больше, придется ей разыскивать его. Да и найти его будет трудненько, если он после смерти стал таким же, каким был в молодости – непоседой, буйной головушкой. А ведь где он, там должна быть и Марен, об этом и спорить нечего. Ох, всего лучше, всего желаннее было бы для нее улечься рядышком с ним на покой, на вечный покой в награду за все эти годы земной маеты.
– Я просто уйду к своему новому отцу! – повторяла Дитте по всякому поводу.
– Ну и уходи! – обиженно откликалась старуха; ее задевало равнодушие Дитте.
Но Дитте необходимо было знать, что у нее имеется настоящая опора, защита. Бабушка для этого больше не годилась – слишком стара стала и беспомощна, да еще к тому же она женщина. Тут нужен был мужчина.
И вот он нашелся! Теперь Дитте, укладываясь вечером спать за спиною бабушки, засыпала с новым ощущением уверенности и спокойствия: у нее ведь тоже есть настоящий отец, как у других детей; отец, который женат на ее матери, имеет собственную лошадь с телегой. Тощий и плешивый молодой хозяин хутора был такой скряга, такой черствый и холодный, что подойди к нему поближе – сама замерзнешь, и Дитте никогда не могла бы сдружиться с ним. А этот Живодер взял ее к себе на колени и своим рокочущим басом спел ей на ушко песенку. Пусть кричат Дитте вслед «шлюхино отродье» – ей и горя мало. У нее теперь есть отец, да еще повыше ростом, чем у других ребятишек; ему приходилось нагибаться, когда он входил в сени и в дверь бабушкиной комнаты.
Жизнь потекла спокойнее, ровнее, а сама Дитте чувствовала себя будто богаче. С этим ощущением она теперь и спать ложилась и, просыпаясь утром, радовалась, что ей не приснилось, а что у нее действительно есть отец. На такого отца можно надеяться; это не то, что старая слепая бабушка, вся как будто свернутая из тряпок. Дитте всегда с одинаковым удивлением следила за тем, как старуха раздевается по вечерам, снимает с себя юбку за юбкой, кофту за кофтой, все худея и худея, пока наконец, словно по волшебству, не превратится в настоящий птичий скелет, в высохшую старушонку, попискивающую, как неплотно прилегающая печная вьюшка.
Дитте и бабушка заранее радовались, ожидая, когда новый отец повезет их к себе на свадьбу. Тогда он, конечно, приедет в коляске с сиденьем и на рессорах, а не на простой телеге, как у всех торгашей. И приедет он как раз в такой день, когда им придется особенно туго. Вот у них нет еды, нет кофе, и вдруг перед хижиной слышится веселое щелканье кнута, и подъезжает он сам! Подымает кнутовище высоко-высоко кверху и, перевернув, опускает, низко-низко, словно отдавая поклон, шутник этакий! А когда они станут садиться в коляску, он все время будет держать кнут стоймя кверху, как делает господский кучер в поместье Эллебек.
Никто никогда не приезжал еще к старухе Марен, чтоб звать ее в гости, и она, пожалуй, ждала этого события даже нетерпеливее внучки. И заранее расписывала его девочке на все лады.
– А я-то уж думала, что выеду отсюда в первый раз только на кладбище, – прибавляла она всякий раз. – Но вот дела-то какие! Недаром у твоей матери всегда были повадки, как у благородной!
Их убогое существование наполнилось новым смыслом. Дитте перестала скучать и не искала развлечения в злых проказах. К тому же у нее появилось чувство какой-то ответственности за бабушку, нуждавшуюся в ее попечении, и они больше сблизились между собою.
– Какая ты добрая, как заботишься обо мне, старой, дитятко мое! – вырывалось у старухи, и обе плакали, сами не зная отчего.
Маленькая шустрая девочка стала глазами своей бабушки, и старухе Марен приходилось теперь обращаться за помощью к внучке. Когда же она привыкла к этому и прониклась доверием к девчонке, дело пошло совсем на лад. А если Дитте иногда пыталась подшутить над старухой, Марен стоило только спросить: «Ты ведь не обманываешь меня, дитятко?» – и девочка сразу становилась серьезной. Смышленая она была и расторопная. Марен – если уж нельзя было вернуть собственные глаза – и пожелать себе не могла лучших, чем внучкины глазки. Невесело ей было сидеть да шарить вокруг себя, подвигаться ощупью, вертеть головой в сторону каждого звука и все-таки ничего толком не понять! Но вот благодаря Дитте старуха понемногу вернулась к своим прежним привычкам.
Больше всего, пожалуй, Марен страдала оттого, что не видела неба. Погода всегда играла в ее жизни большую роль, и не столько сегодняшняя погода, как та, что ожидалась на другой день. Недаром Марен была из рыбацкого рода. Она только следовала примеру своей матери, как та – своей; с малых лет, едва войдя в разум, они вглядывались в небо и ранним утром и поздним вечером. Небо распоряжалось всем в жизни рыбаков: оно милостиво ставило на их стол пищу изо дня в день, и оно же, разгневавшись, сметало со стола еду, отнимая у семьи кормильца. Бывало, Марен по утрам прежде всего смотрела на небо и последний свой взгляд перед тем как лечь в постель посылала ему же. «Ночью гроза будет», – говорила она, возвращаясь домой. Или: «Завтра улов будет хороший!» Дитте понять не могла, откуда бабушка это знает. Теперь Марен уже редко выходила из дому и погода, в сущности, не играла в ее жизни особенной роли, но старуха по-прежнему интересовалась ею.
– Погляди, каково небо сегодня? – спрашивала она каждый день.
Дитте выбегала и обводила горизонт озабоченным взглядом, поглощенная данным ей поручением.
– Небо красное-красное! – докладывала она, вернувшись. – И кто-то едет там на мокрой лошади. Значит, завтра дождь будет?
– А солнце куда садится? В тучу? – спрашивала старуха, и Дитте снова убегала.
– Никакого солнца нету, – сообщала она, с нетерпением ожидая заключения бабушки.
Но старуха качала головой. Путает девчонка. И не разберешься. Выдумывает много.
– А кошка сегодня траву ела? – спрашивала Марен немного погодя.
Этого Дитте не заметила, но видела, как кошка прыгала и ловила мух.
Марен призадумывалась и затем изрекала:
– Да, это вряд ли к добру. Поди-ка, взгляни: нет ли ввез дочек под кофейным котелком на печке.
Дитте приподнимала тяжелый котелок. Да… в саже, покрывшей его дно, перебегали искорки, словно огненные мурашки.
– Ну, быть буре! – говорила бабушка с облегчением. – Недаром у меня уж который день суставы ломит!
И если буря в самом деле налетала, Марен никогда не забывала сказать Дитте:
– Видишь? Я говорила!
И Дитте дивилась бабушкиной премудрости.
– Тебя и зовут знахаркой, потому что ты все знаешь? – спрашивала она.
– Да, пожалуй. Но не велика мудрость знать немножко побольше других, – надо только глядеть хорошенько. А ведь среди людей немало дураков.
Ларс Петер Хансен не показывался к ним и не давал о себе знать чуть ли не целый год. Пытались они расспрашивать о нем кое-кого из проезжавших мимо людей, в которых можно было угадать жителя с той стороны, но мало что узнали. Под конец они уже готовы были усомниться – да полно, был ли он у них в гостях в самом деле? Пожалуй, и это был сон, как приключение Дитте в сказочной стране?
И все-таки Ларc Петер в один прекрасный день явился и подъехал к дому. Кнутом он, правда, не щелкал, но пытался щелкнуть длинным прутом орешника с привязанной к нему бечевкой. А Большой Кляус – старый костлявый одер – в ответ на это мотал головой и ржал.
Телега была та же самая, но в ней сегодня прилажено было настоящее сиденье с зеленой мягкой спинкой, из которой торчала набивка. И старая мягкая шляпа хозяина телеги была все та же самая – тулья ее лоснилась от времени, к полям прицепились паутина и соломинки. А из-под нее, как всегда, выбивалась копна волос, столь пропыленная в дороге, утыканная репьями и еще невесть чем, что птицы небесные легко могли бы соблазниться и начать вить в ней себе гнездо.
– Ну, что скажете насчет того, чтобы прокатиться со мной? – весело крикнул он, громко топая по полу. – Поглядите, какую хорошую погоду я вам привез!
Еще бы не привез! Бабушка-то позаботилась о сегодняшней погоде еще вчера, хоть и не подозревала о его приезде. Вчера вечером она провела рукой по запотевшему стеклу и сказала: «Этой росе блестеть завтра на утреннем солнышке!»
Ларса Петера Хансена усадили, и Дитте принялась разводить огонь в печурке и варить кофе.
– Да ты, я вижу, молодец-девочка! – воскликнул он, когда она подала ему кофе. – Надо расцеловать тебя за это! – Он приподнял ее кверху и поцеловал, а Дитте уткнулась лицом в его щетинистую щеку и затихла. Вдруг Ларc почувствовал, что щека у него стала влажной, повернул девочку лицом к себе и, со страхом спросив, чем же он ее обидел, спустил на пол.
– Какое там обидел! – сказала бабушка. – Девочка только и бредила всегда отцовскою ласкою и вот дождалась наконец, хотя это и не бог весть какая радость. Пусть ее выплачется. Детские слезы быстро высыхают.
Но Ларc Петер Хансен вошел за Дитте в каморку, куда складывали торф, – девочка лежала там, свернувшись в углу, и рыдала. Бережно извлек он ее оттуда, вытер ей слезы своим пестрым носовым платком, который, видно, был в ходу не первый день. «Мы с тобой поладим… отлично поладим», – твердил он, утешая девочку. Его густой бас успокаивал ее, и она вернулась в комнату, держась за руку отца.
Бабушка была большой охотницей до кофе, но не признавалась в этом и вот решила воспользоваться случаем выпить тайком лишнюю чашечку. Да, наливая второпях, пролила, и теперь ощупью старалась вытереть стол, чтобы уничтожить следы. Дитте помогла ей снять залитый кофе передник и мокрою тряпкою вытерла подол бабушкиной юбки, чтобы не осталось пятен, – все это с чисто материнской заботливостью. Сама Дитте не захотела пить кофе, – она была так переполнена радостью, что в рот взять ничего не могла.
Потом бабушку старательно укутали, и Ларc Петер усадил обеих в повозку. Бабушка поместилась рядом с ним на сиденье, а Дитте полагалось сесть позади, на мешке с сеном для лошадей, но она устроилась впереди, у них в ногах; тут она была ближе к ним. Ларc Петер начал понукать Большого Кляуса – покрикивал на него и то натягивал, то опускал вожжи. Наконец коняга рванулся вперед, повозка дернулась, колеса завертелись, и они покатили.
День стоял чудесный, ясный. Дюны, казалось, нежились на солнце, как и видневшиеся вдали леса и луга. С высоты повозки все казалось Дитте новым, необычным – не таким, каким представлялось ей, когда она бегала внизу по земле босиком. Все как будто кланялось ей теперь – и холмы и леса – все, все кругом. Ей не часто приходилось кататься, в первый раз в жизни ехала она так важно, поглядывая на все сверху вниз. Эти крутые холмы, громоздившиеся друг на друга, всегда загораживали ей вид и порою задавали большую работу ее детским ножкам; сегодня же они словно расступились перед нею и приглашали: «Милости просим, Дитте! Проезжай, не стесняйся!» Бабушка, конечно, ничего этого не могла видеть, но она чувствовала, как солнце приятно грело ее старую спину, и у нее появилось хорошее настроение.
Большой Кляус не торопился, и Ларc Петер предоставлял ему самому распределять свои силы, соразмерять их с расстоянием. Он только легонько похлестывал коня по спине, а тот уже так привык к этому щекотанью вдоль хребта, что не мог без него обходиться. Но стоило только хозяину замешкаться, пока он указывал спутницам какое-нибудь местечко, Большой Кляус нетерпеливо мотал головой и оглядывался назад, к великой потехе Дитте.
– Он совсем не умеет бегать? – спросила она, становясь между коленями отца.
– Еще как умеет! – с гордостью ответил Ларc Петер Хансен, подобрал вожжи и хлестнул коня по спине, но конь совсем остановился и с удивлением повернул морду назад. А когда его начали подстегивать вожжами, он только взмахивал хвостом да мотал головой. Дитте покатывалась со смеху.
– Сегодня ему не хочется бежать рысью, – сказал Ларc Петер, когда ему удалось наконец пустить Большого Кляуса привычным аллюром. – Ему кажется, что если он все время шел таким крупным шагом, то просто недобросовестно заставлять его еще бежать.
– Он это сказал тебе? – спросила Дитте, изумленно поглядывая то на отца, то на Кляуса.
– Ну, так по крайней мере можно было понять его. И, пожалуй, он прав.
Да, коняга шел крупным шагом, старался вовсю! Но никогда не делал и двух одинаковой ширины, так что повозка двигалась рывками и зигзагами. Вообще коняга был презабавный. Словно весь собранный из разных кусков – такой нескладный и костлявый. В нем как будто не было и двух одинаковых, хорошо пригнанных частей, и двигался он с каким-то храпом и сопеньем, все суставы у него хрустели, и во вздутом брюхе урчало.
Они ехали мимо большого барского имения Эллебек, через общественные луга и дальше по таким местам, которых бабушка никогда не видала.
– Да ведь ты и сейчас их не видишь, – ввернула Дитте.
– Ох, вечно ты цепляешься к словам, сущая придира! Как же не вижу? Я слышу, как вы разговариваете обо всем, что вокруг нас, и я как будто вижу это воочию. Поистине благодать божия, что мне приходится пережить такую радость на старости лет. Но чем это так вкусно пахнет?
– Должно быть, пресною водою, бабушка, – сказал Ларc Петер. – В полумиле отсюда налево большое озеро Арре. У бабушки нюх тонкий на напитки! – И он добродушно засмеялся собственной остроте.
– Это, видно, та самая вода, которую без вреда можно пить, – задумчиво произнесла Марен. – Сэрен мне рассказывал о ней. И мы всё хотели побывать там на ловле угрей ночью, да так и не собрались. А красиво это, должно быть, летней ночью – все эти огоньки на лодках и вблизи и вдали.
Ларс Петер, между прочим, сообщил кое-что о своих семейных делах. Свадьбы сегодня никакой не предстояло, они поженились вот уже скоро девять месяцев тому назад, потихоньку. «Пришлось поторопиться! – пояснил он в виде извинения. – А то мы непременно пригласили бы вас».
Марен на некоторое время притихла. Она ведь так радовалась было, что хоть одну из своих дочек увидит под венцом. И вот из этого ничего не получилось, но в общем поездка была чудесная.
– Что ж, и дети уже есть? – спросила она спустя некоторое время.
– Мальчишка, – ответил Ларc Петер. – Настоящий крепыш, буян! А лицом весь в мать! – Отец так и расцвел при мысли о малютке. – А теперь Сэрине опять в положении, – тихо добавил он.
– Вы, видно, не теряете времени даром, – отозвалась Марен. – А как она себя чувствует?
– На этот раз плоховато. Все жалуется, что в горле першит и жжет.
– Стало быть, родится длинноволосая девчонка, – решила Марен. – И, видно, скоро, раз ее волосы уже в горло матери лезут.
Этот сентябрьский день был на редкость хорош. Пахло созревшими плодами, воздух был напоен влагой, которая словно паром клубилась над озаренными солнцем полями, повисала голубоватою дымкою между деревьями и оседала в низинах и ложбинах, так что каждый лужок и каждое болотце казались серебристыми прудами.
Дитте не переставала удивляться, как безмерно велик мир. На горизонте появлялись все новые леса, селения, церкви; не показывался только ежеминутно ожидаемый конец всего света. Далеко-далеко на юге вдруг заблестели на солнце какие-то башни.
– Это королевский дворец, – сказал Ларc Петер.
И сердечко Дитте сильно забилось от этих слов.
– А прямо впереди что?
– Да, чем это опять запахло?! – воскликнула старуха, принюхиваясь. – По-моему, солью! Должно быть, близко море?
– Ну, еще не близко, до него больше мили. Неужто вы в самом деле почуяли море?
– Да, да! Никому не понадобится оповещать старуху Марен, что поблизости есть море. Слишком долго прожила я около него! А какое же тут у вас море?
– То же самое, что и около вас, – ответил Ларc Петер.
– Так не стоило, пожалуй, и тащиться сюда через всю страну, – заметила Марен смеясь.
Тут они и приехали. Совсем неожиданно Большой Кляус остановился, а Ларc Петер спрыгнул с повозки.
– Ну, вот! – сказал он и высадил их.
С мальчуганом на руках показалась Сэрине, такая полная, что ребенок упирался ножонками ей в живот. Вообще она стала на вид такою рослой и крепкой. Дитте испугалась этой крупной, краснощекой женщины и спряталась за бабушку.
– Она еще не знает тебя, – сказала Марен дочери. – Потом обойдется.








