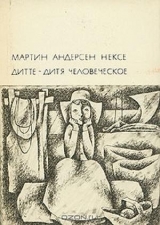
Текст книги "Дитте - дитя человеческое"
Автор книги: Мартин Андерсен Нексе
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 50 страниц)
Все вообще приходило и уходило как-то само собой, становясь все неопределеннее, расплывчатее по мере того, как девочка согревалась и ее все больше клонило ко сну. На секунду ей пригрезился Большой Кляус, мирно жевавший в своем стойле, там, дома, в Сорочьем Гнезде, потом пригрезилась новая гостиница, которую собирались построить в поселке, а на самом пороге в царство сна мелькнул перед ней Карл.
Карл меньше всего годился в герои. Предметом восхищения мог стать для Дитте лишь мужчина совсем иного склада. Но беспомощность Карла трогала ее. Он страдал, и она жалела его. Иной раз она готова была заплакать, глядя, как он бродил, словно бесприютный сирота, в собственном доме. А для Дитте пожалеть значило попытаться помочь. Всегда готовая взвалить на себя новое бремя, она тщетно напрягала свой умишко, чтобы найти выход для Карла из его положения, и не могла отделаться от этих мыслей. Надо бы ему убраться отсюда подальше, к своему славному брату учителю, и помогать тому работать в школе. Карл не умел внушить к себе уважение, но зато как хорошо он пел псалмы!
Ей самой очень хотелось попасть в услужение в столицу. И вот она лежала и фантазировала в полусне, что уже попала туда и как раз к самому учителю. Вот она подает ему в перемену горячий кофе, и он весело улыбается ей, так как она без его ведома испекла крендельки к кофе. «Ты у меня славная хозяюшка», – говорит он и гладит ее по голове. Дитте хочет сделать книксен, но вдруг ей словно прострелили ногу, и она проснулась. Бабушка считала, что это предупреждение, и говорила, что ты, значит, кому-то нужна в эту минуту.
Дитте приподняла голову и, затаив дыхание, стала прислушиваться. За порогом кто-то жалобно мяукал. «Это кот, – подумала она. – Ему холодно, и он просится ко мне… или просто ему скучно…»
– Беги в амбар ловить мышей, котик! – сказала она. Но кот замяукал еще громче и стал царапаться в дверь. Дитте вскочила и отперла. В лицо ей хлестнуло холодным ветром со снегом. А кот ничуть не торопился броситься к ней. Он всегда впадал в раздумье некстати; пришлось схватить его за загривок и втащить в каморку. Затем она поскорее улеглась в постель, а кот прыгнул на изголовье кровати и стал мурлыкать у самого лица Дитте.
– Ну так иди сюда, глупый! – позвала его она, приподнимая перину.
Но кот спрыгнул на пол и побежал к двери. Дитте видела в потемках, как сверкают его глаза, и слышала его жалобное мяуканье. Пришлось встать, чтобы снова выпустить его. Но за порогом кот словно совсем взбесился.
Дитте сначала попять не могла, что такое творится с глупым животным, но вдруг вспомнила, что кот остался сегодня без обычной вечерней порции молока. Дитте забыла покормить его! Вот так отличилась! И как это могло случиться с нею? Этакий грех! Разумеется, это был грех, большой грех перед котом, который должен всю ночь бегать в ловить крыс. Без молока кошки-крысоловки паршивеют. Завтра кот получит двойную порцию, и Дитте будет всячески заботиться о нем впредь.
Но так дешево ей не отделаться было от самой себя. Кот продолжал мяукать за дверью, и это мяуканье тревожило совесть Дитте все сильнее и сильнее. Она не позаботилась о вверенном ее попечению создании, это непростительно. Кот мяукал все жалобнее и жалобнее… и обидела его Дитте!
Она встала, сунула ноги в деревянные башмаки, взялась рукой за щеколду и стояла, дрожа от холода и чуть не плача. На дворе выла метель, и не было видно ни зги. Дитте стала потихоньку приотворять дверь… Ветер сотрясал все строения, рвал ворота и ставни, стонал и завывал всюду и на все лады. И вдруг словно кто рванул дверь и хлопнул ею о стену. Дитте вскрикнула и бегом пустилась по двору. Она знала, что это ветер, но все-таки испугалась.
Оставив свои деревянные башмаки на каменном приступке перед дверьми, она прокралась в кухню и ощупью отыскала кошкину плошку и крынку с молоком. Кот терся об ее голые ноги, это как-то успокаивало. Она зачерпнула молоко прямо плошкой из крынки, – это было нехорошо, но уж все равно теперь.
– Кис-кис! – шепотом позвала она, направляясь к выходу.
Дитте осторожно сошла с приступка, чтобы не пролить молоко, и стала наугад пробираться по двору. Мороз так и щипал ее, но дрожала она больше со страха, у нее даже волосы на затылке шевелились.
Вдруг она оцепенела от ужаса: прямо перед ней выросла темная фигура, едва выступавшая из мрака. Дитте готова была закричать и бросить плошку, да как-то догадалась, что это водокачка. Разом воспрянув духом, она направилась к риге; с вечера плошку с молоком обыкновенно ставила туда, чтобы кот провел там всю ночь.
Собираясь отворить дверь риги, Дитте вспомнила об удавленнике, и ее опять охватил страх. Она хотела бежать, но побоялась пролить молоко. С минуту стояла она, держа плошку обеими руками, как окаменелая; затем, прислонясь спиной к дверям риги, чтобы никто не мог выскочить оттуда и схватить ее, она наклонилась и поставила плошку на снег перед дверью.
Когда она выпрямилась, в южном конце жилого дома, где находилась спальня хозяйки, показался свет. Весь страх прошел у Дитте, теперь ее распирало любопытство. Спешить было некуда, и она не двигалась с места, выбивая зубами дробь от холода. Карен с зажженной свечкой в руках вышла из дверей кладовки. Она была в одной рубашке, волосы подобраны под платок, завязанный на затылке. Затем она медленно, бесшумной поступью прошла по коридору, держа в одной руке свечу, а в другой что-то еще – быть может, нож? Верно, проголодалась и ходила в кладовку сделать себе бутерброд с копченой бараниной!
В жилой комнате около кухни она остановилась и подняла кверху предмет, бывший у нее в руке. Дитте увидела, что это веревка, и девочку снова охватил безумный ужас. Она стала задом пятиться по двору к своей каморке, жалобно скуля от страха, как заблудившаяся собачонка. Повернуться спиной к страшному видению она не смела. А Карен прошла через кухню в черные сени и остановилась на пороге, глядя в ночной мрак. Пламя свечи высоко метнулось кверху и погасло.
Дитте не помнила, как очутилась в постели. Зарывшись под перину и вся скорчившись, дрожа всем телом, лежала она, желая только одного – поскорее уснуть, уйти от всего этого ужаса, а проснувшись завтра утром, увидеть, что ровно ничего не случилось. Это ведь бывает.
Встав поутру, она нашла плошку на том же месте, в снегу, около дверей риги, но рядом валялась веревка, и на: снегу виднелись следы больших голых ступней. Сама же Карен расхаживала по кухне и бранилась. Слава богу!..
VIII
КОНЕЦ СКУЧНОЙ ЗИМЕ
– Никаких-то радостей нет у нас здесь, на хуторе, только ходишь да расстраиваешься, – говаривала Сине.
А ведь из всех обитателей хутора она была самая проворная, здоровая и уравновешенная.
В самом деле, и мрак здесь на хуторе был как будто гуще, и холод алее; все неприятное и тяжелое давало себя знать резче, все отрицательные стороны проявлялись ярче. Тьма иной раз казалась такой черной, что
Дитте еле решалась выйти из дома; ноги то и дело подкашивались от испуга, вызванного то каким-нибудь странным звуком, то еще чем-нибудь. Вообще Дитте темноты не боялась, но тут иной раз на нее нападал такой страх, что она не смела пойти в ригу без фонаря, – так пугала ее мысль о повесившемся там отце Карла. Днем она еще храбрилась. Атмосфера страхов настолько сгущалась временами, – это всегда совпадало с кутежами Карен Баккегор, – что все вокруг, казалось, кишело призраками. Больше всех, пожалуй, мучился Карл. Бывали такие дни, когда он буквально боялся взять в руки обрывок веревки. Но это испытывали и другие обитатели хутора.
От старого постельного белья, переходившего по наследству из рук в руки, пожалуй, лет сто, отдавало чем-то затхлым, и этот запах, ощущаемый Дитте и во сие, вызывал у нее страшные видения. От старинных наволок пахло табаком и лекарствами, и девочке представлялась комната, где чахоточный муж хозяйки, с кровавой пеной на губах, свесив голову с постели, задыхался от кашля. А на кровати сидела грузная женщина с трубкой, пускала больному дым прямо в лицо и хохотала, когда дым попадал ему в рот. На полу сидел мальчуган и выводил рисунки, обмакивая пальцы в кровавые плевки… Дитте с криком просыпалась, чиркала впотьмах спичкой, хотя это строго запрещалось, и только тогда успокаивалась.
Так порою сгущалась атмосфера. Но Дитте всегда умела стряхивать с себя гнет; в конце концов все это не касалось ее лично. Другое дело Карл! Проклятие тяготело над ним, и он не мог сбросить его с. себя. Сине полагала, что от Карла можно ожидать чего угодно.
– Он весь в отца, – говорила она.
Материнского в нем ничего не было, – его любой мог загнать в угол. Всего замечательнее было то, что вместе с тем он отличался достаточным упорством в известных отношениях, где его не взять было ни добром, ни силой. Он не прикасался к табаку и осуждал греховное поведение матери, все теснее сближаясь со святошами. Когда же Карен стала кутить с Йоханнесом и его приятелями, Карл записался в «Общество трезвенников». Это был своего рода протест, сын как будто задался целью искупить грехи матери. Но постоять за себя не умел и, когда мать насмехалась над ним, отмалчивался.
– Ты, как видно, стал повесой, все за девками бегаешь, – язвила она во всеуслышание, когда он шел на «беседу». – Да ничего, видно, не поделаешь – возраст такой!
Карл уходил, как будто и не слышал ее слов. Не действовали на него и прямые запреты. Мать всячески старалась задержать его и помешать пойти на «беседу», но Карл все-таки удирал. Обычно он дрожал перед матерью, как собака, но, видно, больше всего боялся прогневить бога.
Дитте хотелось, чтобы он вообще был посмелее – например, вступился бы за нее и за Сине, когда хозяйка чересчур придиралась к ним. Но он всегда предпочитал улизнуть.
А Карен становилась все придирчивее, и все труднее было ей угодить, – всем и всеми была она недовольна. Быть может, оттого, что ей нужен был муж… да еще молодой, как объяснила Сине. Во всяком случае, поведение хозяйки отбивало охоту к работе, портило настроение и больше всего тяготило Дитте – ведь никуда не уйти было от этой гнетущей. обстановки.
По внешнему виду Дитте трудно было заметить что-либо – она ведь и прежде не была птичкой-щебетуньей, всегда отличалась серьезностью. Присущий ей оптимизм, глубоко заложенный в ее душе, сказывался главным образом в радостном рвении, с каким она бралась за всякую работу. С тех пор как судьба лишила ее радостей детства, все радости жизни заключались для нее в работе. Вот отчего у нее так и спорилось все в домашнем быту. Ее любвеобильное сердце помогало ей сохранять теплые сестринские отношения с младшими детьми и в то же время заставлять их слушаться. Это не всегда бывало легко, часто вместо ласки приходилось прибегать к строгости, чтобы добиться своего. Но в конце концов все улаживалось благодаря ее неистощимому запасу бодрости, которой она невольно заражала всех окружавших. А когда Дитте удавалось наконец добиться своего, она сменяла строгость на ласку.
Вначале, чтобы дети слушались ее, нельзя было обойтись без шлепков, но с течением времени надобность в этом отпала. Там, где наказание было необходимо – для пользы самих же детей, – она руководствовалась уроками своей бабушки. Если дети пачкали одежду, то платились за это самым чувствительным образом: их укладывали в постель – лежи, вместо того чтобы играть, пока платье или белье не будет выстирано. Наказание являлось естественным следствием их проступка, и дети понимали, что обязаны этим наказанием не Дитте, а собственному поведению.
– Сам теперь видишь, что надо быть поосторожнее, – говорила Дитте с невинным видом. Она даже являлась как бы ангелом-спасителем, к которому они чувствовали признательность за то, что он исправлял беду.
Так применялась она к обстоятельствам и понемногу сама уверовала, что в жизни существует справедливый порядок вещей, и поэтому так хорошо и управляла своим маленьким мирком. Порядок этот нарушался, если работа не доставляла радости, если к ней относились с пренебрежением или равнодушием. Дитте инстинктивно ненавидела всякий беспорядок и была твердо убеждена, что он потом скажется во всем. Как ни отвиливай от работы, ее все равно придется сделать – так было всегда, сколько она себя помнила, и примером тому являлся ее опыт по части мокрых штанишек. Теперь жизнь стала куда сложнее, но подчинялась тому же закону. Если нарушишь его, – не знать тебе покоя. Наденешь, например, дырявые чулки утром и ходишь целый день да казнишься. Или вот, когда она забыла вечером дать коту молока, – пришлось встать из-за этого среди ночи, иначе не заснуть было, – все время чудилось жалобное мяуканье.
Дитте была настоящей труженицей по своей природе. Жизнь не баловала ее другими радостями, зато ей в полной мере отпущена была радость труда, и она наслаждалась ею, как наградой сердцу за собственную доброту. Руки у нее были загрубелые, шершавые, голос хрипловатый, неблагозвучный, и ей не в чем было, кроме труда, проявить свои лучшие качества. В труде развертывалось все ее существо скромным, но полезным цветком. Она ничем особенно не выделялась, была настоящей скромной труженицей, которая с радостью делала все для других.
Но на хуторе никто не ценил ее за это. Здесь труд вообще не любили, смотрели на него, как на докучное бремя, брались за него лишь поневоле. Вот и делалось все кое-как. Дитте чувствовала, что всему виной отсутствие взаимной любви. Обитателей Хутора на Холмах ничто не связывало вместе. А с появлением там дяди Йоханнеса стало еще хуже. Он вносил только разлад и ожесточение; это Дитте знала, еще когда жила в Сорочьем Гнезде.
Словом, она устала от общества людей в жаждала летнего одиночества на пастбище. С нетерпением ждала весны в напряженно ловила признаки ее приближения; радовалась, когда сползла с нижнего склона крыши последняя снежная шапка, а еще больше радовалась, когда выглянули из-под снега на поле первые черные бугры земли, словно чья-то косматая спина. Медленно пробуждалась земля от зимней спячки. Сначала появились лужицы, затем ручейки; весенние струи пели свою песенку день и ночь; на оттаявшей почве вскакивали пузыри – в ней просыпались о бродили животворящие соки. Наконец земля в поле стала вязкой, как поднявшаяся опара, а над лугами заливались жаворонки.
Как раз в такой день Дитте послали на ту сторону общественных лугов – позвать на работу Расмуса Рюттера; пора было начинать весеннюю пахоту. Он не заходил на хутор с того дня, как они покончили с молотьбой, месяц тому назад; с тех пор для него работы не было. Вода еще не сошла, и местами вязкая, мокрая, суглинистая почва поминутно засасывала то один деревянный башмак Дитте, то другой; ей приходилось вытаскивать его, балансируя на одной ноге. Земля присасывалась к башмакам, словно жадный рот, и насилу отлипала с громким хлюпающим вздохом, смешившим Дитте.
Настроение у нее было прекрасное. Так приятно вырваться на часок из хутора! Приятнее же всего было то, что теперь лучи света проникали повсюду, многое-многое нужно было бы осветить там, на хуторе!
Хижина Расмуса Рюттера находилась на самом дальнем краю лугов, и от пастбищ до нее было не близко. На болотистой луговине, где Дитте обыкновенно пасла свое стадо, стояла еще вода; пришлось обойти кругом, держась края полей. Но интересно было смотреть вниз и узнавать свои гнезда, хотя за зиму они сильно пострадали. От этих мест веяло знакомым, словно домашним уютом, и ей еще сильнее захотелось, чтобы скорее настало лето.
Поденщика не оказалось дома. Жену его Дитте застала у печки, непричесанную и еще в одной рубахе, даром, что дело шло к полудню. В хижине было бедно и грязно.
– Ты не гляди на меня, – сказала жена поденщика Дитте, собирая на груди рубаху грязной рукой. – Столько возни по дому со всей этой уборкой, что самой-то и некогда прибраться.
Да, уж дом-то был прибран, нечего сказать! Все валялось где попало, даже кровати не были еще застланы.
На одной из кроватей дрались двое ребятишек, лет шести – восьми.
– Они больны? – спросила Дитте.
– Нет, почему? – ответила женщина. – Нам просто не во что одеть их всех, вот они по очереди и лежат в постели – то одна пара, то другая. Больно уж скверная выдалась зима для нас.
И она стала уговаривать Дитте подождать хозяина и напиться кофе.
– Ах, какая досада, что помазок запропастился, а то я заодно испекла бы тебе блин к кофе, – говорила женщина суетясь. – Я обещала ребятам блины к обеду, чтобы угомонить их, и тесто поставила, да вот помазка нет. Диво, да и только! Еще поутру я сама видела, как мальчишки дрались из-за него перед уходом в школу.
Женщина, хлестнув подолом, метнулась куда-то в угол хижины.
– Заткнитесь! – крикнула она ребятишкам, которые завопили в постели. – Не разорваться же мне!
Вернулась она, держа в руках что-то вроде длинной и грязной сальной свечки домашнего изготовления.
– Нашла-таки! Я так и знала! – сказала она и швырнула сковороду на огонь. Потом взяла принесенную свечку и концом ее помазала сковороду. Сковорода слегка замаслилась и слабо зашипела.
– Что это такое? – с удивлением спросила Дитте. – Свечка?
– Это… это просто кусок свиного сала. Он всегда лежит тут на печке, но сегодня утром старик мой брал его сапоги себе смазать, а потом мальчишки подхватили… Присядь же, сейчас кофе вскипит.
Но Дитте очень торопилась.
– Не могу, а то меня будут бранить! – сказала она.
Ей не хотелось пробовать этих блинов.
– Ну, как знаешь. Хорошо, что ты пришла. Старик без дела совсем скис, не знает, за что и приняться. Кормить его как следует не приходится, коли нет заработка, а тогда прощай лад в доме! Не будь у нас в запасе селедок да картошки, совсем бы пропали. Скверная была зима для нас. И погода плохая, и на хуторе дела плохие, и сам старик плох – так ничего, кроме плохого, и выйти изо всего этого не могло. Ждем не дождемся перемены к лучшему.
Наступили долгие и светлые дни. Дитте больше не зажигала огонь в своей каморке, теперь можно было оставлять верхнюю половинку двери открытой, и света проникало достаточно. Окошка в каморке не было.
Эта каморка находилась в самом старом из дворовых строений; когда-то, пожалуй лет двести тому назад, это был жилой дом. Кирпичный пол сохранился еще от тех времен, когда здесь была кухня. Уцелела и печь с дымоходом, над ней под потолком шел соломенный настил на жердях. В этой печи, как в алькове, помещалась постель Дитте, места как раз хватало. Над постелью спускался железный прут с крюком, на который прежде вешали котел. В дождь по стенке, что у изголовья постели, текла стародавняя сажа, ее крепкий запах напоминал бабушкино жилье и навевал грустные сны. Случалось, что мышь прогрызала соломенный настил и падала к Дитте на перину.
Но Дитте была в восторге от своей конуры. В первый раз в жизни у нее была отдельная комната. Она поставила на бок старый ящик и прикрыла его куском белого холста. Ящик заменял ей и комод и туалет. На нем стоял осколок зеркала. А вдоль шестка Дитте протянула длинный синий полог с кистями, найденный на чердаке; он очень украшал ее жилье.
В своей каморке Дитте чувствовала себя отлично и каждую свободную минуту бежала сюда. Зимой там было довольно холодно, но летом тепло. Она вынимала из ящика свои сокровища и перебирала их. Одно положит, другое возьмет, разгладит и уложит покрасивее. Этим она могла заниматься без конца и всегда с одинаковым удовольствием. В числе сокровищ был лоскуток с вышивкой, за которую похвалила ее жена школьного учителя, еще когда они жили в Сорочьем Гнезде. Хранился альбом, в котором были написаны стихи на память Дитте от некоторых детей, конфирмовавшихся с ней вместе, а также их фотографии. Она снялась тогда в первый раз в жизни. И всегда с неизменным удивлением и любопытством рассматривала маленькую худенькую девочку, которая должна была изображать ее самое, – самую маленькую из всей группы и, как ей казалось, самую некрасивую. Больше всего интересовало Дитте, похорошеет ли она когда-нибудь, как другие. У нее не было преувеличенного мнения насчет своей наружности, да и откуда бы ему взяться? Никто ведь ни разу не сказал про нее: «Какая хорошенькая девочка».
И с чего было ей хорошеть? Кровь, обращавшаяся в ее теле, не становилась лучше, проходя через сердце, – слишком много забот и огорчений испытывало оно, и это сказывалось на всем ее слабеньком организме. Цвет кожи был от этого землистый, худоба и угловатость с трудом уступали место начинающейся мягкой округленности форм. И сутулость до сих пор осталась – тяжелая зимняя работа много этому способствовала. Дитте по-прежнему нельзя было назвать красивой.
Зато она была веселая и никогда еще не радовалась так весне, как в этом году. Солнечные лучи щедро вознаграждали ее за все изъяны, ласково освещая ее лицо и фигуру, и даже скрадывали худобу и угловатость. Получалась настоящая игра солнечных бликов и улыбок, когда она показывалась во дворе, на фоне яркого, по-весеннему синего моря.
– Да какая же ты нынче веселая, девчонка! – восклицала Сине и сама смеялась. – Радуешься, что скоро на луга?
Вот в таком веселом настроении Дитте выгоняла в середине мая свое стадо в первый раз на пастбище. И животные оказались под стать ей. За зиму они обросли длинной шерстью, исхудали, но солнце и ветер заигрывали с ними, и они резвились, брыкались, как шалые, словно целясь попасть задними ногами в самое солнце, и вскачь неслись проселком к лугам. Дитте беззаботно бежала за ними.








