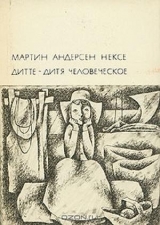
Текст книги "Дитте - дитя человеческое"
Автор книги: Мартин Андерсен Нексе
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 50 страниц)
IX
ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
В начале лета Дитте относила часть своего завтрака и ужина в хижину Расмуса Рюттера для его ребятишек. Теперь они стали прибегать к ней за своей долей и утром и после обеда. Они являлись на пастбище почти всегда раньше ее и стояли, сбившись кучкой, или лежали, тесно прижавшись друг к дружке, в одном из «гнезд» и дожидались ее. Дети были пугливы, как птенцы, и прятались от людей. Получив от Дитте еду, они тотчас же пускались наутек один за другим, словно хищники с добычей. Отбежав на некоторое расстояние, усаживались поодиночке и начинали есть. Дитте приходилось самой делить между ними еду; это нельзя было поручить им самим, такие они были голодные. И тело у детей было едва прикрыто: драные штанишки да иногда какое-то подобие рубашонки. Но в летнее теплое время большего и не требовалось. А уж какие они были быстроногие!
Однажды она попробовала немножко отскоблить с них грязь, да после и сама не рада была. На следующий день они уже боялись подойти к ней, лежали наверху у полевой изгороди и поглядывали вниз; когда же она хотела приблизиться к ним, они убегали.
Дитте показывала им еду, но и это не действовало. Тогда она положила завтрак наверху, а сама опять спустилась на луговину. Вскоре завтрак исчез. Эти дети напоминали щенят или котят, родившихся где-нибудь в чистом поле, в омете соломы, – такие они были дикие и недоверчивые, никак не приручить их было. Зато дома они вели себя совсем по-другому: возились и шумели около своей хижины целый день так, что даже до Дитте долетал их гам вместе с пронзительной руганью матери.
Пуговиц на штанах у них почти никогда не было, и им приходилось на бегу придерживать штаны руками. Дитте это очень не нравилось, и раз как-то она поймала одного из них.
– Я не дам тебе есть, пока ты не дашь мне пришить вот это! – сказала она, вынув из кармана пуговицу.
Мальчишка покорился, но все время семенил ногами на месте, а едва Дитте закрепила нитку и откусила ее, моментально отбежал прочь, по-прежнему придерживая штаны.
– Да не держи ты их, дурашка! – имеясь, крикнула она.
Он послушался и, убедившись, что штаны держатся сами собой, в неистовом восторге закружился около Дитте.
Долго скакал он, описывая все более тесные круги и сильно наклоняясь, как спутанный жеребенок. Дитте отлично поняла, что он по-своему выражал ей благодарность, и следила за ним ласковым взглядом.
– Вот так молодчина! – кричала она. – Спасибо тебе! Ну, и довольно теперь! Ты устал, пожалуй. Поди сюда и поешь.
Но он сделал еще один круг. Потом подбежал к ней, едва дыша, и получил свою порцию. На этот раз он не спешил удрать, уселся рядом с Дитте и поел.
Перестали убегать и другие ребята, они уже позволяли ей зашивать свои прорехи. Мало-помалу они совсем приручились, и не успела она опомниться, как на ее попечении очутился весь выводок. Немало было с ними хлопот и забот, но это давало душевное удовлетворение. Дитте не любила сидеть сложа руки.
Она добилась того, что дети позволили ей даже вымыть их. И пришлось же ей повозиться. Больше всего запущены были их головенки, и с ними почти ничего нельзя было сделать. «Придется стащить дома немножко керосину!» – решила Дитте.
Однажды, после обеда, она вымазала им головы керосином. Чтобы они стояли смирно, пришлось рассказывать им про Большого Кляуса. Когда дело было кончено, они стояли, моргая глазами, с таким видом, будто самих себя не узнавали.
– Ну что, щиплет? – спросила Дитте смеясь.
– Да, но больше не кусает, – с изумлением отвечали они.
– Ну так ступайте теперь домой! – сказала она.
Дети пропустили эти слова мимо ушей и, усевшись рядом с ней, спросили:
– А дальше что?
– Ничего. Теперь проваливайте. Завтра расскажу дальше.
– Про Кляуса?
– Да, и про кота Перса, который умел сам отворять двери.
Тогда они побежали домой, но нехотя.
Дитте собрала свое стадо, потом разделась и стала плескаться в болотце, скрытом в кустах. Она лежала на животе в тепловатой, мелкой воде и воображала, что плавает. Приподнявшись на локтях, она снова с громким плеском погружалась в воду, омывавшую ей живот и маленькие крепкие груди. Кожа у нее была уже не такая шершавая, как прошлым летом. Дитте уселась на траву и принялась мыться.
Потом, полуодетая, она расположилась на сухом мшистом бугре и принялась за починку своего платья.
Нитки и иголка, завернутые в бумажку, лежали возле нее. Скотина мирно паслась, и можно было спокойно, на досуге, заняться своими делами – своей одеждой и прочим. Дитте охотно делала это и радовалась, что может побыть одна.
Счастливая и свободная от всяких забот, сидела она, склонясь над своей работой и напевая. В голове мелькали какие-то обрывки мыслей, прилетали и улетали, не задерживаясь. Из-под толстого мягкого покрова мхов и полусухого дерна струилась теплота самой земли. Дитте сидела и словно набиралась сил. На проезжей дороге затарахтела телега; Дитте лениво прислушалась. Кто-то мчался во всю прыть. Но ей было лень подняться и взбежать наверх, чтобы посмотреть, кто это.
Попозже пришел Карл с хутора. Видно, что-то случилось дома.
– Опять он явился! – сказал Карл, бросаясь на траву рядом с Дитте. – И они оба уж почти пьяные.
Он сидел, отвернувшись от Дитте.
– Стало быть, ты сбежишь теперь из дому? – спросила она с насмешливой улыбкой. Она понять не могла, как это Карл может оставаться дома и только ходит повесив нос.
– Я сказал матери, что уеду, а она говорит: «Да уезжай, пожалуйста». Ей дела нет ни до меня, ни до чего, лишь бы жить в свое удовольствие. Но теперь и я решился серьезно… и уже уложил свои пожитки. Я хотел только проститься с тобой.
Он посидел немного.
– А ты тоже не жалеешь, что я уезжаю? – спросил он, взяв в руки ее косы.
Дитте решительно замотала головой.
– Нет! Уезжай, пожалуйста.
Он ведь ничем не скрашивал ее жизни здесь.
– Неужели я не был добр к тебе? Отвечай! – спрашивал он, но она упорно молчала.
– Нет! – наконец вырвалось у нее тихо. И слезы навернулись у нее при воспоминании о том, сколько раз он мог бы заступиться за нее, когда ее обижали понапрасну, и не сделал этого.
Должно быть, и он подумал об этом.
– Да, я сам знаю, – сказал Карл упавшим голосом, – что вел себя как трус. Но теперь этому конец. Теперь я постараюсь стать хорошим и мужественным человеком.
– Да, потому что теперь ты узнал настоящее горе, – сказала Дитте, глядя ему в лицо.
Она по опыту знала, как тяжело покидать родной дом.
Карл вперил в пространство безнадежный взгляд.
– Хуже всего, что это – моя мать… и потом все эти пересуды. Люди глазеют на тебя и перешептываются между собой. Люди отвратительны… злы!.. Но не следует так говорить… надо любить ближнего своего! – вдруг спохватился он.
– Не из-за чего тебе сокрушаться! – сказала Дитте, ободряя его. – Пусть люди болтают. Лишь бы знать, что сам ни в чем не виноват, – тогда наплевать на все их пересуды. Ты сам недавно говорил, что главное быть в мире с богом, а люди пусть себе думают и говорят, что хотят.
Он припал головой к ее плечу и сидел, закрыв глаза.
– Твердо уповать на бога – дело трудное, – проговорил он тихо. – Вот если бы он пребывал не внутри нас, а рядом с нами, чтобы можно было видеть его—
Он рассеянно провел рукой по ее спине и вдруг выпрямился и внимательно оглядел ее. Кофточка сползла у нее с одного плеча, – она плохо ее застегнула, – и стала видна искривленная лопатка.
– Что это у тебя? – спросил он, задержав свою ладонь на ее спине.
– О, это оттого, что я постоянно таскала на руках своих маленьких братьев и сестренку, – ответила она, краснея, и торопливо оправила на себе кофточку. – Это уже почти прошло, – тихо прибавила она, отворачиваясь от него.
– Тебе нечего стыдиться этого, – сказал он и встал. – Я не из таких!..
Нет, конечно, его-то Дитте не стыдилась и не боялась. Только жалела и больше ничего, – он ведь был такой несчастный. Но ей неприятно было, что он обратил внимание на ее выпиравшую лопатку, и как раз когда это стало почти незаметно.
С тех пор Дитте старалась держаться прямо; ей хотелось, чтобы у нее была прямая спина и высокая грудь, как у других молодых девушек.
Из– бесед с Карлом крепко засело в памяти Дитте слово «грех». И вот она невольно спрашивала себя: «А не грех ли стараться похорошеть, и помогает ли это старание сколько-нибудь?» Отцу, правда, казалось, что она хорошеет.
– Да ты у нас становишься девицей хоть куда! – говорил он всякий раз, когда она приходила домой. Но он не мог быть беспристрастным, и Дитте не прочь была бы услышать то же самое от чужих. Разумеется, прежде всего она хотела быть доброй девушкой, но не худо бы, конечно, стать и покрасивее!
Проводя дни на пастбище, она постоянно о чем-нибудь раздумывала. Спешить, перебегать от одной мысли к другой теперь незачем было – времени хватало на все. И она постепенно начала изучать свое тело. Купаясь в болотцах, она рассматривала себя – пока, впрочем, без особого удовольствия. Много еще было в ней изъянов!
Внимательно разглядывая свою внешность, она какими-то путями переходила к своему внутреннему «я». Однажды она убедилась, что у нее круглые коленки, – стало быть, она будет хорошо относиться к своему мужу. Само по себе это было вполне естественно, – ведь она ни к кому не относилась плохо, нет, этого греха за нею не водилось! – но все-таки приятно было найти наглядное доказательство этому. Она все больше знакомилась с разными сторонами своего существа, и порою это доставляло ей искреннюю радость. Ложной скромностью она не страдала; жизнь ее и без того достаточно бедна, зачем же делать ее еще беднее? И, сравнивая себя с другими, она не испытывала огорчения, – право, она не уступала им ни в чем! Обидно только, что люди ценят больше всего наружность.
Но, заглядывая себе в душу, Дитте находила там и кое-что такое, что наполняло ее уже не радостью, а лишь изумлением, а иногда даже пугало.
Солнце и воздух оказали на нее удивительное действие. Она всегда была теперь как бы заряжена смехом, постоянно чувствовала какое-то щекотание в горле, словно вот-вот готова была прыснуть со смеху даже при самых серьезных обстоятельствах. Но Дитте не только смеялась, – ей приходили в голову разные беспокойные мысли, она испытывала новые, незнакомые ощущения. Каждый день приносил что-то новое, и она сама чувствовала, как в ней что-то меняется. Мужская рука однажды рассеянно подержала ее косы. С того дня она обратила внимание на свои волосы; они стали чем-то особенным, требующим ухода за собой. Надо было заняться ими – расчесывать, ощупывать, как они лежат на голове, да не слишком ли туго заплетены, распускать их и переплетать. И, в благодарность за уход, волосы стали лучше расти, становились гуще и мягче.
Росла и созревала и сама Дитте. У нее появились своеобразные ощущения во всем теле, как будто соки быстро приливали то к одному месту, то к другому. Иногда она чувствовала истому и головокружение, – от роста, как полагала Сине, – и способна была по целым дням сидеть смирно, прислушиваясь к чему-то внутри себя. Особенно ее беспокоило то, что она полнела в и груди. Она вслушивалась в разговоры старших, в их двусмысленные намеки, и теперь в новом свете видели обращение парней с девушками. В субботние вечера они собирались около чьего-нибудь дома и плясали на лужайке под гармонику. И Дитте с сильно бьющимся сердцем прихорашивалась, собираясь на эти вечеринки, чтобы посмотреть на танцы. Случалось, что парни обнимали и ее. Она отбивалась, но без прежнего возмущения, хотя все-таки побаивалась парней.
Поведение хозяйки сильно занимало ее. Она начинала соображать кое-что… догадываться, что в этой здоровенной деревенской бабе бродят скрытые темные силы, бегущие от дневного света. Много лет подавлялись они, но теперь неудержимо рвались наружу. Карен Баккегор находилась, по словам Сине, «в опасном переходном возрасте», – эти таинственные слова давали простор разным предположениям. Близость хозяйки, запах ее одежды кидали Дитте в дрожь, так что волосы на голове становились дыбом. На все и на всех влияла таинственная сила, которою одержима была Карен, – и на Сине, и на работников, и даже на Карла, на каждого по-своему. В глазах у них появилось особое выражение, они перешептывались и вели себя, как – заговорщики, делали друг другу таинственные знаки, переглядывались. По всему приходу распространилось какое-то странное беспокойство; к Дитте подходили совсем незнакомые люди и выспрашивали ее, а потом вдруг, словно спохватись, сворачивали разговор на погоду. Дитте казалось, что весь мир следит за их хутором.
Зловещая тень от него падала далеко. Стоило только на каком-нибудь людном сборище упомянуть про Хутор на Холмах, как внимание всех приковывалось к нему, и все только и говорили, что о любви, – на все лады толковали про любовь во всех ее таинственных и роковых проявлениях. Глаза людей загорались особенным блеском, и всевозможные тайны, тщательно скрывавшиеся ранее, выплывали наружу. В каждом углу скрывалась какая-то тайна. Беспрерывно видя и слыша все это, Дитте дошла до нервного возбуждения, чисто животный страх мог вспыхнуть в ней и охватить ее всю в любую минуту, и она, опасаясь этой вспышки, боялась всего на свете.
Однажды перед обедом она доила коров за воротами хутора и, когда встала со скамеечки, заметила на ней свою собственную кровь. Она едва не лишилась чувств. Никто ведь не говорил ей, что это должно случиться; у нее не было матери, которая бы бережно посвятила ее в таинственные законы жизни. Теперь сама жизнь безжалостно открылась перед ней, и таинственный символ жизни – кровь смешалась в ее испуганном воображении со многим другим, наводящим ужас. Побелев как мел и шатаясь, пошла она во двор.
В воротах встретился ей Карл. Он спросил, что с ней, и, с трудом выведав у нее кое-что, догадался о причине испуга. Он добродушно улыбнулся, и это ее успокоило. Чуть ли не в первый раз увидела она улыбку на его лице. Но затем он стал серьезен.
– Ты не расстраивайся, – сказал он и погладил ее по щеке. – Ведь это означает только, что ты становишься взрослой женщиной.
Дитте была искренне благодарна ему за утешение. Ей не было неприятно, что он стал ее поверенным в этом случае. Он был в ее глазах не мужчиной, но просто человеком, да еще беспомощным, часто нуждавшимся в ней, а теперь он протянул ей руку помощи, вот и все. В их отношениях не произошло никакой иной перемены, кроме той, которая создавалась взаимною дружескою поддержкою. Да, теперь у Дитте появился друг, которому она могла довериться в трудную минуту.
X
ВОЗВРАЩЕНИЕ СЭРИНЕ
Дитте только что покормила четверых мальчишек поденщика; теперь все шло по порядку. Она раскладывала пищу на. небольшой кочке и усаживала их вокруг, надо же было им приучиться чинно сидеть во время еды, а не скакать кругом с куском в руках. Но приучить их не завидовать друг другу и есть из общей чашки было, пожалуй, труднее всего. Они предпочитали получать каждый свою долю в полное распоряжение, чтобы убежать и съесть ее где-нибудь в укромном углу, как делают бездомные собаки. Дитте поэтому нарочно А заставляла их садиться в кружок и есть из общей чашки. И сначала, когда она давала кому-нибудь кусок, остальные трое провожали его жадными глазами. Они больше поглядывали на чужие куски, чем на свой собственный. Тогда Дитте снова принималась поучать их; она не переносила зависти. Однако они завидовали, даже когда были сыты, и Дитте не могла не вспомнить слов бабушки, что «господь насыщает желудок раньше глаз».
– Будьте настоящими людьми, как Поуль, Кристиан и Эльза! – учила их Дитте. – Те всегда делятся друг с другом, что бы им ни дали.
И ребятишки понемногу усваивали ее уроки. Старшие перестали убегать от младших, но послушно вели их за руку – по крайней мере, пока они были у Дитте на глазах.
Она стояла на холме и смотрела, как они брели домой. По обыкновению, они ссорились между собой, но тотчас же невольно оглядывались назад. Убедившись, что Дитте все еще стоит на месте, они опять брались за руки.
Дитте смеялась и кивала им:
– Да, да, я все вижу!
Она еще постояла некоторое время, думая о них, как вдруг с проезжей дороги донеслись до нее удивительно знакомые звуки. На самой верхушке холма показалась и, громыхая, стала спускаться вниз телега, запряженная сказочно-огромным существом, чудовищным мерином. Он осторожно переступал могучими мохнатыми ногами, похожими на потрепанные метлы, которыми метут мостовую, а телега вихляла на ходу из стороны в сторону. В телеге сидела понурая, сутулая фигура и машинально подхлестывала лошадь длинной тонкой хворостиной.
От радости Дитте босиком кинулась бежать наверх по камням и корневищам как угорелая. Ларc Петер, услыхав ее голос, поднял голову. Кляус остановился.
– Это ты, девчурка! – сказал Ларc Петер необыкновенно серьезно. – А я в город… за матерью!
– Да ты не в ту сторону едешь! – Дитте звонко расхохоталась. Отец, знающий все дороги, как никто, сбился с пути! – Таким манером ты только все дальше и дальше забираешься!
– Я знаю. Но дело-то в том, что Большому Кляусу не осилить такого пути… Ведь ему все сорок стукнуло. – Ларc Петер грустно улыбнулся. – Я и думал попытаться ваять тут у кого-нибудь другую лошадь. Вот только к кому сунуться – не знаю. Знакомых у меня тут почти никого нет. К вам на хутор обращаться, пожалуй, не стоит?
По мнению Дитте, не стоило. Карен Баккегор была человеконенавистница.
А может быть, она… ради Йоханнеса отнесется по-родственному?
– Тебе бы лучше попытаться на Песках, – сказала она. – Там, я думаю, тебе охотно дали бы лошадь.
– Да, пожалуй, там переменили мнение обо мне после моего, отъезда. Не знаю, с чего мне пришло в голову попытать счастья у вас на хуторе… Но, может статься, ты нрава. Жаль только Кляуса – понапрасну пробежался сюда.
Да, Большой Кляус сильно сдал с тех пор, как она видела его в последний раз. Он спал, стоя, понурив голову. Дитте нарвала ему травы в канаве, но он даже не понюхал.
– Ему все труднее и труднее прожевывать пищу, – сказал Ларc Петер. – Самое лучшее было бы пристукнуть его.
Ларс Петер был сегодня такой тихий… почти торжественный. Верно, потому, что ехал за Сэрине. И пока Дитте ласкала Кляуса, пытаясь хоть чуточку оживить его, Ларc Петер задумался.
– Ну, так придется, видно, повернуть оглобли и проехать на Пески, – наконец проговорил он, разбирая вожжи. – Ты ведь заглянешь домой, когда будет возможность?
Дитте утвердительно кивнула. Она не могла поступить иначе, видя его в таком настроении.
– Диковинную игру затеяла твоя хозяйка, – сказал он, трогая лошадь.
– Как так? – с любопытством спросила Дитте, шагая. рядом с телегой и держась за ее грядку.
– Да она распускает дурные слухи даже про себя самое. Странное развлечение. Я думаю, у нее и без того неприятностей хоть отбавляй. Но с тобой-то она хорошо обходится?
О, да, Дитте не на что было жаловаться.
– Ну, беги-ка теперь к своему стаду, пока никто не увидал, что ты его бросила. Ты ведь знаешь, каковы наши хуторяне, они ведь стоят друг за друга, лишь бы только свалить вину на нас.
Он легонько разжал пальцы Дитте, державшейся за телегу.
Дитте нехотя опустила руку и побежала по полю, поминутно оборачиваясь и махая отцу. Но он опять задумался и ничего не видел.
Нет, Дитте и в голову не приходило явиться домой на поклон к Сэрине. Много слез пролили, много сраму приняли и Дитте и все они из-за матери. Дитте думала было, что совсем забыла про все это; однако, оказывается, на дне души сохранился осадок, который теперь вдруг снова давал о себе знать. Из-за матери все презирали их, отталкивали, как отродье преступницы. Нет, Дитте отнюдь не тянуло домой повидать Сэрине.
Но не так-то просто было теперь отделаться от мыслей о матери. Прежде легко было забыть о ней, – столько было всего другого, поважнее; теперь мать снова выдвигалась на первый план. Нельзя же вечно избегать родного дома, и одно это заставляло задуматься. Мать уже больше не будет сидеть в тюрьме, а вернется домой и опять станет хозяйкой. Как поведет она хозяйство и как будет обходиться с детьми? Это были серьезные вопросы, не дававшие Дитте покоя.
А потом мелькнула мысль, что сама Дитте злая и несправедливая! Это пришло ей в голову внезапно в связи со словом «грех», которое засело у ней в памяти после разговоров с Карлом. Раньше Дитте никогда не смотрела на свои отношения к матери с этой стороны. Теперь она невольно вспоминала отца, его торжественную серьезность, когда он ехал за Сэрине, и его постоянное бережное отношение ко всему, что касалось ее. Вспоминала и сравнивала. Да, Ларc Петер своим примером говорил о том, что нельзя бить лежачего! Впервые поняла Дитте всю глубину и широту отцовского всепрощения, и ей стало стыдно за себя. Чего только не вынес он из-за Сэрине, и все-таки дом его был открыт для нее, он ждал ее в течение многих лет, готов был дать ей убежище и приют в любую минуту.
И вот однажды Дитте до того стосковалась по дому, что расплакалась.
– Что с тобой? – спросил Карл, когда она, вся красная, заплаканная, пригнала в обеденное время стадо с пастбища.
– Мне бы так хотелось побывать дома, – сказала она.
– Так беги домой сразу после обеда, – сказал он. – Я сам подою коров. Ее нет дома; она в городе.
Он избегал называть Карен матерью.
Сэрине стирала в кухне, когда вошла Дитте.
Веснушчатые, страшно худые руки как-то странно-неумело обращались с бельем, словно Сэрине никогда раньше не стирала. Щеки у нее ввалились, побледнели, покрылись пятнами, и все лицо потускнело. Далеким, чужим взглядом встретила она взгляд Дитте, – «как запуганное животное!» – мелькнуло у Дитте, – вытерла руку о передник и протянула ее. Дитте взяла влажную руку, не глядя на мать.
Они постояли друг против друга, не зная, что сказать, что сделать. У Дитте сердце растаяло, она готова была заплакать, броситься на шею матери, если бы та сделала хоть шаг к ней. Но Сэрине не двигалась.
– Отец с детьми в гавани, – сказала она наконец глухо.
И Дитте пошла к ним, радуясь предлогу уйти от матери.
Ларс Петер чистил трюм своей лодки. Дети сидели на ограде мола. Он вылез из лодки и перешагнул на берег.
– Как это славно, что ты заглянула домой, – сказал он растроганно, протягивая Дитте руку. – Спасибо тебе!
– Не за что, – ответила Дитте, едва удерживаясь от слез. Все вдруг перевернулось в ней от такой встречи.
– Нет, нет, это с твоей стороны так хорошо. Ты ведь не обязана была приходить, – продолжал он, обнимая ее за плечи. – Было бы понятно, если бы ты не пришла. Ты уже виделась с матерью?
Дитте кивнула. Она еще не совсем оправилась от своего волнения и если бы заговорила, то не смогла бы скрыть его. А ей больше не хотелось реветь– ни за что! Ревут одни ребятишки… да глупые девчонки-подростки.
Ларс Петер присел на причальную сваю, чтобы стянуть с себя тяжелые сапоги с деревянными головками. Брезентовые голенища заходили выше колен, и трудновато было стаскивать их.
– Неповоротлив стал, – сказал он, охая. – И вдобавок эта ломота в суставах… Не то старость подходит, не то ремесло не по мне.
– Ну, как тебе показалась мать? – спросил Ларc Петер, когда они шли домой. – Она еще не совсем освоилась здесь, – продолжал он, не дождавшись ответа. – Да и немудрено, просидев столько времени взаперти. Мать, верно, обрадовалась тебе? Ты, может, и не заметила этого, – она как-то слов нужных не находит еще… Но я-то хорошо вижу, как она всех нас любит. Слава богу, что она опять дома! И уж ты будь с нею поласковее… ей это так нужно. Люди здешние не слишком-то приветливо к ней относятся. Считают, что ей лучше было бы остаться там, где она находилась… Так вот, хоть мы будем к ней подобрее!..
Сэрине сварила кофе. Ларc Петер поблагодарил ее, как за особую любезность. Он пришел в отличное настроение. Сэрине прислуживала им молча, как чужая в доме, двигалась почти как тень; между нею и всей семьей словно встала невидимая стена. Дети, должно быть, еще не привыкли к ней и недоверчивыми взглядами следили за ее движениями. Да и у нее вид был такой, словно она вдруг свалилась сюда откуда-то из совсем иного мира, где все было по-другому. Дитте казалось даже, что мать вряд ли вообще видит и слышит, что творится вокруг нее; даже по глазам ее не заметно было, чтобы она следила за их разговором. И трудно было судить о том, что у нее на уме.
Под вечер Дитте должна была вернуться к себе на хутор. Ларc Петер проводил ее немного.
– Правда мать очень переменилась? Как по-твоему? – спросил он, когда они поднялись на дюны.
– У нее очень плохой вид, – сказала Дитте, избегая прямого ответа на вопрос. Она не была уверена, что у Сэрине смягчилось сердце.
– Да, от тамошнего воздуха она захворала. Но и нрав у нее стал другой. Она больше не бранится.
– Что она говорит о здешних делах? Насчет трактирщика и прочего? И насчет того, что мы продали Сорочье Гнездо?
– Да что говорит. Собственно, ничего не говорит, молчит с утра до вечера. И не хочет спать в одной комнате с нами… стала нелюдимой. И выманить ее за порог трудно, выходит только по вечерам. А все-таки, мне кажется, она стала спокойнее и довольнее вообще… даже собою.
– А как соседи к ней относятся? – заставила себя спросить Дитте.
– Да, соседи… Взрослые косятся издали!.. А ребятишки прибегают и заглядывают в дверь… Может, взрослые подсылают их? А как увидят мать, с криком улепетывают, словно сам черт за ними гонится. Понятно, все это мешает ей войти в колею.
– Они думают, что у нее клеймо на лбу, – пояснила Дитте. Она и сама так думала и была удивлена, когда этого не оказалось. – И никто не приглашает вас к себе? – спросила она.
– Пока еще нет. Но. верно, скоро начнут понемножку сами заходить к нам, когда попривыкнут. Кое-кто уже собирается, да, видно, не решается быть первым.
Ларс Петер смотрел на Дитте, как бы ожидая, что она подтвердит его надежду. Но она молчала. А молчание иногда бывает красноречивее всяких слов. Дитте довольно мрачно смотрела на будущее.
– Я и сам побаиваюсь, что ничего не выйдет, – начал он снова. – Ну, что ж… придется, стало быть, переезжать куда-нибудь. Мир велик, и тут вовсе уж не так сладко живется. И от переезда мы ничего не потеряем. Обидно только, что дал обобрать себя. Не легко будет начинать опять сызнова.
– Разве ты не получишь своих денег назад, если мы уедем отсюда?
– Куда там! Трактирщик вообще не из тех, которые отдают назад то что заграбастают. Вдобавок ему самому туго приходится.
– Трактирщику? Да ведь у него столько денег?
– Да, ты удивляешься… и многие тоже удивляются. Но дело-то в том, что он много задолжал банкам. У него, говорят, все заложено. Оттого он и не строит гостиницы, – банки денег ему не дают. Я думал, что все тут его собственность, а оно совсем не так. Ему круто приходится, когда наступают сроки платежей. А в июне он, говорят, прямо в трубу вылетит. Вот он и гнет всех в дугу.
– Так какая же ему радость от всего этого? И отчего бы ему тогда не оставить нам наше добро?
– Да, большой радости, по-моему, он в жизни не видит, но, верно, уж у него характер такой. Вот сейчас как раз салака идет… у самого берега, да так густо, что хоть ковшом черпай. Это гонит ее из моря скумбрия; та идет тоже стаями, наседает на салаку и пожирает ее. А скумбрию пожирают и гонят тюлени и дельфины. Так, видно, и у нас тут. Трактирщик травит нас, а другие травят его и ему подобных. Хотелось бы знать, травит ли кто и тех других в свою очередь?
– Как это все странно, – сказала Дитте.
Ей никогда ничего такого и в голову не приходило насчет трактирщика.
– Да, странно! Тут один черт садится на шею другому, один на другого пересесть норовит, как говорит баба в сказке. Одно утешение думать, что трактирщику в конце концов не слаще, чем другим. Все-таки, значит, есть какая-то справедливость на свете, хоть и куцая.








