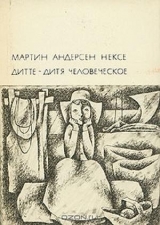
Текст книги "Дитте - дитя человеческое"
Автор книги: Мартин Андерсен Нексе
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 50 страниц)
Наконец явился Карл, ведя за собой обоих детей. Он так торопился, что весь вспотел.
– Ты уж прости меня, мне пришлось пойти на собрание, а оно затянулось.
– На собрание? – удивилась Дитте. Значит, он опять бегает на собрания!
– Да, это по поводу организации рабочих. Мы хотим попытаться сколотить оппозицию из недовольных. Правление нашего союза саботирует наши требования.
Как дети любили Карла, даром, что он был такой тихий и не очень-то много возился с ними! Они шли молча, держа его за руки, и наслаждались. Время от времени они доверчиво поглядывали на него.
– Ты наш папа! – сказала Анна.
– Не настоящий, – благоразумно заметил Петер.—
Но мы так считаем. Ведь ты все равно женишься на маме, говорит старуха Расмуссен.
Карл кивнул и украдкой обернулся. Дитте отстала с коляской и ничего не слыхала. Они вышли по Серебряной улице на Луг и расположились там на траве поглядеть на молодежь, игравшую в мяч и упражнявшую свои мускулы. Карл захватил с собой съестного, но закусывать было еще рано.
– Отчего ты такой мрачный? – спросила Дитте. – Или получил плохие вести из дому?
Карл улыбаясь покачал головой, – домашние дела не стоили того, чтобы из-за них огорчаться.
– Нет, тут дело общественное!.. Нашу организацию собираются разогнать, а если это удастся, нам сбавят заработную плату. Находят, что наш заработок слишком высок! Рабочему не полагается зарабатывать больше, чем ому необходимо, чтобы не умереть от голода.
– А вы разве не можете дать отпор и отстоять свою организацию, чтобы она не распалась?
– Ну, конечно, до роспуска не дойдет, – об этом паши руководители позаботятся. Иначе они лишатся своих должностей, и им снова придется стать простыми рабочими, что им вряд ли будет по вкусу. Но я боюсь, что они продадут нас вместе с организацией предпринимателям, чтобы спасти свое собственное положение.
– Знаешь, что? Вам надо бы заполучить Пелле, – убежденно сказала Дитте. – он бы вам наверняка помог.
Карл рассмеялся.
– Да, этот – мастер говорить, – иронически заметил оп. – Но и в нем уже мало пороха осталось, каким бы молодцом он ни был раньше. Выдохся! Да и не хочет он вмешиваться в новые дела. Сажает капусту в огороде и твердо уповает, что мир будет спасен потребительскими обществами и огородными колониями. «У каждого рабочего свой кочан капусты!» – вот его лозунг.
– Ну, ты просто выдумываешь! Он много делает для рабочих, я-то знаю это. От разных людей слыхала.
– Да, реформа общественного призрения бедных – его конек. Он хочет, чтобы все рабочие имели право на пенсии и пособия из общественных сумм, но без потери права голоса. Ты ведь знаешь, что общественное призрение лишает людей избирательного права.
– Но ведь это же очень хорошо, что вы не лишились избирательного права. Без него нельзя считаться настоящим человеком!
– Настоящим избирательным скотом, хочешь ты сказать? – пожал плечами Карл.
– А я все-таки считаю, что Пелле делает хорошее дело, – упрямо настаивала Дитте. – Взять хотя бы старуху Расмуссен. Она получает каких-то несчастных десять крон в месяц. Уж она ли не трудилась всю свою жизнь, и вот считается, что ей дают «пособие на бедность», а не заслуженную пенсию! А все, кто получил увечья на работе? А безработные? Разве общество из должно им помогать? Я нахожу, что вы слишком жестоки.
– Многие думают как ты, – серьезно сказал Карл. – Но на кой черт ваша общественная помощь! Прав своих нужно добиваться, а не клянчить подачек!
– Пожалуй, бедняку долго придется дожидаться, пока он добьется своих прав!
Дитте знала это по опыту.
– Пусть лучше так. Но все вы думаете только о плоти да о том, как бы получше ублаготворить ее. О душе вы не заботитесь. А какой прок будет, если бедняк завоюет весь мир, да потеряет душу свою?
Дитте так и кольнуло в сердце. Опять он за свое, как бывало в юности, когда всем грозил гибелью души!
– Поди ты с твоей душой, – сказала она. – Этим жив не будешь.
– Да, душа несъедобна, – засмеялся Карл. – Но без нее, во всяком случае, обойтись трудно, если не хочешь превратиться в скота. И сдается мне, мы вроде крестьянской скотины: скупой мужик держит ее впроголодь, умный кормит, даже когда она не работает, но скотина остается скотиной. Для рабочих тоже что-то делается, основываются разные общества, вроде обществ покровительства животным или охраны мальчиков! Все это шаги по ложному пути. Нам необходимо добиваться того, чтобы стать людьми и хозяевами своей судьбы!
Дети все время приставали, чтобы Карл поиграл с ними.
– Оставьте дядю в покое! – уговаривала их Дитте, но они не слушались.
– Ты же можешь поболтать с мамой и в другой раз, – обиженно заявил Петер.
Это подействовало на Карла, как электрический заряд. Он вскочил и сбросил куртку.
– Ну, во что же мы будем играть? – весело спросил он:
Пришлось Карлу стать на четвереньки, изображая слона, а ребятишки взобрались ему на спину. Петер сидел позади, болтая ногами. Малыш тоже махал ручонками, словно желая принять участие в игре.
– Смотри, какой он умница! – с гордостью сказала Дитте и посадила Георга впереди всех, на шею слону, а сама пошла рядом, придерживая ребенка. Тот визжал от удовольствия. Недурно для четырехмесячного ребенка!
Погода стояла хорошая, и на Луг собралась масса рабочих с семьями. Многие захватили съестное и располагались группами возле корзинок с провизией: мужчины ели, пили и спорили о политике. Молодежь играла в мяч и подражала цирковым атлетам. Некоторые из старших, заразившись примером молодежи, тоже поснимали с себя куртки и принялись бороться. Последнее время рабочие особенно увлекались французской борьбой, это была буквально какая-то мания.
– Смотри, как они стараются, – смеялась Дитте, с интересом следя за приемами боровшихся.
– Рабочий чует в себе силы, да не знает еще, к чему их приложить. Вот и играют в «силачей», – сказал Карл.
У него было здесь много знакомых, и он, по-видимому, пользовался общей любовью, – ежеминутно к нему подходили и пожимали руку, говоря:
– Ну, как живется? Вы, видно, с семьей сегодня?
– Оставь-ка ты нас лучше одних. А то твои товарищи подумают, что ты женился и взял в приданое троих ребят! – сказала Дитте.
– Давай условимся раз навсегда не обращать внимания на то, что люди думают! – засмеялся Карл.
Чересчур много значения придавала Дитте мнению людей!
– Да ты-то вечно хорохоришься, – ответила Дитте, отчасти довольная. Это все-таки был уже не тот Карл, что лежал и ревел от страха перед карой божьей за грехи. Она со своей стороны не прочь была теперь опереться на мужскую руку.
Йенсены с Дворянской улицы подошли поздороваться, потом присоединились к ним со своей закуской. Йенсен всю неделю ходил без работы и потому был в дурном настроении.
– Что же будет зимой? – уныло спрашивал он.
– В прежние времена только из-за морозов останавливались работы, и нам приходилось слоняться без дела. Прямо не верится, что живешь в организованном обществе, – заметил Карл.
У него было за лето тоже немало свободных дней, да и со всех сторон слышались подобные жалобы.
– Впрочем, чем лучше будет организовано общество, тем хуже придется всем нам, – добавил он. – Потребность в рабочих руках все сокращается, так как все меньше и меньше становится людей, у которых хватает средств на самое необходимое, – машины да два-три человека при них вполне могут удовлетворить существующий спрос.
Мадам Йенсен с ужасом взглянула на него.
– А что же будет тогда со всеми нами?
– Нам, видно, останется один исход – подохнуть!
– Нечего сказать, хороший исход для свободной страны! Нет, знаешь ли, это уж слишком! – воскликнул Йенсен.
– Не знаю, может быть, в этом-то как раз и заключается свобода. Не воображаешь ли ты, что у рабов имеется какой-либо иной свободный выход, кроме смерти? В сущности, мы взялись за дело не с того конца: нам но дано никакой свободы, даже права умереть, когда нам этого захочется. Зато кое-кому дана свобода предоставлять нам право издыхать, когда в нас нет больше нужды. Вот как я смотрю на дело! Демократия!.. В старину, когда еще не додумались до демократии, господам приходилось поневоле заботиться о рабах, даже если в них не было нужды. Но вот американцы, которые, говорят, считают себя знатоками рабочего вопроса, поняли, что это невыгодно. Выдумали эту свободу и силой заставили Южные штаты согласиться на то, чтобы изгнать рабов в пустыню, раз надобность в них миновала.
– Черт побери! Мне что-то невдомек! – ответил Йенсен. – Больно уж это мудрено!
Карл помолчал в раздумье, досадуя на себя за то, что не сумел выразить свою мысль более понятно. Затем попытался взяться за дело иначе.
– Да вот, видишь ли, Йенсен! Если крестьянину хочется завести пару рабочих лошадей или дойную корову, ему приходится немало похлопотать, израсходоваться. Положим, у него есть кобыла, но она уже не настоящая работница, пока носит жеребенка, да приходится еще заплатить за случку. Потом надо года два кормить жеребенка, пока из него выйдет рабочая лошадь. По-твоему, крестьянин захотел бы нести все эти расходы, если бы мог пойти да просто поймать себе арканом лошадь или корову, когда они ему понадобятся?
– Не-ет! Нашли дурака! – нехотя согласился Йенсен.
– Ас нами проделывают как раз такую же штуку: нашим трудом пользуются, потом выгоняют нас на все четыре стороны, потом опять ловят, когда им понадобится, а в промежутки мы кормись, как и чем знаешь. Вот она, твоя свобода!
– Это новое толкование свободы, – сказал Йенсен. – Такого мне еще не доводилось слышать.
– Я и не жду, чтобы ты сразу согласился со мной. Но тебе следовало бы пойти послушать Мортена. Он будет говорить о свободе рабов в среду в кабачке плотников. Это как раз по соседству с тобой. Он сумеет растолковать тебе.
– Да этот Мортен сам ничему не учился! Он такой же рабочий, как и мы все. Нет, я хожу на лекции, которые устраивают для рабочих свободомыслящие, – вот мастера говорить! Там ведь все профессора да ученые люди, но они ничуть не боятся говорить все начистоту. Свободомыслящие держат нашу руку!
– Совсем как лисица держит за лапку гуся! – рассмеялся Карл.
Понемногу вокруг них собрались рабочие, все стояли и слушали молча. Но Карлу казалось, что большинство из них думает, как Йенсен.
– Свободомыслящие! Большинство из них банкиры, крупные торговцы и тому подобное! И ты воображаешь, что они спроста заигрывают с нами? Они пользуются нами, чтобы взобраться повыше. Мелкота всегда должна подставлять свои спины, когда важным господам вздумается покататься верхом.
– Он скоро заткнет за пояс самого Мортена, своего учителя, – сказал кто-то из окружающих, указывая на Карла.
– Верно! – воскликнул другой. – Но зато как хорошо Мортен пишет, – добавил он примирительно.
– А правда, что они с Пелле земляки? – спросил Неясен. – Говорят, они учились вместе. Но они не ладят. На последнем собрании Мортен обозвал Пелле генералом Армии спасения.
Рабочие рассмеялись:
– Метко сказано! Злой язык у этого парня!
– Да, хорошо сказано. Вся эта затея больше всего напоминает Армию спасения, – едко заметил Карл. Он, обычно такой спокойный и рассудительный, такой сдержанный на язык, сегодня был на себя но похож. Голод, видно, научил его! Но вдруг он спохватился и улыбнулся:
– Но это не должно сеять между нами рознь!
– Да, да, долой сеятелей раздора! – воскликнул какой-то старый рабочий и демонстративно отошел.
Дитте слушала молча. Ей не раз приходилось задумываться над этими вопросами, но вслух она не высказывалась. Она не знала, кто был прав, да и нелегко, видно, было установить это Знала она и то, что мужчинам тоже необходимо иногда выговориться. Но ей было досадно, что большинство было на стороне Йенсена. Ведь это же несправедливо, – Карл куда умнее его. Еще ей было досадно, зачем они все подсмеивались над Армией спасения. Прошлой зимой ей не раз случалось посещать эти собрания, где было так тепло, играла музыка и никто не обращал внимания на то, как люди были одеты. Но мужчины, разумеется, предпочитают трактиры!
– А правда, что крестьяне щадят в работе жеребых кобыл? – спросила она на обратном пути.
– Да, благоразумные крестьяне так делают, – отвечал Карл.
– Тогда, значит, животным живется лучше нашего! – Дитте подумала о том, как ей пришлось надрываться над работой вплоть до самых родов.
– Разумеется, животным лучше живется. Но зато их ведь можно съесть, когда они отслужат свой век. В этом-то вся и разница!
Дитте взглянула на него. Никогда не разберешь, в шутку он говорит или всерьез. Тут она вспомнила сомнения, одолевавшие ее утром. Надо спросить сейчас, Карл такой умница!
– Раньше ты много думал о боге, – сказала она. – Веришь ли ты в него еще?
Карл ответил не сразу.
– Ну, разумеется, бог есть! – произнес он наконец с глубочайшею, почти мучительною серьезностью. – Но только не для нас. Бога создали те, другие, чтобы он стал нашим палачом, и он выполняет свою задачу. Одно время я думал, что смогу также считать его отцом для себя, но это невозможно. Никто не может угождать одновременно и угнетателям и угнетенным.
– Но ведь ты сам говоришь, что это мы верим в него, а не те, другие, – возразила Дитте.
– Ну да, он для того и выдуман, чтобы держать нас в повиновении. Плохо бы им всем пришлось, вздумай они удовольствоваться охраной лишь одной полиции. Но мы, всеми угнетаемые, должны постараться создать себе свою собственную веру и создадим! Это будет бог справедливости, бог вдов и сирот и всех трудящихся и обремененных.
– Из чего же вы создадите его? – насмешливо спросила Дитте. – На это потребуется такая уйма доброты, что во всем свете ее не хватит!
– Небось хватит! Ведь мы создадим его из сердец и рук самих бедняков. Тогда он будет действительно добрым.
VI
КРЫСЫ
Маленький Георг был настоящим обжорой. Не отрывался от груди всю ночь и к утру высасывал молоко до последней капли. Да и предусмотрительно было с его стороны наедаться про запас, потому что днем-то молочка не перепадало. Управляясь с домашними утренними делами, мать укладывала его в плетеную корзинку и бежала с ним по холодным темным улицам в ясли, а возвращаясь с работы, забирала его. При таком порядке вещей ребенок доставлял мало удовольствия, но приходилось радоваться и тому, что он был под присмотром, да надеяться, что он не схватит там какой-нибудь болезни. В яслях собиралось десятка два ребят, и заразные болезни среди них не переводились.
Остальные двое малышей оставались дома без присмотра. Дитте перед уходом разводила огонь, варила кофе и приготовляла детям еду. Петер умел сам ставить кофейник на конфорку, чтобы разогреть кофе, но подкладывать дрова в печку ему не разрешалось; за огнем присматривала жена ломового извозчика Ольсена. Много еще чего не позволялось детям! Одни и те же наставления повторяла им мать каждое утро, с замиранием сердца целуя их на прощание; тревожно билось у нее сердце и вечером, когда она плелась домой, таща из яслей малютку в корзинке. Мало ли что могло случиться за день!
Но, слава богу, ничего плохого не случалось, – ей везло. Петер был мальчуган благоразумный и на особые шалости не пускался. Оба они с Анной лежали в постели до позднего утра, пока совсем не рассветало, – так было приказано, и они охотно слушались. В темноте хозяйничали крысы и «черный дед». Он прятался под кроватью и по углам – всюду, где было темно, – словом, он как-то сливался для них воедино с самим мраком. Только под перину он не мог забраться, хотя там было тоже совсем темно, – там жили сны. В постель «черный дед» вообще попасть не мог, в постели ребята чувствовали себя в полной безопасности.
Но случалось, что встать было необходимо; чаще всего эта беда приключалась с сестренкой.
– Вставай, вставай, – ободрял ее Петер, – нечего бояться. Когда у человека дело, никто не смеет его тронуть. Это сам дядя Карл говорит. Делай свое дело – и все!
– Так пойдем со мной, – звала Анна, беря его за руку.
Но на это он все-таки не отваживался.
– Нет, ведь мне-то не надо, – объяснял он, – оттого я и не смею. Вот если бы мне было нужно!
Приходилось сестренке вставать одной. Она высовывала голову из-под перины и шептала: «Хелле!» [11]11
Заклинание, соответствующее русскому выражению «чур меня».
[Закрыть] Затем, спустив на пол босые ножонки, снова повторяла «хелле» уже громче, чтобы наверное быть услышанной и хныкала со страху. Зато, когда дело было сделано и она снова забиралась под перину, девочка чувствовала себя настоящей героиней. Ребята лежали, болтали и прислушивались к возне крыс за деревянной переборкой. В комнату крысы не смели пробираться, – мама не позволяла. Она сердилась, если они прогрызали дырку, и накладывала в нее битое стекло. Кроме того, она испекла лепешек с отравой, как это делалось в Сорочьем Гнезде.
. – Можешь не трудиться, – говорила старуха Расмуссен. – Здешних крыс ничто не берет, как и здешних людей ничем не проймешь. Что для всех обыкновенных тварей отрава, то для здешних крыс просто лакомство.
И правда, лепешки исчезли, а крыс не убавилось! Каждую ночь они скреблись и грызли перегородку, требуя еще лепешек.
Когда совсем рассветало, детишки вставали с постели. Петер умывал Анну и застегивал ей лифчик, потом она бежала к старухе Расмуссен причесываться, а Петер с трудом нес большой кофейник к печке, чтобы разогреть кофе. Еда для детей была спрятана под глубокой тарелкой, и мать заранее насыпала им в чашки сахару и наливала молока, так что оставалось только прибавить туда кофе. Одно горе: весь вкус был в сахаре и в молоке на дне чашек – как же не лизнуть чуть-чуть? Потом еще и еще капельку, еще немножко… И не успеешь опомниться, как все вылизано дочиста, и кофе приходится пить черный! Весь вопрос в том, как бы изловчиться лизать так, чтобы в чашке оставалось что-нибудь, и каждый день дети пытались так сделать, но безуспешно.
Закусив, прибирали комнату. Никто не просил их об этом, но Петер, славный мальчик, сам догадался, что матери будет меньше дела, когда она вернется домой! Он был ведь безродный, так что ему не от кого было унаследовать плохих качеств, – по словам старухи Расмуссен. Оттого он и был такой добрый, внимательный. Зато сестренка, наверное, была зачата в период безработицы; она себя утруждать не любила – во всяком случае услуживать другим была не охотница. Старуха Расмуссен спросит, бывало, не принесет ли Анна очки ей, старухе? Девочка сейчас же энергично замотает головой и скажет: «Я устала!» Но о себе самой она не забывала. Должно быть, настоящей барышней вырастет.
Справив все дела, дети брались за руки и шли к старухе Расмуссен узнать, не надо ли ей чего. Петер исполнял ее поручения, и ему спокойно можно было доверить и бутылку и деньги. Но иногда им случалось пройти мимо старухиных дверей, не останавливаясь, – это им хотелось посмотреть, как пляшут булочниковы крысы. Для этого надо было пройти весь длинный чердак, мимо запертых чуланов, сквозь решетчатые дверцы которых виднелись самые удивительные вещи, обогнуть большую дымовую трубу и ощупью спрыгнуть с приступочки как раз перед решетчатой переборкой, отделявшей чулан булочника от чердака. Там проходила труба из булочной, всегда такая горячая, а около нее в полутьме, между мешками с мукой, играли и плясали крысы. Булочниковы крысы всегда были веселы, потому что еды им хватало. Были там и большие и малые крысы; молодежь резвилась, а старики сновали вверх и вниз по мешкам и доскам; они умели так же быстро бегать по отвесной стене, как Петер по полу. Крысы прогрызали мешки, лежавшие сверху, мука сыпалась из них на пол, и крысы подбирали ее. Набрав полный рот, они садились на задние лапки, поднимали мордочки кверху и быстро-быстро шевелили усиками. Потом вдруг опять принимались резвиться. Просто умора была смотреть на них, только приходилось самим притаиться, как мышкам. Но, когда какой-нибудь крысенок вдруг сереньким клубочком выкатывался в полосу света, сестренка не выдерживала:
– Вот бы нам такого крысевочка!
А их след уже простыл!
– Экая ты дурочка! – сердился Петер, и они пробирались по чердаку обратно.
Жили здесь, в полутьме, и люди, но только такие, которые в счет не шли. Позади каморки старухи Расмуссен, под самым скатом крыши, была нора, откуда торчал угол матраца в куда заползал на брюхе Червонная Борода. Он слыл дурачком и зарабатывал этим на жизнь. Если ему предлагали на выбор монетки в десять эре и в два, он всегда выбирал в два. Петер сам убедился в этом, когда однажды получил на гостинцы два эре за то, что сбегал в булочную для старухи Расмуссен. Но старуха высмеяла его за это и сказала про Червонную Бороду:
– Он вовсе не так глуп, отлично понимает, что делает. И немало денег заработал на глупости других.
Прозвище свое он получил, еще когда носил длинную, пышную бороду. Она у него была такая красивая, что ни одна женщина не могла перед ним устоять. Тогда он и кормился своей бородой. Но одна из его возлюбленных взяла и обстригла ему бороду, когда он спал, вот он и потерял свою силу. Теперь он побирался по большим ресторанам и ночным кабачкам, проделывая свой идиотский номер; полиция не трогала его, как слабоумного. Он накопил массу денег, полную нору.
– Поди сам погляди, – предлагала Петеру старуха Расмуссен, – у него матрац набит битком монетками по два эре!
Но Петер не решался, он побаивался дурачка. Зато не боялся заглядывать к старику тряпичнику, занимавшему темный угол за большой печной трубой. Там валялась куча тряпья, на которой старик спал; к трубе был прислонен стоймя ящик, и на нем помещались свечной огарок, коробка спичек и старая колода карт. Дети частенько заглядывали туда узнать, дома ли старик, – случалось, что он давал им игрушку, подобранную где-нибудь среди мусора. Когда на трубе была вывешена таинственная семерка, это означало, что старик лома. Он сделал занавеску из мешков и таким образом отгородил свой угол от чердака. Сам он сидел за этой занавеской и при свете огарка разбирал тряпье, собранное за утро.
– Что? Пришли навестить рыцаря свалок? – весело спрашивал он и, вывалив весь хлам из мешка на пол, позволял детям рыться в куче и наслаждаться разными сокровищами, подобранными в мусорных ямах. Сам старик ложился на пол и отбирал в одну сторону тряпки, в другую ржавые жестянки; даже старую рваную бумагу можно было перепродать. Если детям что-нибудь особенно нравилось – остатки растрепанной книжки с картинками, обломки какой-нибудь игрушки, – им разрешалось взять это себе.
– Только маме своей не показывайте, она у вас такая чистюля, – говорил старик.
Нет, дальше каморки старухи Расмуссен они со своим добром не шли; там у них помаленьку образовался целый склад, о котором мать и не подозревала. Попадавшиеся в мусоре объедки старик тщательно выбирал и, обчистив ножиком, съедал.
– Фи, бяка! – говорила сестренка.
– Нет, если запить рюмкой водки, то это не вредно. Ну, а теперь отправляйтесь-ка домой к вашей доброй, славной маме Дитте, – говорил он вдруг и выпроваживал их.
– Да, он это недаром говорит про маму Дитте, – сказала однажды старуха Расмуссен. – Посмотрела бы я, что с ним сталось бы, если бы мама Дитте то и дело не совала ему прошлой зимой горяченького! Мы, бедные старики, бога должны благодарить за нашу добрую маму Дитте.,
Водились в доме и другие крысы, кроме булочниковых, но куда злее. Марианне, когда у нее оставалось что-нибудь съестное, приходилось прятать это в корзинку и подвешивать под самый потолок. Однажды крысы даже искусали миссионерского мальчишку, когда его заперли в темном чулане, да и позабыли там на всю ночь.
Ежедневно дети проводили по нескольку часов, сидя у окошка и поглядывая на игры других ребятишек во дворе; они держались друг за друга, чтобы не поддаться искушению высунуться из окошка чересчур далеко. Им позволялось держать окно открытым, пока они сами сидели возле, иначе приходилось запирать его из-за крыс. Крысы разгуливали по желобам крыши, поднимались по водосточным трубам, как по лестницам, и выскакивали из отверстий внезапно, прямо под носом у людей, обходили вокруг всей крыши, все нюхали, пищали и презабавно задирали мордочки кверху, шевеля усами. Когда дождь прогонял ребятишек со двора, крысы забирались на крыши низких надворных строений и возились там. А ночью было еще хуже! При свете месяца можно было видеть крыс, стороживших у входов во все погреба; и стоило булочнику выставить из своего окна на крышу низкой пристройки листы с горячими булками, как фью-ить! – крысы набрасывались на них, едва он успевал отвернуться. Старуха Расмуссен сама видела это, когда ей приходилось дежурить ночью у постели рожениц, живших в том же доме. Случалось ей также видеть, как крысы обжигались о горячие булки. Тогда они начинали вертеться волчком, пищать и тереть себе мордочки лапками.
Иногда день казался детям очень длинным, особенно после обеда, когда они успевали исчерпать все собственные источники развлечений, а старуха Расмуссен засыпала. Тогда случалось сестренке настоять на своем, и они, взявшись за руки, отправлялись искать маму. Петер был уже достаточно благоразумен, чтобы не отважиться по собственной охоте заходить за пределы знакомого мира, но уличная жизнь захватывала их, в окнах магазинов было столько восхитительных вещей, которые заставляли забывать обо всем на свете и заманивали все дальше и дальше от дома. Словом, не успевали дети опомниться, как оказывалось, что они уже заблудились! Тогда сестренка начинала реветь, и Петер присоединялся к ней; он тоже терял присутствие духа и едва мог узнать свою улицу. В конце концов они благополучно возвращались домой, и старуха Расмуссен бранила их и обтирала им слезы.
– Не стоит рассказывать об этом маме Дитте, – говорила она.
Но Дитте узнавала об этом от соседок, когда возвращалась вечером домой, и такие сообщения мало радовали ее.
К счастью, такому порядку скоро пришел конец: старуха Расмуссен преодолела-таки действие пилюль и в один прекрасный день встала с постели Это было в сущности настоящим чудом, так как средство-то было очень сильное! Стоило только взглянуть на жену учителя, ее прямо распирало. А муж стал относиться к ней так нежно, заботливо. Каждый раз, когда она выходила во двор, он бежал за ней следом и совал ей теплый платок в отверстие между досками.
Однажды дети зашли утром к старухе и застали ее на ногах: она надевала на себя юбки.
– Ты выздоровела, Расмуссен? – с интересом осведомились они. – Совсем выздоровела?
– Да, да, будьте спокойны! – отвечала она, прыгая по комнате, как сорока.
Дети смеялись так, что у них в горлышках булькало.
– Еще, еще! – просили они.
– Нет, больше не могу, теперь надо нарядиться по-зимнему.
И старуха Расмуссен накинула на себя через голову еще одну юбку, да вдруг и застряла в ней, – юбка не двигалась ни вниз, ни вверх. Это частенько случалось, к великой потехе ребятишек. Виноваты были старые плечи, которые от ревматизма и подагры совсем окостенели я вдруг отказывались действовать как раз, когда руки были подняты кверху. Так старуха и стояла с шерстяной юбкой на голове, ничего не видя кругом.
– Где вы, милые детки? – спросила она, притворяясь испуганной.
– Мы здесь! Меня зовут Анна Свенсен, а Петера просто Петер, – он безродный. Видишь ты нас? – серьезно говорила сестренка.
– Нет, но зато я вижу небо, – сказала старуха, стараясь стянуть юбку вниз. – И вижу, как Пер-Голяк едет верхом на черте… нет, на спине участкового попечителя о бедных! Эх, кабы огрел он хорошенько черта кнутом! Да уж больно добр он, простофиля.
– Посмотри-ка еще! Куда они поедут – к господу богу?
Но тут юбка съехала на свое место, и смотреть было уже поздно. Но хорошо, кабы Пер-Голяк добрался до господа бога и пожаловался на попечителя. И будь еще старуха Расмуссен с ним, уж она сумела бы рассказать про попечителя, – много чего знала она про этих господ!
– А какой-такой Пер-Голяк? – спросили дети. – Он сильный?
– Еще бы не сильный! Страсть! Такой силач, что приходится ему ходить, засунув руки в карманы.
– А может он поколотить всех людей? – басом спросил Петер, выпятив живот.
– Может-то может, да больно он прост и добр. Люди всячески помыкают им и мытарят его, а он все сносит. Одно слово – простофиля!
– Ай, как мне его жалко! – сказала сестренка.
Но Петер напыжился и принял грозный вид.
– А я бы взял да убил их всех до смерти! – заявил он. Последнее время он убивал всех подряд.
Старухе Расмуссен пришлось рассказать им о Пере-Голяке. Это был такой силач, что деревянные башмаки на нем трескались, и такой добряк, что никак не мог нагулять себе жирку. Когда господь бог создал его, то посадил на землю и сказал: «Вот тут и живи! Тут и солнце найдешь и тень!»
Но всю солнечную сторону занял черт со своими присными и заявил: «Тут наше место!» Пришлось Перу-Голяку удовольствоваться местечком на теневой стороне, – там было хорошо днем, но холодно ночью. «Замерз небось! – кричал ему ночью лукавый. – Я слышу, как у тебя зубы стучат!»– «А ты вспотел небось, – отвечал ему Пер-Голяк днем, когда светило солнце. – Берегись, толстопузый, как бы тебя не растопила жара!» Тогда лукавый взял да выдумал зиму. И Перу-Голяку пришлось мерзнуть и днем и ночью. Увидав это, господь бог послал Перу чудесное новое пальто и теплую перину. Лукавый даже позеленел от зависти. «Эти вещи и мне бы пригодились», – подумал он, хотя они вовсе не нужны ему были. Походил, пораскинул умом и открыл ссудную кассу. Вот он каков! А Пер-Голяк так уж был создан, что не мог пройти мимо ссудной кассы и не заложить чего-нибудь. Вот он сбыл туда и пальто и перину, да как раз зимою, когда холодно. Летом, когда тепло, он, пожалуй, их выкупит, – у него все идет шиворот-навыворот. Пера-Голяка всякий сразу узнает именно потому, что он закладывает свои вещи как раз тогда, когда особенно нуждается в них, и выкупает, когда они не нужны вовсе.
– Вот и мама тоже, – сказал Петер.
– Да, если посмотреть хорошенько, вы, пожалуй, сродни Перу-Голяку. Ну, вот так и тягается из-за него господь бог с лукавым. Но господь бог-то поблагороднее, где же ему угнаться за всеми каверзами лукавого! Оттого Перу-Голяку живется все хуже и хуже.
– Все это неправда, – сказал Петер, – потому что никакого бога нет.
– Как нет? А кто же сидит в Мраморном соборе? Если кто хочет разбогатеть, – должен потянуть его за бороду да трижды плюнуть. Но мало у кого хватает на это духу; оттого-то на свете так много бедняков.








