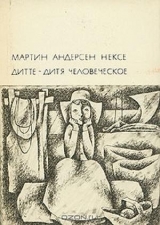
Текст книги "Дитте - дитя человеческое"
Автор книги: Мартин Андерсен Нексе
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 50 страниц)
XIII
СЕРДЦЕ
Говорили, что Карл родился с морщинами на лбу. «У него тяжелая наследственность, – прибавляли люди, – не диво, что он такой».
Да, он был живым свидетельством проклятия, тяготевшего над хутором. Но другие два брата, что ушли из дома, были людьми вполне нормальными. Зато злой рок грозил тем, кто долго служил или жил на хуторе. Наследственный недуг каким-то непостижимым образом одолевал иногда чужих, минуя своих. Ваять хотя бы Сипе – разве она не дурит? Здоровая, краснощекая, а бегает от мужчин, как от чумы! На что это похоже? Такая красивая девушка – и готова глаза выцарапать любому мужчине, который вздумает подойти к ней поближе! Не знает других радостей, кроме сберегательной книжки!.. Про Расмуса Рюттера и говорить нечего, все знали, каким пакостником стал он на хуторе. Да не ушла, видно, от заразы и девчонка. Прибегает вдруг в поселок ночью, как полоумная, и давай стучать в двери, словно за ней гнался кто. А спросили ее – в чем дело, она стоит и не знает, что сказать. Вот и пойми ее!
Да, слишком прочно укоренился на Хуторе на Холмах старый уклад жизни, передаваясь из поколения в поколение. Никогда там не производилось коренной ломки и чистки, никогда не обновлялось ничего. В притоке новой крови собственно недостатка не было, на хуторе то и дело женились или выходили замуж за чужих; случалось, пробирались в семейное гнездо и совсем посторонние; обитатели Хутора на Холмах никогда особенно не чтили святости брачных уз. До крупных перемен дело никогда не доходило. Хутор оставался на прежнем месте, там ничего не менялось. Старые истории, старые любовные шашни, старые пороки передавались из поколения в поколение, о них постоянно рассказывали, да и новые факты добавлялись. Самые стены были пропитаны всем этим, даже постельное белье и перины, переходившие по наследству с незапамятных времен, отяжелели и отсырели от этого. Чудо мог сотворить только пожар, и кое-кто из хозяев пытался помочь судьбе перенести хутор на новое место. Но всегда безуспешно: Хутор на Холмах и огонь не брал. Там оставались те же миазмы, тот же воздух, та же зараженная микробами атмосфера, которая все более сгущалась по мере того, как жизнь шла дальше. Болезни и денежные затруднения и дурные поступки одинаково и подтачивали и создавали традиции хутора. Серебряная стопка в шкафу Карен, помеченная 1756, го дом, и туберкулезные бациллы в ее старых перинах одинаково способствовали тому, что воздух на хуторе был не чище, чем в помойной яме. Люди здесь жили и работали на продуктах разложения предыдущих поколений, черпали в них свою пищу и свою смерть. Жизнь расцветала на кладбище, на почве, удобренной рабским трудом, потом и преступлениями.
Дитте чувствовала эту тлетворную атмосферу. Ее собственный родной дом был, к счастью, свободен от всякого балласта старых пережитков; для членов семьи Живодера все было в будущем. И это придавало их жизни, несмотря на все превратности судьбы, особую свежесть, – они дышали будущим, чем-то новым, еще не тронутым тлением жизни. Семье Живодера не от кого было ожидать наследства, и она легко порывала с прошлым. У членов ее выработалась добрая привычка ставить крест на том, что осталось позади, и глядеть только вперед. Глупо было, по мнению Ларса Петера, ворошить старое, вспоминать старые болезни и старые невзгоды. Лучше поступить так, как делают цыгане: собираясь приготовить жареного зайца из украденной кошки, прежде всего следует обрубить ей хвост.
Дитте храбро боролась и справлялась с будничными невзгодами: хуже всего был мрак, накладывавший на все свой отпечаток и донимавший людей. Дитте понимала, почему Карл приходит в такое отчаяние от поведения матери. Это отчаяние можно было рассеять уговорами, иногда удавалось даже совсем прогнать его. Но ужаса, постоянно омрачавшего душу Карла, его способности расстраиваться из-за пустяков Дитте понять не могла, и пытаться утешать его в таких случаях было все равно, что носить воду решетом. Стараться поднять в нем дух было делом безнадежным.
.. Но и бросить Карла на произвол судьбы Дитте не могла. Не могла перестать думать о нем и заботиться. Ее доброе сердце не допускало этого. Жизнь не церемонится с маленькими людьми, как птенец кукушки с мелкими пташками: займет все гнездо, а приемным родителям только и остается, что набивать его ненасытный клюв. И Дитте волей-неволей пришлось взвалить на себя всю тяжесть того мира, который создавался и существовал без ее участия; иного выхода не было. Ведь будь Карл еще малым ребенком, – она бы попросту взяла его на руки, поиграла с ним, уговорила, рассмешила и заставила забыть обо всем.
Да, Дитте волей-неволей боролась и мучилась за него, боролась так долго, что отчаяние вновь поселилось в ее душе. Не было ни малейшего намека на нежность, которая соединяла ту памятную ночь с настоящим, никакая ласка не связывала их. Просто он приходил, мрачный и расстроенный, искать у нее убежища от надвигавшегося на него мрака, и она не знала другого способа, нежели прижать его к себе и утешать по мере сил – как в тот первый раз. Некогда было думать о себе самой и быть настороже, когда рядом погибал человек! И вот однажды осенью он снова пришел в ее каморку. Вот в эту-то ночь Дитте и бегала в поселок и стучалась в чьи-то двери.
Ей было тяжело до безумия. Ведь они даже не были тайно влюбленными. Просто ей приходилось приносить жертву, в сущности совершенно непосильную. Едва оперившись сама, она должна была окружать Карла своими заботами. Днем она ходила, как в тумане, полная скорбного недоумения; раскаяние терзало ее детскую душу. Если она заводила об этом серьезный разговор с Карлом, раскаяние заражало и его, и он начинал обвинять себя и впадал в отчаяние. Ей же приходилось потом успокаивать его. Что поделаешь!
Да, прямо сил не хватало одной нести это бремя, и ей страстно хотелось довериться кому-нибудь. Но обращаться к Сэрине ей и в голову не приходило, у отца, же достаточно своего горя, да и, кроме того, он – мужчина. А вот хозяйка?.. Временами Дитте казалось, что она погибнет, если не доверится кому-нибудь из взрослых: бремя сломит ее. Но, когда она со своей обычной, почти старческой серьезностью объяснила это Карлу, он перепугался до безумия, в глазах у него застыл ужас.
– Да нечего, тебе бояться матери, – уговаривала его Дитте. – Ведь это все из-за нее же! Пойдем к ней и скажем, что она должна переменить свою жизнь… иначе она погубит нас обоих.
– Лучше я пойду в ригу и повешусь! – грозил он.
Несколько дней он боязливо сторонился ее, не разговаривал с нею во время работы; молчал, стиснув зубы, словно дал себе зарок. Но взгляд его искал ее – робкий, молящий, и Дитте понимала эту мольбу и молчала. Ей было жаль его, ему ведь больше не к кому было прибегнуть в тяжелую минуту.
Так прошла осень и большая часть зимы, – для Дитте тяжелая, мучительная полоса жизни. Мало было в ней светлых минут – побывки дома да приготовления хозяйки к свадьбе. Карен Баккегор, совершенно не считаясь с мнением всех добрых людей, решила выйти замуж за Йоханнеса. Карл, по обыкновению, пришел в отчаяние, но Дитте радовалась, как ребенок. Свадьба предполагалась весной, в мае, а она ведь ни разу еще не бывала на свадьбах!
– И тебе бы радоваться! – увещевала она Карла, чтобы оправдать собственную радость, – раз они все равно хороводятся!..
Дитте было уже без малого семнадцать. Тяжело достались ей эти первые семнадцать лет жизни, каждый год оставил по себе горькую намять. Работать ей пришлось с самого детства, нянчить младших детей, воспитывать их, заменять им мать. Покидая родной дом, она уже оставляла за собой тяжелое трудовое прошлое взрослого человека. Слава богу, оно позади, можно, стало быть, разогнуть спину.
Да не тут-то было. Едва успев поднять на ноги малых братьев и сестренок, она должна была начать сызнова нянчить на этот раз собственное дитя. Под сердцем у нес, под ее измученным сердечком зашевелилось повое бремя, тяжелее всех прежних. Другие заметили это раньше, чем она сама, и стали поглядывать на нее как-то странно. Она же, как сбитый с толку ребенок, не сразу поняла, в чем дело. Сине ничего ей не говорила, но грустно смотрела на нее и вздыхала, щадила ее в работе, и вот Дитте стала догадываться. Многое, многое подтверждало ей печальную истину: человек, ища утешения себе, горько обидел ее, и теперь вдобавок ее ждала расплата – ребенок.
Однажды, когда она работала в кухне, у нее началась сильная рвота. Сине пришлось держать ей лоб рукою: все тщедушное тело Дитте чуть не ломалось пополам.
– Аж ты, бедняжка! – сказала Сине. – Поменьше бы тебе бегать летом на все эти пляски. Я так и ждала беды, уж больно ты без ума бегала.
– Это не от того, – со слезами ответила Дитте. Холодный пот выступил у нее на лбу и на верхней губе.
– Ну, да это не мое дело. Но соберись теперь с силами и возьмись за работу, чтобы хозяйка не догадалась.
Ах, пляски, пляски!.. Бели б еще она доплясалась до того! Она слыхала о таких девушках, которые доплясывались до ребенка, и задумывалась над этим выражением; оно звучало красивой песнью и нисколько не отпугивало ее от танцев. Если уж ей суждено иметь детей, – бабушка пророчила ведь, что она будет рожать их легко, – го самое лучшее было бы «доплясаться» до них.
Смятение, отчаяние поселились в ее душе. Ей казалось, что все люди не сводят с нее глаз и относятся к пей как-то странно, скорее всего враждебно. Карл избегал ее; как она ни старалась, ей никак не удавалось больше поговорить с ним наедине. Дорого дала бы она теперь за доброе слово, но ни у кого не находилось дли нее ласковых слов… А домашние… если они узнают об этом?.. Отец?
Однажды Сине прибежала за нею в хлев.
– Тебя хозяйка зовет! – сказала она, глядя на Дитте с ужасом.
Сама Дитте не испугалась, не страх был у нее в душе, а скорее всего предчувствие развязки, освобождения.
Карей Баккегор сидела у себя в чистой комнате за столом, видимо, приготовясь разыгрывать судью. Она повязалась черным платком, а в руках держала книгу. Позади нее стоял Карл, с мольбой глядя на Дитте.
Но она чистосердечно рассказала все, как было, я дело с концом. При всех своих недостатках хозяйка всегда слыла справедливой, – умела разобрать, кто прав, кто виноват в серьезных случаях. Стало быть, она поймет, что Дитте просто пожалела Карла… и поможет ей как-нибудь.
Но так далеко чувство справедливости Карен Баккегор в данном случае не шло. Быть может, сыграло тут роль и то, что она сама, чувствуй себя виноватой перед сыном, рада была найти в нем соучастника. И приняла его сторону, не стала даже бранить его, но весь свой гнев обрушила на Дитте.
– Вот мне за то, что я приняла тебя, поила, кормила, одевала, – говорила она. – Вместо благодарности, позор и несчастье! Если бы поступить с тобою, как ты того заслуживаешь, надо заявить про тебя начальству, а не просто прогнать со двора. Смотри сама статьи закона.
Карен показала ей закон о батраках и заговорила по-книжному высоким слогом:
– Ты соблазнила на худые дела одного из чад хозяйских – статья шестая. Ты вступила в прелюбодейную связь с лицом из хозяйской семьи – статья двенадцатая. И, наконец, ты, хотя и незамужняя, забеременела – статья тринадцатая. Ты трижды преступила закон, и с тобой можно поступить как угодно. Забирай свои пожитки и марш отсюда! Живо!
Дитте выслушала все, как истукан, даже без слез. У хозяйки в руках был закон, она осудила Дитте по всем правилам закона – и все-таки извратила истину. Выходила чистейшая бессмыслица, но Дитте вспоминала странные слова отца, что слуги бесправны. Когда хозяйка приказала ей покинуть хутор, она перевела глаза на Карла – удивленные, невинные, детские глаза. Неужто он ничего не скажет? Но он жался к матери и смотрел на Дитте, как на настоящую соблазнительницу. Тогда она, шатаясь, побрела к себе в каморку и связала в узелок свои пожитки.
Пожалуй, Карен Баккегор не совсем была уверена в силе характера своего сына и хотела как можно скорей спровадить Дитте со двора; во всяком случае, она пошла вслед за девушкой и стала торопить ее.
Когда Дитте взяла свой узелок под мышку и собралась уходить, Карен вдруг приподняла угол перины и спросила, глядя на нее с жадным любопытством:
– Это ты здесь грешила?..
Дитте побрела куда глаза глядят, без мыслей, без желаний; в душе у нее как будто все погасло, и вокруг была холодная пустота. Лишь одно мелькнуло у нее в голове: домой она не пойдет… ни за что на свете.
Стояла ранняя весна. Земля еще не совсем оттаяла в глубине, но верхний слой на полях уже сильно размяк. Дитте плелась, меся грязь, застревала, снова подвигалась вперед и кое-как добралась до общественных лугов.
Вокруг «островков», где она свивала свои гнездышки, стояла вода, ей пришлось переходить вброд. Вода хлюпала в ее башмаках, из носу капало, она плакала про себя жалобным, неслышным плачем, без слез. В «гнездах» было голо и холодно, на кустах не распустилось еще ни листочка; разные мелкие вещицы, которыми она в свое время забавлялась, лежали там, где она их оставила. Она побрела обратно и уселась на мшистом бугре, где так часто сиживала, свесив ноги вниз, за починкой своей одежды.
Она сидела и смотрела вниз на темную воду, где щуки уже гонялись за водяными жуками, и вспоминала мрачные рассказы про девушек, попавших в беду и покончивших с собой. Думала о том, как должно быть там в воде холодно, и вздрагивала. Печальными песнями звучали в ее ушах эти рассказы, такие далекие и как будто нереальные, но все же глубоко трогательные. Много было сложено песен про таких несчастных девушек, и Дитте сама их певала, плача от жалости. Но теперь она лучше понимала их. Бедняжек находили и хоронили – с ребенком под сердцем. И когда наступал их час… Тут невольно вспомнилась ей жена трактирщика, которой нечем было повить свое дитя. Но еще тяжелее было вспомнить о не-родившемся младенце, которому выпала такая горькая доля, о маленьком существе, мерзнувшем без пеленок, без свивальников… Сердце Дитте облилось кровью. Она с ужасом отшатнулась от воды и начала бесцельно блуждать по полю.
В поле ее кто-то окликнул. Она подняла голову. Это был Карл. Он торопливо бежал вниз, кричал и махал ей рукой. С минуту стояла она, ничего не соображая, затем повернулась и побежала от него.
– Мне надо поговорить с тобой! – с мольбой кричал он, – Мне надо поговорить с тобой!
Она слышала за собой его шаги и бежала все быстрее, с бессмысленными воплями. Мокрые юбки так и хлестали ее по пяткам. Она пробежала через все луга, мимо хижины Расмуса Рюттера, откуда, разиня рот, глядели на нее ребятишки, и продолжала бежать, пока не достигла дороги, которая вела к рыбачьему поселку. Там она спряталась между дюнами.
Лишь с наступлением сумерек осмелилась она прийти в самый поселок. Задами прокралась в гавань, чтобы ни с кем не встретиться. Ей казалось, что все с первого взгляда поймут, в чем дело.
Ларс Петер работал в лодке со своими товарищами. Один из них что-то рассказывал, и вот раздался густой теплый отцовский смех… Дитте чуть не вскрикнула.
Она притаилась за лодкой, перевернутой килем вверх, вся промокшая, жалкая, и ждала, когда отец покончит с работой. Долго, ужасно долго тянулось время. Рыбаки кончили работать, но стояли и разговаривали на молу.
Дитте сидела, чуть не плача от холода, и понять не могла, как это люди могут болтать так беззаботно.
Наконец Ларc Петер простился и пошел. Дитте приподнялась и шепнула:
– Отец!..
– Черт возьми… никак, это ты? – вырвалось у него. – Как ты сюда попала?
Она стояла молча, слегка пошатываясь впотьмах.
– Ты больна, девочка? – спросил он и обнял ее, чтобы поддержать. Увидев, какая она мокрая, в каком жалком виде, он пристально взглянул ей в лицо.
– С тобой беда какая-нибудь стряслась? – спросил он.
Она отвернулась и при этом движении в нем забрезжила догадка.
– Пойдем домой, – сказал он и бережно взял ее под руку. – Пойдем домой… к матери!..
Голос у него оборвался. В первый раз услышала Дитте, что ее крепкий, рослый отец не выдержал… И этот надорванный звук резнул ей но сердцу. Тут только она по-настоящему поняла весь ужас своего положения.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
КОНЕЦ БОЛЬШОГО КЛЯУСА
Трактирщик продал площадку, на которой рыбаки сушили сети. Скажи обитателям поселка, что он продал море, это не озадачило бы их сильнее. Рыбаки пользовались этой площадкой с незапамятных времен, с тех пор вообще, как существовал самый поселок; поколения за поколениями в течение столетий развешивали здесь для просушки свои невода, вытряхнув из них сначала морскую траву; здесь же чинили дыры, прорванные в сетях морем. Вдоль вбитых кольев образовались небольшие бугорки, так как сети очищались тут же на месте, а между этими бугорками протоптаны были дорожки. Сушильная площадка считалась общим достоянием, принадлежала всем и никому. Вместе с примыкающим к ней берегом она была памятью о тех временах, когда вся земля являлась общим достоянием. На этой площадке играли ребятишки, собирались вечерами посудачить женщины, – сушильная площадка была центром поселка. Никто никогда не осмеливался поставить на ней сарай для своих снастей, опрокинуть там кверху килем свою лодку, словом, так или иначе присвоить ее, пользоваться ею для своих личных целей.
А вот теперь трактирщик взял да и продал ее. Получил, говорят, несколько тысяч крон за то, что вовсе не принадлежало ему.
Впервые очнулись рыбаки от своей тупой дремоты и зароптали, – это уж было слишком даже для них. Они собирались в кучки, галдели, сердились и разошлись, наконец, до того, что отправили в город ходоков посоветоваться с адвокатом. Но оказалось, что трактирщик сумел так обставить дело, что к нему нельзя было придраться. У него были выправлены бумаги не только на площадку, но и на все рыбачьи хижины поселка, которые переходили из рода в род, от отца к сыну. Рыбаки, собственно говоря, являлись уже простыми съемщиками и только благодаря особенной доброте трактирщика ничего не платили за наем. Он мог их выселить, когда хотел.
Как все это вышло? Да, как? Хоть бы нашелся какой-нибудь умник, который сумел бы раскусить трактирщика! Один уступал ему немного тут, другой – там; кое-кто прокутился, другие отрекались от своих прав ради куска насущного хлеба. Трактирщик частенько ведь забегал с бумагами: подпиши вот это, ради порядка, как он уверял всегда. Ну читали-то они все не бойко, да и к чему было читать? Сунь кто-нибудь свой нос в бумаги Людоеда – не поздоровилось бы смельчаку!
Рыбаки не могли примириться с продажей площадки. Зато печальное несвоевременное возвращение Дитте под родительский кров не вызвало того внимания, какое возбудило бы при других обстоятельствах. Правда, женщины перешептывались между собой и косились мимоходом на хижину – «богадельню», но без особого ехидства. Самое прозвище «богадельня» потеряло остроту, – теперь все в поселке жили как бы из милости.
Как только весенняя вода спала и дорога к поселку просохла, из города стали возами возить столбы и проволоку для ограды, сушильную площадку огородили. Трактирщик сам бегал взад и вперед и вымерял шагами землю вместе с каким-то низеньким толстяком, – столичным коммерсантом, как говорили. Изгородь довели до самой воды. Пришлось рыбакам очистить сушильную площадку и устраиваться по-другому, – странно все это было, напоминало изгнание с родины. И по берегу, где прежде ездили невозбранно, не стало уже ни проезда, ни прохода, – поезжай поселком! Трудно было жителям привыкать к новым тропам, и, прежде чем они приучились считаться с изгородью, – не раз была она повалена и поставлена вновь.
Очень все это было обидно, но и интересно. Тот, кто купил площадку, видно, был такой богач, что не знал, куда деньги девать. Вот и вздумал закопать их здесь в песке – сумасброд! Он собирался ведь воздвигнуть здесь целый дворец да еще сад разбить – среди песков. Земли предполагалось навозить с полей трактирщика. Впрочем, и там ее было немного.
Попозже весной привезли из ближайшего города кирпич и бревна. Возчики, однако, не брались доставлять материал по зыбучим пескам и сваливали его перед дюнами, откуда волочил его по частям до самого места постройки Большой Кляус. Коммерсант приезжал через день то с одним, то с другим спутником, – они бегали кругом по дюнам с длинными измерительными лентами-рулетками, ставили подзорную трубу на треноге, смотрели в нее по сторонам, поглядывали на полосатые столбы и вбивали в землю колья. В руках у них были длинные рулоны бумаги, которые они то и дело расстилали ил траве, совещаясь между собою. Все это было так таинственно. Ребятишки из поселка целыми днями висели на изгороди, вытирая нос рукавами и глазея. От весеннего ветра и напряжения у всех слезились глаза и текло из носу, а малыши сидели в мокрых штанишках, – настолько детвора была поглощена зрелищем. И то один, то другой малыш вдруг с ревом убегал домой, – по обыкновению, уже слишком поздно.
Маленький Поуль тоже торчал здесь. Ему исполнилось семь лет и на днях предстояло идти в школу, так что он старался не терять даром времени. Он проводил здесь целые дни, но ему казалось скучным стоять за изгородью и глазеть, и Поуль на второй же день перемахнул через нее. Вышло все очень просто: у кого-то из тех людей вырвало ветром бумажку, а мальчуган, только и ждавший предлога очутиться там, мигом перескочил через изгородь и поймал бумажку. А раз он попал туда, никому и в голову не приходило выгонять его.
Он старался быть полезным, бегал с рулеткой, носил за людьми вехи. Сэрине окликнула его с порога кухни, – он как будто и не слыхал. Наконец Дитте едва-едва дозвалась его не то затем, чтобы он поел, не то хотела послать куда-то – словом, Поуля разбранили.
– Посидишь в наказание дома, – заметила Дитте.
Сэрине промолчала, но не успели они обе оглянуться, как мальчишки и след простыл. Ничего с ним нельзя было поделать.
Взрослые робко сторонились чужих и наблюдали за ними издали – чаще всего из окошек и в дверные щели. Так вот они, копенгагенцы! И сюда добрались. Они сразу изменили весь ландшафт, даром что их было всего двое. И уж раз такие заберутся куда – их не выкуришь; «как клопы размножаются», – говорили про них люди. Добра от них вряд ли можно было ожидать.
Большому Кляусу, во всяком случае, не за что было благодарить новых людей. Не слишком-то хорошо жилось ему с тех пор, как он попал к трактирщику, но старые хозяева хоть не видели, как с ним обращались. Теперь же его мучили прямо на глазах у них. И просто сил ее хватало отойти от окна, когда воз со скрипом и тарахтением полз по песку, а возчик ругался, орал и хлестал конягу. Сестренка Эльза, видя это, плакала. А Дитте, распахнув окно, звала отца. Когда Ларc Петер был поблизости, он прибегал на помощь и подталкивал воз сзади. Иногда он ругал возчика – молодого работника, но этим лишь ухудшал дело.
Плохо, видно, приходилось Людоеду, коли он согласился продать песок и землю и возить чужое добро. Он больше привык тащить все к себе. Но проку от всего этого все же не получалось. Он не вылезал из долгов и чуть не каждый день ездил в город добывать деньги. Бегал он и по гавани и требовал от рыбаков, чтобы они усерднее ловили рыбу. Они обещали, но работали по-прежнему спустя рукава.
– Нам все равно пользы никакой, сколько ни старайся, – говорил Ларc Петер, – так чего же и рыбок пугать.
Трактирщик все еще не оправился после истории с женою. Может быть, это и выбило у него почву из-под ног. Ни в чем не было ему больше удачи. Во время весенних бурь он лишился некоторых снастей, а зимним льдом затерло и раздавило одну лодку. Все это были мелкие удары, но он и их снести не мог. Новой лодки так я не приобрел. Пришлось опять спустить на воду одну из старых, уже забракованных ранее.
Раз Людоед пришел с берега с двустволкой на плече, – ходил стрелять морских птиц. Его огромная голова вдруг показалась в верхней половинке кухонной двери. Дитте взвизгнула и невольно схватилась за рукав матери.
– Ну, теперь вдвоем тут толчетесь, друг дружке помогаете? – дружелюбно заметил он, бросая на кухонный стол связку дичи. – И Дитте по-прежнему взвизгивает, а ведь, кажется, пожила в чужих людях, где, как видно, ее отучили бояться щекотки. – Он проговорил все это со своей обычной холодной гримасой, скаля лошадиные зубы. – Да, да… а я было думал, что Дитте поможет выгружать кирпич. Там не хватает человека, она же так выросла и окрепла.
И он заковылял дальше, не дожидаясь ответа. Долго слышно было его свистящее дыхание.
Дитте вся побагровела от намека. Постояв с минуту, она вытащила из чуланчика под лестницей передник аз мешковины и медленно пошла к двери. В глазах ее застыл страх.
Сэрине обернулась. Медлительность девушки поразила ее. С минуту она глядела на дочь со своею обычною безучастностью, потом отняла у нее передник.
– Я пойду, – сказала она.
– Но ведь он мне велел, – робко возразила Дитте. Мать ничего больше не сказала, надела передник и пошла. Дитте проводила ее благодарным взглядом.
Да, на этот раз Дитте не обходила с торжественным видом своих друзей и знакомых в поселке, она вообще избегала выходить из дома. Ларc Петер с Сэрине решили поберечь ее от насмешливых взглядов: незачем ей проходить сквозь строй. Дитте оставалась дома и сняла с матери всю черную работу, что было совсем не лишнее. Сэрине стала такая слабосильная.
Из окошек Дитте было видно все: хижины, откуда выходили хозяйки – выплеснуть или выкинуть что-нибудь на песок, и снова скрывались в дверях; гавань, где работали мужчины, и бывшая сушильная площадка, возле которой теперь торчали ребятишки. На постройке работало несколько городских каменщиков. Помещались они на постоялом дворе и столовались в харчевне. Они были социалисты и отказались, как рассказывали люди, валяться на сеновале и хлебать из общей миски в людской трактирщика. Дитте с любопытством поглядывала на них. Через открытую половинку кухонной двери она слышала кашель матери и видела, как та снимает с воза кирпичи и складывает их в штабели. Тяжелая это была работа для Сэрине – только бы у нее сил хватило! Кляусу же доставалось больше всех, он не выходил из хомута целый день. Ему даже роздыха не давали, а сразу перепрягали из одной телеги в другую, пока первую разгружали. Возили на трех телегах.
Вот он опять застрял в глубокой колее, размытой весенним ручейком. Возчик так бил мерина кнутом, что эхо отдавалось от хижины Расмуса Ольсена; парень повернул кнут и бил кнутовищем, – конь чуть не распластывался, стараясь вытянуть воз, но воз не двигался, колеса глубоко увязли. Возчик забежал спереди и принялся стегать Кляуса по груди и по передним ногам, затем кинулся к возу, выхватил доску сиденья и ударил его по крестцу. Дитте забыла все на свете и с громким криком выбежала за угол дома.
Из гавани бежал Ларc Петер, громыхая деревянными башмаками.
– Перестань, живодер! – кричал он, потрясая кулаком в воздухе. Кляус рванул, и передние ноги его глубоко ушли в мокрый песок.
– Придержи воз, дьявол тебя побери! – ревел Ларc Петер, но было уже поздно. Воз навалился на круп лошади, оглобли затрещали. На минуту Ларc Петер вышел из себя, схватил возчика за горло и, казалось, готов был задушить его.
– Отец! – в ужасе завопила Дитте.
Ларс Петер выпустил парня и подошел к коняге. Большой Кляус лежал на боку и тяжело дышал. Передние ноги его глубоко увязли в песке, а воз наполовину придавил его. Прибежали люди, кто из гавани, кто с постройки, и помогли Ларсу Петеру спихнуть тяжесть с мерина и освободить его от упряжи. Ларc Петер разгреб песок.
– Вставай, старый товарищ, – сказал он, потянув за уздечку.
Кляус поднял голову и поглядел на старого хозяина, но опять повалился на бок, тяжело дыша. Передние ноги оказались сломанными.
– Придется его пристрелить, – сказал Ларc Петер. – Другого ничего не остается.
– Ах! Значит, у нас будет конина! – радостно закричали ребятишки из поселка, но дети из «богадельни» заплакали.
Пришел трактирщик и самолично пристрелил Кляуса. Потом его взвалили на телегу и повезли во двор трактирщика. Ларc Петер помог взвалить его и пошел за ним следом, – он хотел сам снять с Кляуса шкуру.
– Я в свое время не брезговал живодерством, так неужели же я не окажу Кляусу этой последней услуги? – сказал он в свое извинение Сэрине.
Она промолчала, как всегда, по, видимо, ничего против этого не имела.
В то же утро, когда делили конину, Сэрине немножко оживилась, против обыкновения. Она послала детей с большой корзиной.
– Постарайтесь получить хороший кусок, – сказана она. – Нам-то он ближе был, чем другим.
В этот день Ларсу Петеру подали к обеду тушеное мясо, чего он давно уже не едал.
– Удивительно, – сказал он, прожевывая кусок, – ведь какой он был дряхлый, замученный, а мясо все-таки превкусное. Просто прелесть! Ты бы поела хорошенько, мать; конина, говорят, очень полезна для слабогрудых… Да, другого такого чудесного коняги не сыскать!. Ешьте, ешьте детки, не каждый день у нас мясо на столе! – пошутил он.
Это был смех сквозь слезы.
Мальчики были, по обыкновению, голодны как волчата. Дитте теперь вообще стала капризна в еде, так что с нею нечего было считаться. Но Эльза, сколько ни жевала, никак проглотить не могла, такая дурочка! Мясо как будто все разбухало у нее во рту.
– Ужасно странно, – сказала она и вдруг разревелась.








