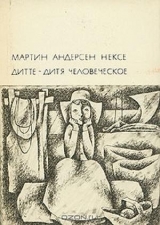
Текст книги "Дитте - дитя человеческое"
Автор книги: Мартин Андерсен Нексе
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 50 страниц)
Но Сэрине рассердилась.
– Ну, не кривляйся, девчонка! – сказала она, вытаскивая Дитте. – Поцелуй свою мать сейчас же!
Дитте разревелась, стала отбиваться, и видно было, что Сэрине уже готова пустить в ход свои родительские права – отшлепать упрямицу. Муж быстро вмешался, подхватил девочку и посадил на спину коняги.
– Погладь Кляуса и поблагодари его за то, что так хорошо вез, – сказал Ларc Петер, и когда ему удалось успокоить Дитте, он поднес ее к Сэрине, говоря: – Теперь поцелуй маму!
Дитте послушно протянула губы, но тут уже не захотела Сэрине, она сердито поглядела на дочь и пошла накачать воды для лошади.
Сэрине зарезала для гостей двух цыплят и вообще не поскупилась на угощение, но сердечности, радушия не проявила. Она всегда была холодна в обращении, всегда больше всего занималась собой и с годами не стала мягче. Уже на следующее утро старая Марен заговорила о том, что им пора собираться домой.
И Сэрине не стала отговаривать ее.
После обеда Ларc Петер запряг конягу, усадил бабушку с внучкой в повозку, и они поехали домой с легким сердцем, довольные, что все кончилось. Сам Ларc Петер был в дороге совсем другой, нежели у себя дома, – пел и шутил, тогда как дома боялся неловко ступить. Бабушка и внучка нарадоваться не могли, очутившись опять в своей хижине.
– Слава богу, что не приходится нам есть хлеб у твоей матери, – сказала старуха, когда Ларc Петер Хансен распростился с ними.
А Дитте обняла старуху и поцеловала. Сегодня она по-настоящему оценила свою бабушку.
Все же они были несколько разочарованы: Сэрине обманула их ожидания, и домишко оказался плохоньким. Насколько бабушка могла понять из описания девочки, весь он состоял в сущности из нескольких землянок, которые назывались жилым домом, хлевом или еще как-нибудь. Он не выдерживал никакого сравнения с Хижиной на Мысу.
Но сама поездка была чудесной.
XII
ЖИВОДЕР
Все, кто знал Ларса Петера Хансена, сходились в мнение, что он чудак. Он всегда был в хорошем настроении, что вообще противоречит здравому смыслу, а уж ему-то было особенно не к лицу. Он происходил из рода переселенцев-угольщиков, и его ближайшие предки – насколько это сохранила людская память – всегда занимались такими делами, какими брезговали коренные жители. Они-то и дали им кличку «живодеры». Отец Ларса Петера ходил по окрестностям с тележкой, запряженной собаками, и скупал кости, тряпье и разные отбросы; если в каком-нибудь хозяйстве нужно было убить больную или зараженную скотину, то всегда посылали за Хансеном. Он был человек отчаянный и не гнушался запускать руки по локоть в самую скверную падаль, а затем мог сразу приниматься за еду, даже не ополоснув пальцев. Утверждали еще, будто он по ночам откапывает павшую скотину и сдирает с нее шкуру. А дед, по слухам, будучи мальчишкой, состоял в подручных у своего дяди, палача в Нюкэбинге. Про деда рассказывали, будто бы он, если петля недостаточно туго затягивалась, взбирался на перекладину виселицы, прыгал оттуда на плечи повешенному и, оседлав его, оттягивал вниз.
От таких предков ничего хорошего нельзя было унаследовать, во всяком случае, хвастаться этим не приходилось. Ларc Петер, видно, чувствовал это и еще совсем молодым парнем ушел из родных мест. Он переправился на другую сторону залива и нанялся работником где-то в Северной Зеландии. Ему хотелось стать землепашцем. Парень он был рослый, здоровый и сильный, как бык, любой хуторянин готов был взять его в батраки.
Но если Ларc Петер рассчитывал убежать от дурной славы, то ошибся. Слухи о его родне шли за ним по пятам и вредили ему. С таким же успехом он мог бы пытаться убежать от собственной тени.
К счастью, он принимал все это не слишком близко к сердцу. Человек он был по натуре хороший – ни единой капли зла не было во всем его существе. Даже непонятно было, почему он такой добрый и отзывчивый. Несмотря на свое бесславное происхождение, он добился равного положения с другими молодыми работниками благодаря своей физической силе и добросовестности; его даже полюбила одна состоятельная девушка, увлеченная его мужественностью и черными кудрями. Она порешила во что бы то ни стало выйти за него замуж, и, вопреки желанию ее родителей, они все-таки обручились. Но вскоре девушка умерла, и ее деньги так и не попали к нему.
Да, Ларса Петера преследовали неудачи, быть может, за грехи его предков. По-настоящему ему не везло ни в чем. Но он принимал это, как обычные удары судьбы. Ларc Петер копил деньги до тех пор, пока не удалось собрать достаточно, чтобы приобрести в собственность клочок земли на Песках. После этого он уже снова начал подыскивать себе жену. Вскоре он обручился с одной девушкой из рыбацкого поселка и женился на ней.
Встречаются на свете люди, на крыше которых любит гнездиться зловещая птица бед и машет своими черными крыльями. Обычно ее никто не видит, кроме самого несчастливца, но бывает и так, что ее видят все, кроме того, на чьей крыше она свила себе гнездо.
Люди думали, что Ларc Петер был из тех, с кем постоянно случается беда. Над его родом тяготели две страшные в мире таинственные силы: кровь и проклятие. И то обстоятельство, что он сам по себе был такой бодрый и веселый человек, только усиливало интерес к нему. От судьбы-то ему все-таки не уйти было! Все явственно видели на его крыше зловещую птицу.
Сам Ларc Петер ничего не видел; с наивною верою в счастье привел он в свой дом милую. Никто не рассказал ему, что она раньше была обручена с моряком, но тот утонул. И к чему рассказывать? Не таков он был человек, чтобы испугаться покойника, тем более, что у Ларса Петера, наверное, никогда и ни с кем не было никаких недоразумений. Да и никому не убежать от своей судьбы!
Молодые зажили очень дружно. Ларc Петер был добр к жене; если выдавалось у него свободное время, помогал ей доить корову, носил воду. Хансина также была довольна и весела; по всему чувствовалось, что муж у нее хороший. А поселившаяся у них на крыше птица оказалась в конце концов просто аистом, так как вскоре Хансина призналась Ларсу Петеру, что у них будет ребенок.
Сроду не слыхал он ничего радостнее и никогда не знавал таких веселых забот, какие теперь появились у него. Все вечера он проводил в сарае: сколачивал там люльку, мастерил полозья для нее и вырезывал из дерева крохотные башмачки. За работой он гудел себе под нос что-то вроде песенки, всегда на один и тот же мотив. Но вдруг прибегала к нему, вся дрожа, Хансина и бросалась ему на шею. С нею во время беременности стало твориться что-то неладное. То она не могла усидеть на месте от какой-то внутренней тревоги, то вдруг замирала вся, словно прислушиваясь к каким-То далеким голосам, и ее уж не дозваться было, сколько ни окликай. Ларc Петер объяснял это ее положением и не беспокоился. Его уравновешенность хорошо действовала на нее, и она мало-помалу становилась опять спокойной. Лишь временами на нее снова нападал страх, и она вне себя прибегала к мужу в поле, и трудно было увести ее обратно домой. Она требовала, чтобы муж постоянно находился поблизости от дома, на виду у нее. Наверное, она чего-то опасалась, боялась оставаться одной; но когда муж начинал расспрашивать ее, она молчала.
После рождения ребенка все это у нее пропало; она стала прежней. Оба радовались ребенку и зажили еще дружнее.
При следующем ребенке повторилось то же самое, только было еще хуже. Временами Хансина положительно не в силах была оставаться дома, без устали бродила по полю и в отчаянии ломала себе руки, прикрытые передником. Заманить ее домой удавалось, только показав ей плачущего ребенка. Но теперь она все-таки сдалась на уговоры мужа и призналась ему, что была невестой моряка и тот взял с нее клятву, что она останется ему верна, если даже он погибнет.
– И он погиб? – спросил с расстановкой Ларc Петер.
Хансина кивнула и добавила, что он грозился вернуться и потребовать ее к ответу, если она не сдержит клятвы, – будет скрипеть ставнем слухового окошка на чердаке.
– Ты дала ему клятву по доброй воле? – испытующе спросил Ларc Петер.
Но Хансина ответила, что жених заставил ее поклясться.
– Ну, так ты ничем не связана, – решил он. – Мой род, пожалуй, не из почтенных; мы – отверженцы, как говорится. Но и отец мой и дед всегда держались того мнения, что мертвых бояться нечего; живые – те куда зловреднее.
Хансина сидела с ребенком, уснувшим в слезах у нее на коленях, а Ларc Петер стоял около и, обняв жену за плечи, тихонько уговаривал ее.
– Теперь ты должна думать только об этом малыше да о другом, которого носишь под сердцем! За один только грех нет нам прощения – это, если мы не заботимся о тех, кого судьба вверила нам.
Хапсина взяла его руку и прижала к своим заплаканным глазам. Потом встала и уложила ребенка в кровать. Она успокоилась.
Живодер не подвержен был никаким суевериям или страхам. В этом отношении его родичи выделялись, как светлое пятно, на фоне темной, суеверной массы людей, за что и были отвержены и обречены на свои особые занятия. Кто не боится привидений, над тем они не имеют власти!
Ларс Петер признавал лишь один вид проклятья на земле – быть отверженным и пугалом для людей. Лично он не был, к счастью, ни тем, ни другим. И ни в какие преследования со стороны мертвецов не верил, но понимал, что с Хансиной творится что-то неладное, и очень за нее тревожился. Перед тем, как лечь спать, он снимал ставень с чердачного оконца и прятал его под крышей.
Так в печали и заботах рождались у них дети – один ребенок за другим. Душевное состояние Хансины не улучшалось, а скорее ухудшалось с каждой новой беременностью. И как ни любил Ларc Петер своих малышей, он все-таки желал, чтобы детей больше у них не рождалось. На самих ребятишках, впрочем, болезненное душевное состояние матери, носившей их под сердцем, ничуть не отражалось. Все они были словно ясное солнышко и, едва научившись ходить, целый день держались около отца. Они вносили радость в его дневной труд, и каждого нового ребенка он встречал, как дар божий. Приняв богатырской пятерней из рук повитухи новорожденного, он подымал его к потолку и радостно приветствовал рокотаньем своего густого баса, глядя, как младенец словно кивает ему беспомощно качающейся головкою, а глазки его моргают от света. Никогда не видывали люди человека, который бы так радовался своим ребятишкам, своей жене и всему, что он, Ларc Петер, мог назвать своим. На языке у него были для них только похвалы, все казалось ему чудесным.
Хозяйство его, впрочем, не особенно процветало. Само по себе оно было маленькое, и к тому же Ларсу Петеру не везло. То скотина падет, то градом побьет посев. Но лишь другие отмечали все эти его неудачи, сам же он не чувствовал себя обиженным судьбой. Напротив, доволен был своим домом и своим хозяйством и продолжал неутомимо трудиться. Ничто его не страшило.
Когда Хансина забеременела пятым ребенком, она прямо как будто помешалась. Она заставила мужа вновь навесить ставень, утверждая, что иначе ей не спастись от сквозняка в кухне. И на этот раз ее просто не выманить было из дому. Она все ждала – не заскрипит ли ставень. Жаловаться она совсем перестала и страха в сущности не испытывала, но как будто со всем примирилась заранее и приготовилась к неизбежному. Ожидание этого поглощало ее всецело, и Ларc Петер с грустью чувствовал, что она как будто совсем отошла от него. Просыпаясь по ночам, он часто убеждался, что ее нет в постели, шел ее искать и находил в кухне, полуокоченевшую от холода. Он на руках относил ее в кровать, как малого ребенка, ласково успокаивал, и она засыпала, прижавшись к его груди.
Она дошла до такого состояния, что он, отлучаясь из дому, боялся оставлять ее одну с детьми. Пришлось взять женщину, которая присматривала бы за нею и за хозяйством. Хансина все в доме запустила, а на детей поглядывала так, как будто они были причиной ее несчастья.
Однажды Ларc Петер повез в город торф. В его отсутствие и случилась беда. Сбылось, видно, то, чего так долго ожидала Хансина. Под каким-то предлогом она отослала женщину, присматривавшую за нею и за хозяйством, и когда Ларc Петер вернулся, то нашел все двери открытыми и в доме и в хлеву; скотина мычала и блеяла, а жены и детей нигде не было видно. Домашняя птица бросилась к нему под ноги, когда он обходил двор кругом, окликая своих близких. Он нашел их всех в колодце.
Ужасное это было зрелище, когда они – все пятеро, мать и четверо детей, – лежали в ряд – сначала на каменных плитах около колодца, мокрые и синие, а потом в саванах на столах в большой комнате. Моряк добился-таки своего! Мать бросилась в колодец последняя, прижимая к груди самого младшего ребенка. Так ее и вытащили, так и в гроб положили и схоронили, хотя она, пожалуй, и не заслуживала этого.
Все были глубоко потрясены этим ужасным несчастьем. И многие готовы были выразить Живодеру сочувствие, оказать поддержку, но он как будто в этом не нуждался, несмотря на такое страшное горе. К нему не так-то просто было подойти с утешениями и услугами.
До самого дня похорон он все ходил около покойников и прихорашивал их. Никто не видел, чтобы он пролил хоть слезинку, даже когда гробы стали засыпать землей. Люди только дивились силе его характера, – он ведь так любил их всех. Должно быть, на нем лежало и это проклятие, – он был из тех, кто не может плакать, – рассуждали женщины.
После погребения Ларc Петер попросил одного соседа хусмана присмотреть за скотиной, пока сам он съездит по делу в город. Уехал – и пропал. Никто не видал его года два-три. Поговаривали, что он ушел в море. Оставшийся после него дом взяли обратно кредиторы, и всего имущества хватило как раз на удовлетворение их претензий, так что Ларc Петер ничего не потерял.
Но в один прекрасный день он опять появился в этих краях, таким же, каким был всегда, готовым, подобно Иову, начать все снова. За истекшие два-три года он подкопил деньжонок и купил ветхую хижину, стоявшую не сколько севернее того места, где был его первый дом. К хижине подходило болото и клочок неудобной земли, никогда еще не паханной. Затем Ларc Петер обзавелся десятком овец, домашней птицей, соорудил для них и для скотины хлев из дерна и болотного тростника и принялся за дело. Стал рыть торф и на тачке возить его на продажу, а когда был хороший улов сельди, в ближайшем рыбацком поселке закупал рыбу и развозил ее по хижинам и селениям, лежавшим вдали от моря.
Вместо денег он охотно брал, в обмен за рыбу, старый железный лом, тряпье и кости. Он взялся за старинный промысел своих предков и был доволен этим. И хотя сам он никогда раньше не занимался торговлей, она пошла у него, как дело, ему давно знакомое. Однажды он привел на двор крупного костлявого мерина, которого купил очень дешево потому, что никто другой им не соблазнился. В другой рае привел под свой кров Сэрине. Вот как ему повезло!
Познакомился он с Сэрине на пирушке, устроенной в складчину в рыбацком поселке, и они быстро между собой поладили. Ей наскучило жить в работницах, а ему надоело одиночество, и они поселились вместе.
Весь день с утра, а иногда и ночью разъезжал он по своим торговым делам. В разгар рыбного лова ему приходилось вставать с постели и выезжать из дому в час, в два утра, чтобы поспеть в поселок к тому времени, когда возвращаются с моря первые рыбацкие лодки. А Сэрине и вовсе не ложилась, чтобы не проспать урочного часа и вовремя разбудить и снарядить мужа в поездку. Такой неправильный образ жизни казался им обоим вполне естественным и шел Сэрине на пользу. Итак, значит, Ларc Петер снова нашел себе жену, да еще такую, что не жалела себя на работе. И конь у него был особенный, подобного которому не сыскать во всей стране. А усадьба? Разумеется, не барская, всего-навсего хижина, сооруженная из соломы, камыша, глины да жердей. Все проходившие мимо подсмеивались над этой хибаркой, но Ларc Петер не роптал.
Он был из тех, кто всегда доволен своим положением Сэрине считала мужа слишком благодушным. Она-то была совсем другого склада – стремилась выбиться в люди и мужа подталкивала к этому. Основным свойством ее натуры было, скорее всего, тщеславие. Когда Ларc Петер уезжал из дому, она справлялась с работой по дому и двору одна и в первое же лето помогла мужу поставить настоящий хлев из старых жердей и необожженного кирпича, который сама лепила из добытой в яме глины и сушила на солнце.
– Теперь у нас скотина стоит, как у людей, – говорила она, но по голосу ее слышно было, что счастливой она себя не чувствовала.
Ларс Петер поговаривал иногда, что им следовало бы взять к себе бабушку и Дитте.
– Сидят там они, бедняги, безо всякой помощи и невесть чем кормятся.
Но Сэрине и слышать об этом не хотела.
– Довольно у нас забот и без них! – резко отвечала она. – И мать, наверно, нужды не терпит. Она всегда была мастерица выкручиваться. А если уж брать их сюда, то я желаю получить свои деньги, которые были выплачены, когда Дитте родилась. По всей справедливости они ведь мои.
– Ну, их-то старики, наверно, давно проели, – предположил Ларc Петер.
Но Сэрине ему не верила. Не похоже это ни на отца, ни на мать. Сэрине была убеждена, что мать припрятала деньги куда-нибудь.
– Вот если бы она согласилась продать Хижину на Мысу и отдать нам все деньги, тогда дело другое. Мы бы тогда поставили себе новый дом, – добавила она.
– Тебе все мало! – усмехнулся Ларc Петер. Он-то считал, что у них неплохой домишко. Сам он всегда был всем доволен, но находил, что другим живется еще недостаточно хорошо. «Если дать ему одному всем распоряжаться, скоро вся семья угодит в богадельню», – рассуждала Сэрине.
Ларс Петер стал избегать таких разговоров, а после того как бабушка побывала у них в гостях и он видел их с Сэрине вместе, он понял, что лучше им жить отдельно. Марен и Дитте сюда больше не приезжали, а он, когда попадал в их края, заезжал в Хижину на Мысу выпить чашку кофе у бабушки с внучкой. Он привозил с собой жареный кофе, чтобы не застать их врасплох и не оказаться им в тягость; привозил также булок и еще кое-чего.
Тогда в Хижине на Мысу наступали праздничные дни. И старуха с девочкой вели счет времени от одного посещения Ларса Петера до другого и ни о чем другом почти не говорили. Стоило только затарахтеть на дороге колесам телеги, как Дитте бежала к окошку, а бабушка широко раскрывала потухшие глаза. Дитте собирала на берегу всякий железный хлам, чтобы сделать сюрприз отцу, а когда Ларc Петер уезжал, она провожала его на телеге до самого дальнего холма, за которым обыкновенно садилось солнце.
Дома у себя Ларc Петер об этих посещениях не упоминал.
XIII
ДИТТЕ – ЯСНОВИДЯЩАЯ
Старуха Марен до того, как ослепла, успела научить Дитте читать, и теперь девочке это очень пригодилось. В церковь они никогда не ходили, – у них не было приличной одежды, да и далеко было до церкви. Впрочем, старуху туда и не особенно тянуло. По долгому житейскому опыту она знала, что не все на свете происходит так, как утверждает пастор в своей проповеди. Но по воскресеньям, когда жители поселка шли в церковь мимо Хижины на Мысу, обе – и бабушка и внучка – были принаряжены: Дитте в начищенных до блеска черных деревянных башмаках и в чистом переднике, а старуха в чепчике с белыми тесемками. Марен с очками на носу сидела у стола на плетеном соломенном стуле, и перед нею лежал старинный сборник церковных проповедей, а Дитте стояла рядом и читала вслух соответствующую дню главу из Евангелия. Марен, хоть и была слепая, считала своим долгом надевать очки и класть перед собою священную книгу, чтобы «все было, как полагается».
Дитте достигла уже школьного возраста, но бабушка как будто знать ничего не знала и не посылала ее в школу. Старуха опасалась, что девочка не сумеет поладить с другими детьми, да и не представляла себе, как она сама будет целыми днями обходиться без Дитте. С полгода их никто не беспокоил, но затем это обнаружилось, и Марен было строго приказано посылать ребенка в школу – иначе у нее отберут Дитте.
Пришлось кое-как снарядить девочку и скрепя сердце отправить в школу. Дать ей с собою метрическое свидетельство старуха поостереглась, – там ведь была роковая пометка: «незаконнорожденная». Марен понять не могла, как можно было так заклеймить невинного ребенка. И без того не сладко придется Дитте в жизни! Но девочка вернулась из школы со строгим наказом принести метрику на следующий же день. Пришлось Марен уступить, бесполезно было дольше бороться с людcкою несправедливостью.
Марен отлично знала, что начальство не от бога, – это она понимала с тех пор, как появилась на свет. Начальство только притесняло ее и таких же, как она, бедняков, пуская в ход свои жестокие приемы, которые не имели ничего общего с волей неба. Бог же, напротив, был другом бедняков, и уж, во всяком случае, по правую руку господа сидел его единородный сын и шептал ему на ухо слова милосердия, заступаясь за бедный люд. Надо полагать, что и сам бог всегда готов был помочь беднякам. Но что толку, если сильные мира сего не желали этого? Здешние господа помещики и прочие им подобные держат власть в своих руках!
Они сидели впереди всех, и к ним повертывался пастор лицом, когда говорил проповедь, а простой народ жался где-то у входных дверей, и пономарь, запевая псалом, только косился в ту сторону. Господам все было можно, начальство носило за барынями их шлейфы и, согнувшись в три погибели, стояло у дверец их экипажа, а если бывало грязно, всегда находилась какая-нибудь усердная поденщица-огородница, готовая стать на четвереньки у подножки, чтобы барыня могла сесть в карету, не запачкав башмачков. В господских метриках, небось, никогда не значилось: «незаконнорожденный», хотя в законности происхождения господ как раз частенько приходилось сомневаться.
– Но почему же бог терпит это? – удивилась Дитте.
– Видно, поневоле, иначе они не станут строить ему церкви и служить молебны, – сказала Марен. – Дедушка Сэрен всегда твердил, что бог в кармане у богачей, а я готова поверить, что так оно и есть.
Три раза в неделю посещала Дитте школу, находившуюся в часе ходьбы, за общественными лугами. Она отправлялась вместе с другими ребятишками из поселка – и ничего, ладила с ними. Дети сами по себе часто поступают необдуманно, но редко умышленно причиняют кому-нибудь зло. Этому учат их взрослые. То, что они кричали вслед Дитте, они слышали у себя дома, повторяли сплетни и пересуды родителей– злого умысла у них не было. Дитте была всегда настороже и скоро убедилась, что они и друг с другом разговаривают так же грубо. Они способны были обозвать ее «шлюхиным отродьем», а через минуту она была с ними на равной ноге, у них не было намерения унизить ее. Поэтому бранные слова утрачивали свое ядовитое жало, излишнею же чувствительностью Дитте не страдала. И родители ребятишек уже перестали суеверно отгонять детей от нее – давно забыто было то время, когда старуха Марен слыла в окрестности проклятой колдуньей и ведьмой; теперь она была просто бедной старухой, еле-еле перебивавшейся вместе со своей внучкой, незаконнорожденным ребенком.
Школу посещали и дети, приходившие с другой стороны общественных лугов, из местности, прилегавшей к Пескам, и случалось, что Дитте узнавала от них новости о Сэрине и Ларсе Петере. Он подолгу не заглядывал к бабушке с внучкой, и мало ли какая беда могла за это время приключиться с ним в его постоянных разъездах и днем и ночью, во всякую погоду. Хорошо, что Дитте встречалась С детьми из тех мест и узнавала от них, что там все благополучно. Марен никогда не видела от дочери ничего хорошего, но все же в жилах Сэрине текла ее кровь.
Однажды Дитте явилась из школы с вестью, что ее вызывают к себе родители. Теперь она перейдет жить к родителям. Дитте узнала об этом через кого-то из учеников.
Старая Марен так затряслась, что вязальные спицы звякнули у нее в руках.
– Да ведь они же говорили, что ты им не нужна! – воскликнула она, и по лицу ее прошла судорога.
– А теперь, стало быть, нужна! Я буду нянчить маленьких, – с важностью отозвалась Дитте и принялась собирать и складывать на стол все свои пожитки. И каждый раз, как она приносила какую-нибудь вещь, старуху всю передергивало, а Дитте говорила ей ласковые слова и гладила трясущуюся руку с сетью синих вздувшихся вен. Марен сидела молча, не переставая вязать, с странно замкнутым, окаменевшим лицом.
– Я буду навещать тебя, а ты должна быть умницей. Ты же понимаешь, что нельзя мне всю жизнь просидеть около тебя. Я каждый раз буду приносить с собой жареного кофе, и мы с тобой угостимся на славу. Но ты должна обещать мне не плакать без меня, но портить себе глаза.
Дитте говорила сухо-рассудительно, увязывая в платок свои вещи.
– А теперь мне пора, иначе не попасть туда до вечера и мама рассердится. – Она сделала ударение на слове «мама», произнесла его так торжественно, что всякое возражение должно было отпасть. – Прощай, милая, дорогая бабушка! – Она поцеловала старуху в щеку, захватила свой узелок и убежала.
Когда дверь за девочкой закрылась, Марен начала громко причитать; со слезами жаловалась она на все свои жизненные горести и невзгоды и страстно призывала смерть. Много-много испытала она в жизни горя и, кончив перечислять все свои беды, снова принималась плакать. Слишком тяжелы были эти воспоминания, чтобы можно было освободиться от их бремени за один раз. И хоть Марен бередила свои раны, но все же чувствовала облегчение и потому еще долго, пожалуй, продолжала бы плакать, да вдруг почувствовала, как детские руки обвились вокруг ее шеи и мокрая щека прижалась к ее щеке. Ах, негодница девчонка!.. Ведь это она вернулась обратно, заявила, что ей пока вовсе не нужно уходить.
Дитте прошла уже порядочно по дороге, до самой пекарни. Там все удивились, куда это она торопится с большим узлом, остановили ее, стали расспрашивать. Объяснениям ее, что она должна поселиться с родителями, там никто не поверил.
Пекарь как раз накануне встретился с ее отцом на ярмарке, и тот не заикнулся от этом, а, наоборот, просил передать старухе с девочкой поклон от него. Дитте смущенно выслушала все это, и вдруг сомнение вспыхнуло в ней самой, – как всегда резкая и стремительная во всех своих движениях и поступках, она разом повернулась и побежала назад к Хижине на Мысу. Не ломая себе головы над тем, как это все вышло, она просто почувствовала невыразимое облегчение от того, что ей можно вернуться к бабушке.
Старуха и смеялась и плакала, расспрашивала и не могла ничего в толк взять.
– Так тебе совсем не нужно уходить отсюда? – восклицала она бог весть в который раз, боясь всерьез поверить этому.
– Да нет же, говорю тебе, у пекаря сказали, что мне не нужно уходить.
– У пекаря… у пекаря… Да они-то при чем тут? Ведь тебе же передали в школе, чтобы ты пришла?
Дитте поторопилась уткнуть нос в бабушкину щеку.
Марен подняла голову:
– Разве не так, дитя? Отвечай же!
– Не знаю, бабушка, – ответила Дитте и спрятала лицо на груди у старухи.
Марен отодвинула ее от себя:
– Так ты меня обманула, озорница! Стыдно тебе терзать мое бедное старое сердце! – Марен опять безудержно разрыдалась.
Все это так неожиданно свалилось ей на голову. И хоть бы еще можно было понять, в чем тут дело; девчонка ведь твердит, что не обманывала ее, сама, видимо, убеждена была, что получила такой наказ из дому, и приходила в отчаяние от того, что бабушка ей не верит. Лгать по-настоящему, в серьезных случаях, Дитте никогда еще не лгала, стало быть, наказ все же был послан. Но, с другой стороны, сама же она говорит теперь, что ей не надо уходить… А что пекарь отсоветовал девочке, – это, конечно, вздор. Просто он остановил ее, потому что ее поведение показалось подозрительным. Марен так и не могла сообразить, в чем тут дело, – разве только, что девчонка выдумала все это?
Дитте же не отходила от бабушки и то и дело гладила ей подбородок.
– Теперь я знаю, как ты будешь горевать, когда мне в самом деле придется уйти, – тихо сказала девочка.
Марен подняла лицо к ней:
– А ты разве думаешь, что тебе скоро придется уйти?
Дитте так усердно закивала головой, что старуха поняла это. Она задумалась. И раньше уже случалось, что девочка заранее предчувствовала то, что случится.
– Ну, как бы то ни было, – сказала наконец Марен, – но ты вела себя, как тот важный барин, про которого я читала в книжке. Он хотел посмотреть, как будут выглядеть его похороны, и устроил похоронное шествие с дрогами, которые везли четыре лошади в черных попонах, и со всем, что положено в таких случаях. А все слуги должны были изображать провожатых в трауре и оплакивать покойника. Сам же барин следил за шествием из слухового окошка, с чердака. А когда он увидел, что слуги, закрываясь носовыми платками, пересмеиваются, вместо того, чтобы плакать, то так огорчился, что и в самом деле умер. Опасно шутить насчет своего собственного переселения куда бы то ни было!
– Я не обманывала тебя, бабушка! – еще раз уверила ее Дитте.
С того дня Марен не могла отделаться от тревоги, что родители отнимут у нее девочку.
– У меня все время звенит в ушах, – говорила она. – Не судачит ли о нас твоя мать?
А Сэрине и в самом деле вспоминала о них в это время. Дитте уже достигла такого возраста, что могла бы помогать дома. Теперь Сэрине сама хотела взять к себе старшую дочь, чтобы нянчить малышей.
– Ей уже девять лет, и рано или поздно нам все-таки придется взять ее к себе, – убеждала Сэрине мужа.
Он возражал, ему жалко было разлучать бабушку с внучкой.
– Тогда возьми лучше обеих, – сказал он как-то.
Но о матери Сэрине и слышать не хотела и продолжала долбить свое, пока муж не уступил ей.
– Мы тебя ждали, – сказала Марен, когда он приехал за девочкой. – И давно знали, что ты приедешь взять ее.
– Не моя это выдумка, но мать имеет некоторые права на своего ребенка, и Сэрине кажется теперь, что она соскучилась но Дитте, – ответил Ларc Петер, желая угодить обеим сторонам.
– Знаем, что ты, как мог, старался отсрочить переезд. Но чему быть, того не миновать. А как вы все поживаете? Говорят, что у вас прибавился еще один рот.
– Да, ему скоро уже полгода, – просиял Ларc Петер, как всегда, когда говорил о детях.
Они сели в телегу.
– Мы двое не забудем тебя, – сказал старухе Ларc Петер не совсем внятно, стараясь заставить Большого Кляуса сдвинуться с места.
Старый коняга наконец тронулся. Отъезжавшие еще видели, как старуха ощупью переступила через порог дома и заперла за собою дверь.
– Тяжело одинокому и слепому на старости лет, – проговорил Ларc Петер, привычно похлестывая кнутом коня.
Дитте не слыхала его слов. Лицо ее все расплывалось в улыбку. Она ехала навстречу новому, о бабушке она в эту минуту и не думала.








