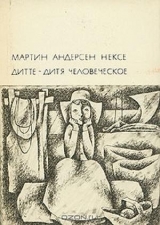
Текст книги "Дитте - дитя человеческое"
Автор книги: Мартин Андерсен Нексе
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 50 страниц)
XIII
НИ СЕМЬИ, НИ ДОМА
Временами Дитте казалось, что мадам Йенсен была права: лучше было бы ей остаться в деревне. Жалованье здесь казалось большим, но концы с концами сводить было трудно, если одеваться прилично. И подняться в глазах людей было не так-то легко. Здесь Дитте чувствовала себя еще более жалкой и ничтожной, чем в деревне. Там все-таки уделяли семье Живодера внимание, хоть и не всегда лестное; все же они считались там людьми, хотя бы и такими, которых сажают за самый нижний конец стола. Здесь ее и ей подобных попросту не замечали, как будто их и не было вовсе.
Дитте составила себе общее представление о здешних условиях благодаря собственным наблюдениям, а также через подруг. Были места хорошие, были места плохие. Были дома, где барыня всегда носила ключи от кладовки в кармане и собственноручно выдавала прислуге каждый кусок счетом– даже ломти черного хлеба; в других домах можно было есть сколько угодно; а были и такие, где прислуга питалась из одного котла с господами и хозяйка сама отделяла порцию раньше, чем блюдо подавалось на стол, так что можно было быть спокойным, что будешь сыта! Были места, где барыня совала свой пос всюду, и такие, где кухарка была полновластной хозяйкой в кухне, куда барыня едва смела показываться. Ну что ж, спорить против такого порядка вещей не приходилось. Оставалось только поскорее просить расчета, если нанялась неудачно, и постараться устроиться получше в другом месте.
Но и там что-нибудь оказывалось не так; значит, опять расчет и опять новое место. Словно зуд какой не давал засиживаться подолгу, то и дело заставлял сниматься с места! Только что человек устроится, обживется и, кажется, на этот раз чувствует себя совсем хорошо, как вдруг его неудержимо – словно, когда чихнуть хочется – потянет прочь! Жизнь втянула Дитте в этот круговорот, как она ни упиралась сначала. Зато, когда втянулась, – колесо завертелось само собой. Либо ей отказывали, либо она отказывалась – не все ли равно? В общем разницы почти никакой. И подруги ее тоже прыгали с места на место, перебирались из одного квартала в другой, от Западной заставы до Восточной, и опять обратно. Ни дать ни взять, странствующие подмастерья в старину; оседлости у них не было; артельный перевозчик беспрестанно возил их комод то сюда, то туда. А достаточно помучившись, они переставали бродить и поступали на фабрику или в швейную мастерскую.
Дитте сама не сознавала, что гнало ее и других с места на место. Как только она поборола свою деревенскую робость, та «и перестала стесняться своего непостоянства, относилась ко всему равнодушно. И новое, неизвестное вообще стало казаться ей заманчивее старого, известного, – совсем как в детстве, когда она убегала от бабушки. С тех пор она, конечно, пережила кое-что, оставившее на ней свои следы, но надежда и мечты жили в пей по-прежнему. Все та же тоска в душе и ощущение пустоты вокруг, которые в самом раннем детстве уводили ее из-под крылышка бабушки прямо на проезжую дорогу, заставляли бежать куда глаза глядят, двигали ею и теперь. Она жаждала того, чего не давали ей пока ни хорошие места, – ни плохие, – возможностей для своего духовного развития. Она ничего не имела против трудов, забот и обязанностей и знала, что они неизбежно будут на каждом новом месте. Но она чувствовала, что есть еще что-то ценное в жизни, что найти не так-то легко, она не понимала только – почему? Ведь так просто и естественно, чтобы люди делали друг другу только хорошее.
Дитте не умела щадить себя, когда надо было потрудиться для других, помочь другим, сделать, чтобы им было как можно лучше. В ней сильно было чувство солидарности. Но тут оно оказалось лишним; за ее труды ей платили жалованье, давали кров и стол, и этим все исчерпывалось. Никому в голову не приходило, что она пошла в услужение, движимая любовью к людям, и что ей, в свою очередь, нужно немножко любви от них. Никого как будто не касалось, что и она – человек, способный горевать и радоваться, что и ей необходимо посмеяться с кем-нибудь в том доме, где она служит, и поплакать с кем-нибудь. Никто не обращался к ее уму, к ее сердцу, с нее спрашивалось только одно: делай свое дело и будь как можно незаметнее. Смех господ тебя не касается, горе – тем более, а вот пыль в углу за печкой насела – не угодно ли вытереть!
В сущности, так было на всех местах, – Дитте нигде не становилась своей, везде оставалась чужим, иногда враждебным и всегда стеснительным элементом, с которым мирились потому, что трудно было обойтись без него. В каждом доме шла своя жизнь, рамки и условия которой создавались, между прочим, и ее трудами, но в содержании этой жизни она доли не имела. Многое говорило о том, что дом, в сущности, держится на ней, – говорил, например, тот беспорядок, который водворялся в доме, если ей случалось слечь в постель хоть на один день, говорило отчаяние хозяев, когда она уходила от них, а они не успели еще нанять вместо нее другую. И все же она оставалась бесприютным существом на земле!
Дитте по самой натуре своей не могла не входить в положение окружающих, не делить с ними горя и радости и не стараться для них изо всех сил. Дома ей за это платили любовью и послушанием; на хуторе, где она была работницей, она имела свою, хоть и скудную долю в том домашнем уюте, который отчасти создавала и она. Но тут, в городе, она была словно ни при чем! Тяжело было Дитте усваивать себе истину, что она только принадлежность дома, но не человек; горько было мало-помалу проникаться сознанием, что ее добрыми свойствами пользуются лишь для чисто практических целей. Да, она нужна была в доме и тут и там – везде, но лучше бы она была при этом невидимкой.
Она жила своим старым запасом любви к людям, пока набиралась опыта, – нового же запаса ей скопить было не из чего. И чем дальше, тем труднее становилось ей сохранять к своим господам какие-нибудь чувства, она постепенно привыкала равнодушно выполнять их приказания.
Это было удобнее всего! Полагалось быть холодной и бесчувственной куклой, которая делает свое дело, но слепа и глуха ко всему остальному. Полагалось быть сдержанной, приличной и скромной! Дитте заучила эти выражения. Полагалось подавать барыне стакан воды и капли, не замечая, что та готова лишиться чувств; равнодушно говорить с нею о хозяйственных делах, не глядя на ее распухшее, заплаканное лицо.
Раньше Дитте, следуя естественному порыву сердца, положила бы барыне на лоб холодную примочку, утешила бы ее добрым словом, но теперь научилась вести себя иначе и быть сдержанной, как того и требовалось. В первое лето пришлось ей недолго прослужить у одного банкира, имевшего виллу в Торбеке. Дитте поехала с господами на дачу, очень довольная возможностью пожить за городом. Но на дачу часто приезжали гости с ночевкою. Однажды гостей было так много, что пришлось две супружеские пары поместить в одной мансарде, разгородив двуспальные кровати ширмами. Когда Дитте утром принесла гостям кофе, ширмы стояли, где им полагалось, но барыни, как видно, перепутали постели! Дитте так испугалась, что уронила поднос. Ей отказали за нескромность.
Да, ей не полагалось ни думать, ни чувствовать – по настоящему, по-человечески, – это было для нее всего обиднее! Иные господа требовали даже, чтобы она непременно носила форменное платье, – вероятно, чтобы никто из посторонних не ошибся насчет того, кто она в доме. Ведь случалось-таки, что Дитте, с ее недурной наружностью и приличными манерами, принимали за хозяйскую дочку. Хорошо, что это было не при барыне!
Улица заменила ей дом. Там она набиралась недостающих ей впечатлений. А когда она отправлялась гулять, ей ставили это в вину и говорили, что она «шляется»!
Дитте знала это, но оставалась совершенно равнодушной. Особенной радости в обществе молодежи из своей среды она не находила, – слишком сама она была серьезна и слишком много пережила тяжелого, чтобы усвоить себе, как ни старалась, легкость отношений, существовавших среди молодежи.
XIV
ЛИЦО КАРЛА
Дитте ела свой завтрак, сидя на табуретке у кухонного стола – в углу, около лоханки. Взгляд ее упирался прямо в сточную трубу, а если Дитте поднимала глаза, то видела окошко, выходившее на дворик-колодец, окруженный серыми стенами. Она смотрела тупо и безрадостно, пережевывая пищу и прислушиваясь краем уха к разговору в столовой, где тоже завтракали.
– Лаура! – услышала она зов; потом вторичный, погромче.
Тогда она встала и отнесла в столовую кофе. Она не могла привыкнуть к этому чужому имени и не сразу на него отзывалась.
Разговор в столовой по той или иной причине перешел в спор. Дитте насторожилась: что там опять? Прошли те времена, когда она страдала, если в доме ссорились; теперь она слушала ссоры хозяев не без некоторого злорадства, испытывала известное удовлетворение, убеждаясь, что и господа – только люди, не лучше и не хуже Дитте и ей подобных, и могут так же и разругаться и даже подраться. Эти факты значительно поколебали внушавшееся ей с детства уважение к богатым людям.
В столовой стихло, слава богу. Может быть, потому, что раздался звонок в прихожей. Дитте пошла было отворять, но в коридоре встретила хозяйскую дочь-подростка, фрекен Кирстине, с письмом в руках.
– Письмо на имя фрекен Манн! – сказала девочка с ударением на слове «фрекен» и с усмешкой протянула Дитте письмо.
Дитте поняла эту усмешку. Господа не любили, чтобы прислугу величали «фрекен». Это обнаружилось, еще когда Дитте нанималась.
– Как зовут вас? – спросила барыня.
– Кирстине Манн, – ответила Дитте.
– Ах, как это неудобно. Нашу младшую дочь тоже зовут Кирстине… Будет путаница. Не согласитесь ли вы, чтобы вас называли по-другому? Например, Лаура?
Дитте это не понравилось, и она простодушно сказала барыне:
– Вы могли бы ведь называть меня не по имени, а по фамилии: фрекен Манн.
– Нет, у нас не принято называть прислугу барышней! – отрезала барыня.
И пришлось Дитте отказаться от своего имени и отзываться на чужое. Сначала она чувствовала себя так, будто у нее отняли ее человеческие права. Ведь таким же образом поступают с собаками, когда они переходят в другие руки, новый хозяин и – новая кличка! К Дитте даже не обращались здесь на «вы», а в третьем лице, как будто ее самой тут вовсе не было или попросту но стоило считаться с ее присутствием: «Когда Лаура кончит убирать комнаты, пусть не забудет принести дров!» – говорили ей. И это тоже преобидно напоминало манеру обращения с собаками. Таким образом, Дитте становилась еще ничтожнее в сравнении с членами семьи. Сама она обязана была называть господ «барином» и «барыней», а подростков – детей господских – барышней и молодым барином.
Фрекен Манн ее называли лишь тогда, когда это забавляло барышню с братцем, – они часто обращались к ней так в насмешку. Но Дитте относилась к этому так спокойно-серьезно, что для них всякое удовольствие пропало. И почему бы ей не называться фрекен Манн? В лавках ее всегда так называли. И она, при всей своей бедности и необходимости служить из-за куска хлеба, была ничуть не хуже других и столь же воспитанна! Все это задевало Дитте, и она написала домой, чтобы сестра Эльза непременно адресовала письмо на имя «фрекен Манн».
Писали ей из дому редко; Ларc Петер разучился орудовать пером и чернилами, если вообще умел когда-нибудь. Переписку с сестрой приходилось вести Эльзе. Но она не мастерица была сочинять письма. И, с трудом придумав начало письма, она неизменно тут же и заканчивала его: «Ну, теперь мне нечего больше написать, только сердечный поклон!» Все вопросы Дитте насчет житья-бытья домашних и односельчан, о чем ей так хотелось знать, оставались без ответа. Эльза не видела в этом «житье-бытье» ничего интересного, о чем стоило бы распространяться. Она сообщала только: кто умер да кто с кем гуляет. А это уже давно перестало интересовать Дитте. Зато о Карле упоминалось почти в каждом письме, – он продолжал поддерживать связь с ее домашними и время от времени навещал их. Заметно было, что расположение семьи к нему все росло, и это задевало Дитте. Выходило, что он становится им все ближе, тогда как она отходит все дальше. «Видишься ли ты с Карлом?» – спрашивали ее в каждом письме. Как будто не знали, что она с ним порвала! Но это, конечно, вроде попрека ей! А в сегодняшнем письме был еще один попрек. Ларc Петер недавно приезжал в город и пытался повидать Дитте, но оказалось, что она опять переменила место. «Ты, видно, часто меняешь места!» – писала Эльза. Ну, разумеется, как же иначе? Они там ничего не понимают в здешних порядках!.. Но досада быстро сменилась сожалением, что Ларc Петер проехался напрасно. Обидно и за него и за себя, – ей самой так хотелось повидать его и хорошенько порасспросить обо всем, что делается дома! Никогда еще, кажется, не жаждала она так услышать отцовский голос, как теперь. Очень уж много тревоги и смятения накопилось у нее на душе. А его присутствие всегда так успокаивает, отгоняет все сомнения!
Карла она здесь не видела и не слышала о нем ничего. Впрочем, вскоре по приезде своем в столицу она получила от него несколько строк, в которых сообщалось, что он живет на такой-то улице и очень желал бы зайти за нею, чтобы погулять вместе, если она согласна. Она не ответила – к чему? Ведь она все равно не смела отпроситься из дома. Вообще же именно тогда ей была всего нужнее мужская поддержка. А после, когда она стала вольною птицей, ей уж ни к чему было обзаводиться таким контролером и судьей над каждым своим шагом. Но она знала, что Карл в Копенгагене и работает по ремонту улиц. Кухарка Луиза как-то упомянула с таинственным видом, что ее жених работает с одним человеком из тех же краев, откуда Дитте, и знает ее. Ясно было, к чему Луиза клонит, но Дитте не пошла на эту удочку.
Все это, однако, не значило, что она отделалась от Карла совсем. Она могла не отвечать ему, держаться от него подальше, но выкинуть его из своей памяти было невозможно. Общение с ним оставило свои следы в ее душе. Совсем вытравить это никогда не удастся. Карл иногда вдруг всплывал в ее памяти, стоял перед нею, как живой, вперив в нее серьезный, пытливый взгляд, – особенно когда она делала что-нибудь неладное. Но это же ни с чем несообразно, чтобы именно он был ее совестью! Чтобы это постное, богомольное лицо живым упреком всплывало перед нею именно тогда, когда она – сама бывала недовольна собою, и, таким образом, Карл как бы насильно вторгался в ее жизнь!..
И снился он ей часто. После какого-нибудь особенно тревожного дня, полного борьбы и волнений, сны у нее бывали тоже тревожные. Но все на один лад: она боролась с Карлом, пыталась заставить его преодолеть свои мрачные мысли, которые могли довести его до самоубийства, но, несмотря на все жертвы, ей так и не удалось добиться своего.
Нет, никогда ей не отделаться от Карла!
А однажды вечером Дитте встретила его, по крайней мере, так ей показалось. Она ехала в трамвае на танцы в какой-то клуб у Северной заставы. У одной остановки, как раз вблизи улицы, указанной в письме, она ясно различила в толпе лицо Карла в ту самую минуту, когда трамвай уже трогался. Он вперил в нее серьезный взгляд, в котором, вопреки ее ожиданиям, не было упрека, – но нечто новое – немой вопрос. О чем он спрашивал – она знала! О! Лучше бы в его взгляде был гнев!
Танцы не доставили ей никакого удовольствия, – весь вечер мерещилось ей лицо Карла на хорах для зрителей. Сколько раз она украдкой ни посматривала туда, – он сидел там, не сводя с нее пристального взгляда. Наконец, она не вытерпела и поднялась на хоры потребовать объяснения, что это значит? Уж ей и танцевать из-за него нельзя? Но сколько она ни искала на хорах, Карла там не было. Ей как-то жутко стало, и она уже не пошла больше танцевать. Она знала от бабушки, что, если человеку почудится чье-нибудь лицо, это не к добру либо для самого человека, либо для кого-нибудь из его близких. Как тут было не встревожиться! Ребенок и домашние заняли теперь все ее мысли так, как давно уже не бывало. Быть может, с кем-нибудь из них случилась беда, пока она тут болтала и веселилась; быть может, именно в то время, когда она отплясывала! Бывали такие случаи, и нередко, что человек пляшет и ничего не знает, а кто-нибудь из его близких борется в это время со смертью.
Она стала отпрашиваться у своих хозяев, чтобы съездить дня на два домой, сказала, что заболел отец. Но так как ее не отпускали и отказаться от места раньше первого числа она не имела права, то она попросту сложила вечером свои пожитки и сбежала. Ее неудержимо тянуло домой! Комод свой ей удалось в отсутствие господ вынести с помощью дворника, который затем и свез все ее имущество на Дворянскую улицу к Йенсенам.
Дитте не удивилась, застав отца в постели. Он надорвался, когда приподнимал воз, и лежал с горчичником на пояснице, почти не в силах шевельнуться. Но как она изумилась, встретив здесь Сине с Хутора на Холмах. Дитте чуть не выронила от неожиданности и зонтик я муфту, когда, отворив дверь, увидела в кухне у лоханки, в облаках горячего пара, Сине с оголенными пухлыми локтями, в переднике, в будничном платье и в деревянных башмаках. По всему этому и по тому спокойствию, с каким Сине занималась своим делом, видно было, что она здесь у себя дома. Она была все такая же краснощекая и, узнав Дитте, раскраснелась еще больше, смущенно поздоровалась и не пошла за гостьей в комнату. Видимо, стеснялась, хотя Дитте вовсе не собиралась задирать нос,
Ларс Петер так и просиял весь, когда Дитте вошла к нему. Но вид у него был плохой, изнуренный, лицо бледное. Тяжело, должно быть, жилось им это время. Отец как будто и не удивился внезапному появлению Дитте, да еще до окончания месяца, а был только обрадован.
– Ну ты и впрямь настоящей дамой стала! – сказал он, окидывая ее таким взглядом, от которого у Дитте стало тепло на сердце. Вот чего ей так недоставало, – любящего взгляда, который бы не критиковал, а только радовал своей добротой.
– Да! Разве не хороша у тебя дочка? – сказала Дитте весело. – Но куда же девались ребятишки?
Они оказались в разных местах. Эльза и двое младших помогают выбирать сельдь из сетей, а Кристиан батрачит на хуторе.
Дитте жадно осматривалась кругом, ей все надо было разузнать и все «разнюхать». В простенке, между окошками, появился красивый сундук – сундук Сине!.. Узнала Дитте и стоявшую на нем лампу с синим колпаком.
– Эльза ничего не писала мне о твоей болезни. Давно ты слег?
– Этак с месяц… Не хотелось пугать тебя зря. Болезнь ведь не опасная, но преподлая, мучительная. Я повернуться не могу сам. Да вот спасибо Сине.
– Я и не знала, что она тут!
– Да, видишь ли… – Ларc Петер замялся. – Я подрядился возить щебень для общины, – хотелось заработать немножко. Ну, чтобы разгрузить телегу, надо приподнять ее и опрокинуть набок, а это страсть тяжело. Однако я, бывало, и не такие грузы поднимал. А теперь вдруг надорвался. Сколько времени на дороге провалялся, – встать не мог. Потом уж меня отвезли домой. Сине узнала о моей беде, и, как видно, ей показалось… Эльзе ведь где же было справиться одной, бедняжке!.. И я скажу тебе, Сине явилась к нам прямо как ангел с небес… Так что, ежели бы ты обошлась с ней поласковее…
Он понизил голос. Сине как раз принесла кофе и поставила его на стол, не глядя ни на кого.
– Да, я вот только что рассказал Дитте, сколько добра ты нам сделала, – прибавил он, протягивая ей руку.
Сине быстро перевела глаза с Ларса Петера на Дитте, потом подошла и присела на скамью у изголовья кровати.
Дитте вовсе не была огорчена, но чувствовала, что отец и Сине этого не понимают. Не зная, как разуверить их, Дитте просто подошла к Сине, взяла ее за голову и поцеловала, говоря:
– Я сама давно этого желала!
– Ну, так все отлично, – с облегчением проговорил Ларc Петер. – Пускай теперь другие говорят, что хотят!
Дитте была того же мнения.
– Но почему же вы не поженитесь?
Это было сказано так поспешно, что Сине рассмеялась.
– Ну, такой вопрос и мы могли бы задать тебе, – сказал Ларc Петер, тоже смеясь. – Тебе-то раньше нас следовало бы! Но надобно сначала на ноги встать, – продолжал он серьезно, заметив, что Дитте недовольна напоминанием о собственной участи. – Только важных бар венчают в постели! Мы, впрочем, подумывали сыграть свадьбу в день конфирмации Кристиана, коли он не сбежит от нас до тех пор.
– Разве он опять дурит?
– Да, недавно сбежал было. Пастор, кажется, побранил его, он и махнул в Копенгаген – повидаться с тобою, а потом наняться юнгой на корабль. Недурно – пройти восемь-девять миль пешком! Пришлось мне ехать разыскивать его. Вот тогда-то я и тебя искал там напрасно. И мальчишку мне вовек бы самому не найти; к полиции пришлось обратиться. Да, вот он какой бедовый!
– Отпусти ты его в море после конфирмации, – сказала Дитте. – Будь я мужчиной, я бы тоже ушла в море непременно. На суше не стоит оставаться.
Да, Ларc Петер уже заметил, что она не очень-то довольна столицей. Но Дитте не захотела начинать разговор об этом, и он не стал настаивать. Она привыкла одна бороться с судьбою, и пускай: ее дело. Небось пробьется!.. Вишь, как она выравнялась к двадцати годам: красивая, ловкая, а нарядная какая! Глядя на нее теперь, никто бы не сказал, что это девчонка Живодера, кособокий заморыш из Сорочьего Гнезда!
На другой день Дитте пора было возвращаться. Ей хотелось завернуть в Ноддебо, взглянуть на сынишку. А там опять в столицу, подыскать себе новое место к первому числу. Здесь в ее помощи не нуждались, а разгуливать и франтить в поселке у нее не было охоты. Со смерти старичков из Пряничного домика она никем из здешних жителей не интересовалась. Домик продали, и так странно было смотреть на него и думать, что в нем живут совсем чужие!
Поуль с Расмусом запрягли клячу и повезли гостью. И хоть Дитте мало побыла дома, но это все же очень освежило ее. А уж как приятно было ей прокатиться с мальчугана ми!.
Но свидание с ребенком принесло ей горькое разочарование. Она так безумно тосковала по мальчику и в то же время со страхом чувствовала, что совсем отвыкла от него. Она не следила за тем, как он растет, не навещала его, вот и не узнала теперь своего малыша в этом чумазом бутузе, который топал по комнате, то и дело повторяя: «Фу, бяка!» – и высовывал язык. А всего ужаснее было то, что он знать ее не хотел, боялся! Жене хусмана пришлось насильно подвести мальчика к матери.
– Йенс ведь молодец, не боится чужой тети! – сказала она.
Дитте так и резануло по сердцу от этой «чужой тети», и она, почувствовав себя здесь лишней, поспешила проститься. «Все-таки это мой ребенок», – твердила она себе, направляясь по дороге в Хиллерэд, где должна была сесть в копенгагенский поезд. «Все-таки это мой ребенок!» Но это было плохое утешение, – она сама лишила себя права на сына! И то обстоятельство, что Карл часто навещал мальчика, не смягчало ее вины. Она была плохая мать, кукушка, подбросившая своего птенца в чужое гнездо, чтобы самой было удобнее, – вот. и платись за это теперь!
Не очень-то радостно было ей возвращаться опять в Копенгаген. Надоел он ей. И она завидовала Сине, которая устроила свою судьбу, поселившись в ее родном доме, – именно в таком же бедном гнезде могла бы найти свое счастье и Дитте.
На одну минуту она подумала о Карле, но затем отогнала от себя эту мысль.








