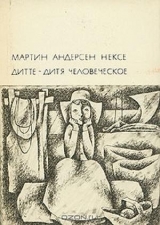
Текст книги "Дитте - дитя человеческое"
Автор книги: Мартин Андерсен Нексе
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 50 страниц)
IX
ВСЕГО ПОНЕМНОЖКУ
Карл забегал ежедневно, ему нечего было дорожить временем, – работы почти не было. Городские заправилы уже прекратили уличные работы.
– Эти важные господа там, наверху, страдают, видно, подагрой, – насмешливо говорил он. – Вот им и кажется, будто земля замерзла.
– Ну, как дела? – первым долгом спрашивал он. Опыт со швейной машиной интересовал его ничуть не меньше самой Дитте.
– Спасибо! Отлично! – отвечала она неизменно.
Это было не совсем верно. Самой Дитте казалось, что
она сделала отличные успехи, шила не хуже старших мастериц, хотя и несколько медленнее пока. Но курс ученья – последняя его часть – что-то затянулся; ей все еще приходилось шить на фрекен Йенсен, вырабатывая всего крону в день. Каждый раз, когда Дитте напоминала белошвейке обещание взять ее с собой в магазин, чтобы рекомендовать хозяину, та отвечала: «Это от тебя не уйдет! Тебе еще надо попрактиковаться».
Спасибо! Это прекрасно, но Дитте нужно было поскорее начать зарабатывать побольше: посулами сыт не будешь! И нельзя долгое время перебиваться на шесть крон в неделю, тем более что выплата за машину поглощала четыре. К счастью, сборщик взносов был очень покладист. И если у нее в субботу к его приходу не оказывалось денег, то ничего ужасного не случалось. Не полагалось только слишком запускать платежи.
– Приготовьте восемь крон к следующей субботе, ее то мы заберем машину, – говорил он.
Ну, до этого дело не дойдет, Дитте старалась не задерживать плату больше чем на неделю.
Но подчас туго приходилось, и так бы нужно было посоветоваться с кем-нибудь. Тем не менее она отвечала Карлу свое:
– Спасибо, все идет отлично!
Как-то стыдно было признаться, что ей приходится туго, или не хотелось напрашиваться на сострадание и помощь Карла. Дитте напоминала курицу, которая боится перешагнуть через проведенную мелом вокруг нее черту.
А больше ей некому было довериться. Она стеснялась даже Ларса Петера. Слишком рано, с самого детства, привыкла Дитте сама справляться со всякими затруднениями и брать всю ответственность на себя, вот теперь и трудно было ей обращаться к кому-нибудь за советом или поддержкой. Она ни за что не могла заставить себя попросить кого-нибудь о чем бы то ни было, и чем тяжелее становилось у нее на душе, тем больше замыкалась она в себе.
Но Карл сам заметил, что дело неладно, и однажды вечером припер Дитте к стене.
– Да она просто выжига, – сказал он про белошвейку, когда ему удалось мало-помалу выпытать у Дитте всю правду. – Она наживается на твоей работе, вот и все. У нее небось много таких батрачек, как ты?
Дитте не хотела верить.
– Фрекен Йенсен сама из бедноты, – возразила она.
– Ну, и что с того? Это не мешает ей обирать других. В конце концов все люди на свете одинакового происхождения.
Дитте не поняла хорошенько, что он хочет сказать, – на свете есть ведь и богачи и бедняки.
– Да, но каждый человек рождается на свет одинаково нагим и жалким!
– Ах, вот как это надо понимать! – Дитте сначала говорила неуверенно, боясь, что на Карла опять нашел религиозный стих. – Так вот она какая! – воскликнула она затем оживленно. – А еще смеет смотреть на нас сверху вниз и корчить из себя даму. Собирается замуж за полицейского надзирателя, а потом хочет открыть собственную мастерскую, – стало быть, сколачивает себе капитал на нашей работе. Окажите!
– Завтра тебе надо самой пойти в магазин и попросить работы, – посоветовал Карл. – Лучше, впрочем, обратиться в другое место, иначе она может насолить тебе. Люди безжалостны, когда стремятся повыгоднее устроиться.
Дети давно уже были в постели и спокойно спали. Вдруг Петер поднял голову.
– Мне так и снилось, что это ты пришел, – сказал он Карлу с сияющими глазами. Затем опустил голову на подушку и снова заснул. Малютка Георг тоже проснулся и принялся ворковать.
– Похоже, что он пытается выговорить: «мама». Недурно для семимесячного ребенка, – сказал Карл.
– Нет, это он зовет «папу», – серьезно ответила Дитте. – Он ведь мал еще и не понимает, что у него нет отца.
Карл посмотрел на нее, но ничего не сказал. Выражение его лица заставило ее умолкнуть и призадуматься, и вдруг Карл, забавляясь с малюткой, заметил, что Дитте плачет.
– Что с тобой? – спросил он.
– Не знаю… все как-то так… страшно. Я совсем перестала соображать.
– Перемелется, мука будет, надо только иметь терпение, – ответил он. Ласка, прозвучавшая в его голосе, заставила ее громко зарыдать.
– Почему ты не настоял на своем? – вдруг вырвалось у нее страстным порывом. – Тогда все это было бы пережито. Зачем ты ждешь, чтобы я сама пришла к тебе? Ведь ты мужчина!
Карл покачал головой.
– Я уже раз поступил против твоего желания, и это дорого обошлось мне, поверь. Каждый человек должен решать и действовать свободно, по доброй воле.
– Да, это по-твоему так. Но если человеку и хочется чего-нибудь, и он все-таки не может заставить себя самого решиться?.. Надо, чтобы кто-нибудь другой взял его за шиворот и сказал: «Так нужно!»
– От меня ты этого, во всяком случае, не дождешься! – сказал Карл, вставая. – Надеюсь, что мне никогда больше не придется прибегать к насилию над кем бы то ни было. А теперь мне пора на собрание безработных!
Он протянул ей руку.
– Там ты, верно, не боишься говорить о том, что надо силой заставить уважать свои требования! – И Дитте не сразу выпустила его руку, словно цепляясь за него.
– Ну, там дело другое! Каждый имеет право на кусок хлеба, хоть бы и приходилось брать его с бою! – твердо произнес Карл.
Дитте совсем задумалась и забыла о своей работе. Ей было досадно на себя за то, что она сказала, и за то, чего не сказала, да, верно, никогда и не решится сказать. Нуждайся Карл в ней, ей ничего не стоило бы поддаться своему сердцу и притянуть Карла к себе. Но тут было наоборот: ей нужно было разделить с кем-нибудь свое бремя, – вот что затрудняло дело. И почему он сам не придет ей на помощь, если она в нем нуждается? Почему нуждающийся должен непременно просить о помощи? Дитте всегда избавляла от этого других, угадывая их нужды, по опыту зная, как трудно просить. Почему Карл попросту не схватит ее и не покорит себе? Что ему мешает? Уважение к ней? Или он думает, что в ней еще жива привязанность к другому?
Да, первое время Георг не выходил у нее из головы. Казалось, будто он просто в отлучке или закутил и может вернуться в любую минуту. У Дитте сложилось такое представление еще и потому, что ведь так и не выяснилось в точности – действительно ли он погиб, или что с ним сталось? Дитте в сущности не горевала о нем, но с нежностью вспоминала его за своей работой. Она позабыла все плохое и помнила только, какой он был добрый и как нуждался в ней. Большой ребенок!
В конце концов ей стало ясно, что он исчез безвозвратно, и она поняла, что это было, пожалуй, наилучшим исходом. Борьба за существование и без того тяжела, но было бы еще тяжелее, если бы Дитте пришлось вдобавок ко всему еще заботиться о Георге. И после того как она перестала носить под сердцем его ребенка, она как-то невольно изменила свое отношение к Карлу. Он все больше занимал ее мысли, – если он долго не заглядывал, она начинала беспокоиться о нем. Карл был силен духом, и она смотрела на него снизу вверх. Как чудесно было бы снять с себя ответственность и подчиниться его воле! Но, если она любила его, почему же не могла показать ему свое расположение? Не потому ли, что между ними легло слишком многое?.. Дитте сама этого не знала, знала только, что что-то мешает ей смягчиться, сдаться. Так почему бы Карлу не помочь ей – не обнять ее властной рукой?.. Дитте даже говорила себе подчас: какой же это мужчина!..
Карл был прав: фрекен Йенсен действительно оказалась эксплуататоршей. Работая прямо на магазин, Дитте могла иметь порядочный заработок, – были бы только заказы. Но трудные времена заставили многих рабочих экономить и обходиться в будни простой блузой. Таким образом, Дитте нельзя было совсем перестать ходить на поденщину. К счастью, она еще не упустила своих лучших мест. Но большую часть недели она все-таки проводила дома с детьми и могла сама присматривать за ними.
А это оказалось далеко не лишним; они были изрядно запущены, как она убедилась.
Как-то Дитте раньше обыкновенного вернулась домой с работы, и оказалось, что Анна сбежала. Это и раньше случалось, только Дитте об этом не рассказывали, – Петер и старуха Расмуссен успевали вовремя изловить и водворить беглянку на место. Дитте страшно испугалась, сбросила передник и кинулась на улицу, обежала весь квартал, расспрашивая всех встречных ребятишек. Могло ведь случиться несчастье! Одна мысль об этом сводила ее с ума! В лучшем случае, если девочка цела и невредима, она может попасть в полицейский участок! При этой мысли из груди Дитте вырвался болезненный стон, и пришлось ей остановиться и перевести дыхание, прижимая рукою сердце, невыносимо занывшее. Полиция непременно разорит ее гнездо, если доберется до него. У Дитте ведь не было разрешения, и она не имела права держать приемышей!
С плачем вернулась она к себе во двор в надежде застать ребенка дома. Но Петер со старухой смотрели из окна вниз, и по их лицам она поняла, что Анна не возвращалась.
Делать нечего! Придется идти в полицию, добровольно положить голову на плаху! Она поднялась наверх, чтобы переодеться.
– Она уже убегала один раз, – сказал Петер про сестренку. – Но тогда мне удалось поймать ее.
Старуха сделала ему знак.
– Как, разве она уже убегала раньше? – вырвалось у Дитте.
– Да, я нагнал ее уже в конце Дворянской улицы. Она сказала, что идет к бабушке.
Дитте помчалась в Новую слободку, где жила родственница Свенсенов, старая вдова лоцмана, получавшая пенсию. Ей было за восемьдесят лет, и она большую часть времени лежала в постели; девочка была у нее раза два еще вместе с отцом.
Не верилось, что крошка до сих пор помнит старуху, и нелепо было предполагать, чтобы она добралась до Слободки. Но, слава богу, она оказалась там, и старуха только что собиралась отправить ее домой с соседским мальчиком.
– Как ты меня напугала, девочка, – сказала Дитте на обратном пути. – У меня даже сердце заболело!
Она шла, прижимая руку к груди, чтобы заглушить боль. Вернувшись домой, она должна хорошенько всыпать девчонке! Да и старухе Расмуссен задать головомойку, чтобы не приучала детей скрытничать и таиться от матери. Дитте была очень сердита.
Но возвращение домой заняло довольно много времени. Дитте была слишком измучена страхом и беготней. И когда они дошли, гнев ее успел остыть, чему она сама была рада, иначе она опять выла бы из себя и потом опять каялась бы. Теперь же она отделалась одним испугом. Расмуссен – славная, простая старуха и старалась по мере сил, да не всегда могла справиться с детьми. Что касается ребенка, то сколько раз сама Дитте в детстве удирала из дому, к бабушке! И ей бы всякий раз влетало за это, если бы Ларc Петер не заступался за нее.
Ларс Петер! Да, вот кто был добр и снисходителен! Он всегда отводил от нее удары. А как она отблагодарила его? Злом за добро! Дитте внезапно охватило раскаяние. Пережитые только что испуг, гнев и чувство облегчения внезапно перешли в угрызения совести и вызвали потребность искупления. Она была так признательна судьбе за благополучное возвращение Анны домой, что готова была взять на себя всякую вину и просить прощения у кого угодно. А так как Сине была единственным человеком в мире, который, по ее мнению, поступал с нею несправедливо, то она и решила мириться с ней. Экая беда в самом деле, что Сине хотелось выбиться в люди! Она была работящая, домовитая, и Ларc Петер нашел в ней хорошую жену во всех отношениях. Дитте просто завидовала ей, вот и все!
Когда дети улеглись, она отправилась к родным. Застала их уже за ужином; настроение в доме было несколько подавленное. Эльза с женихом по обыкновению перебранивались; сущие дети – как сойдутся, так и сцепятся, а врозь им скучно! Эльза, по-видимому, слишком много танцевала накануне с другим кавалером, и Яльмар обиделся.
– Я отлично видел, как он потом сидел и пожимал тебе руку! – упрекал он Эльзу с мрачным видом.
– Ах, замолчи, пожалуйста! Нечего тебе попрекать меня, – отвечала Эльза. – Ты сам поцеловал Мари в шею, когда помогал ей надевать горжетку. Думаешь, я не видела?
И они продолжали в том же духе. Кончилось тем, что Эльза ушла на кухню и там разревелась.
– Нечего сказать, хороши вы оба! – говорил Ларc Петер, переводя взгляд с одной на другого. Он не мог с ними ничего поделать. Сине молчала.
Вскоре, однако, Эльза с женихом помирились и отправились вместе в театр.
– Ах, хорошо иногда отдохнуть! – сказал Ларc Петер после их ухода. – Можно и расположиться поудобнее!
Он придвинул к лампе кресло и уселся в него с газетой. Когда будущий зять бывал у них дома, то всегда садился в кресло.
– А зачем он вечно торчит у вас? – спросила Дитте.
– Да видишь ли, ему больше и деваться некуда. Кроме того, они друг без дружки ни на шаг. И заработок у него маленький, а чтобы мальчишка не пропал, пришлось его пригласить столоваться у нас.
– Да вы бы прямо поселили его у себя, – с легкой иронией заметила Дитте.
– Мы с матерью толковали об этом, – серьезно ответил Ларc Петер. – Но ведь кто их знает, может, еще и разойдутся? Так лучше, пожалуй, не сближаться так рано.
Дитте кое-что смекнула. Но не ей было подавать свой голос, и она промолчала.
По некоторым признакам видно было, что дела у отца пошатнулись.
– Как идет торговля? Неважно? – спросила она.
– Так себе, – ответил Ларc Петер, – Нашим покупателям теперь приходится слишком туго, им теперь не до покупок.
– Отец слишком дорого покупает вещи сам и слишком дешево продает их, – вставила Сине.
– Не всякому приятно наживаться на чужой беде, вот в чем загвоздка! – сказал Ларc Петер. – Мало радости в том, что люди тащат тебе последнее – перину или что-нибудь такое, без чего им самим нельзя обойтись в такие холода! Покупаешь скрепя сердце, где же тут еще прижимать их в цене!
– Да! И отец часто дает им деньги, а вещей не берет, когда видит, что они продают самое необходимое.
– А они идут в лавку напротив да продают вещи нашему конкуренту прямо под носом у меня. Не очень-то это приятно!
Сине засмеялась.
– Ну, значит, не надо так поступать!
– А как же быть? Ведь не хочешь же ты, чтобы мы драли шкуру с бедняков?
Нет, этого Сине не хотела.
– Но я знаю, что нельзя разговаривать, набрав полный рот воды. Те, кто поприжимистее, процветают, а мы разоряемся. Что же ты думаешь, бедняки выиграют, если мы в трубу вылетим?
– Да, в том-то и беда!.. И нам есть тоже хочется! Но скверно, когда приходится жить чужой бедой, как вот нашему брату, старьевщику.
Ларс Петер совсем приуныл.
Но тут Сине пошла в спальню и вынесла проснувшегося ребенка. Ларc Петер сразу повеселел. Сама Сине опять была в положении. Дитте почему-то неловко стало, когда она подумала, что у них продолжают рождаться дети, но вместе с тем и любо было глядеть, как оживал и молодел отец, нянчась с малышом. Он подкидывал ребенка и хохотал от восторга. А малыш вцеплялся отцу в венчик уцелевших волос, слюнявил губенками его круглую лысину и визжал от удовольствия. Таким вот помнила Дитте отца с тех пор еще, когда сама была маленькой, – громогласным и веселым! И все малыши всегда были без ума от него. А задолго до того, как она его узнала, он водился и нянчился с другим выводком ребятишек, который таинственным образом исчез из его жизни, – как именно, Дитте никогда и не довелось узнать.
Ларс Петер ни чуточки не менялся!
X
ПОЗДРАВИТЕЛЬ ОТКРЫВАЕТ СВОИ КАРТЫ
Господин Крамер был последнее время какой-то странный. С ним что-то случилось, – он не кутил по вечерам, рано приходил домой и заваливался спать. Бывало, что он вовсе не вставал и дремал весь день, укрывшись с головой. В комнате было холодно, а кровь уже не грела его. «Слишком голубая! – говорил он. – Мы ведь старинного рода! По одному носу это уже видно!»
Дитте приносила ему газету, но Крамеру читать не хотелось.
Правда, он принадлежал к хорошей семье, но что толку, если она допустила его до гибели. Права была старуха Расмуссен, говоря, что чем меньше родни, тем лучше.
Однажды его притащил домой Червонная Борода, – с Крамером случился припадок на Новой Королевской площади, и он едва держался на ногах. К счастью, слабоумный оказался поблизости и помог ему, иначе полицейские сдали бы его в богадельню как бродягу. Когда Поздравителя укладывали в постель, он трясся всем телом, как больной пес.
– Водочки ему не хватает, – шепнул Червонная Борода.
И хоть он и был слабоумным, Дитте готова была признать, что он прав.
Вот и пришлось Поздравителю слечь, как он сам себе напророчил во хмелю, а Дитте угощать его овсянкой.
– Выкиньте его вон! – советовали соседки. – Охота сам кормить взрослого человека – такого дармоеда! Ежели это у него поплексия, так он может пролежать таким манером лет двадцать! Дайте знать полиции, и пусть его возьмут в больницу.
Но Дитте не могла на это решиться. Он был ее жилец, и она жалела его. Возможно, что он по своей вине дошел до такого состояния, – вел жизнь, прямо-таки сказать, безобразную, шатался по трактирам и никогда не ел вовремя. Но не в характере Дитте было доискиваться, кто и в чем виноват; начни только разбирать, по чьей вине люди впадают в нищету, конца не будет. Крамер нуждался в помощи, и этого было для нее достаточно.
Но трудно было понять, чем он, в сущности, болен. Карл знал одного врача, который был на стороне недовольных рабочих и не потребовал бы платы, если бы его позвали к больному. Но Поздравитель и слышать об этом не хотел. Ему было решительно все равно, что с ним будет, и он сам над собой подтрунивал.
– Вы ведь слышали, чем я болен? Идиот шепнул вам об этом! – злорадно говорил он. – Мало вам разве, что сам идиот это сказал?
В другой раз он постучал в стенку и встретил Дитте с самой торжественной миной.
– Откровенно говоря, вам бы хотелось знать, чем я болен? – серьезно спросил он. – Так знайте же! У меня заражение крови, злокачественное отравление организма. Я отравился в тот день, когда очутился лицом к лицу с ее милостью, моей бывшей супругой. Этого мой организм не вынес.
Дитте приходилось подкармливать его, чтобы не дать умереть от голода.
– Ну, как поживаете, господин Крамер? Не встанете ли сегодня? – спрашивала она по утрам, принося ему кофе.
– Право, не знаю. И для чего мне вставать, скажите на милость?
– Чтобы попробовать заработать немножко денег, подышать свежим воздухом. А то вы этак помрете.
– Ну, и что же? Кому от этого какой вред?
Днем она заходила к нему опять и приносила чего-нибудь горяченького.
– На кой черт это нужно? Ешьте сами вашу стряпню и оставьте меня в покое! – обыкновенно ворчал он. – Не желаю я вовсе ваших милосердных супов!
– Да ведь пьете же вы утром кофе? – находчиво возражала Дитте.
– Ну, это, черт побери, другая статья. Это входит в плату за комнату, – отвечал он сердито.
Это было верно, но он ведь и за комнату не платил, стало быть, разницы никакой не было. Дитте оставляла ему кушанье, и, когда заходила снова под вечер, все оказывалось съеденным. Жилец лежал и злился про себя.
– Что, торжествуете? – спрашивал он. – По глазам вашим вижу, как вы злорадствуете. Для женщин высшее счастье поставить на своем, даже если это им самим во вред. Знаете, что вам следовало бы сделать, фру Хансен? Выкинуть меня на улицу. Ведь за комнату я все равно вам не заплачу, даже если бы вдруг сделался миллионером. Поняли?
– Вы это только так говорите. Совсем вы не такой злой, каким прикидываетесь. На самом деле вы…
– Ну, кто же я на самом деле? Ну? Что же?
– Нет, это я просто так! – Дитте плотно сжимала губы, теперь ей хотелось подразнить его.
– Ах, просто так? Сказать вам, что вы подумали? Что я на самом деле честный простак. Но это ложь. Иначе я не валялся бы здесь. Честными людьми не пренебрегают, ими пользуются. Но вы добры до глупости, а потому я вас терпеть не могу. С добрых дураков надо шкуру драть!
– Это и без вашей помощи делается, – отвечала Дитте и уходила, захлопывая за собой дверь.
– С живых, с живых с вас драть шкуру! – кричал он ей вслед.
Дитте делала вид, что не слышит.
Так он лежал и молол всякий вздор. Трудно было решить, серьезно он болен или просто в нем желчь расходилась.
– Вы, пожалуй, верите в справедливость, фру Хансен? – спросил он Дитте однажды утром.
– Право, не знаю хорошенько; может быть, и верю, – ответила Дитте.
– А я знаю, что верите. Нечего нам плясать друг перед другом на задних лапках! Во всяком случае вы верите, что нужно быть справедливым и милосердным, черт побери! Нужно жалеть несчастных и помогать им, – таким вот опустившимся субъектам, как Поздравитель, не правда ли? Особенно тем, кто опустился, – это ведь так трогательно! А знаете, что это на самом деле? Я всю ночь сегодня думал об этом и убедился, что все это ерунда. Что, собственно, значит: человек опустился? Продай я свою совесть дьяволу за хорошую цену, никому в голову не пришло бы говорить, что я опустился. А вот если я устоял перед искушением, захотел держать свой свиной хлев в чистоте, взяв на себя все последствия, – это значит, что я покатился под гору, стал отпетым неудачником. Как тут не запить?.. Возьмем, к примеру, вас самих. Вы довольно бестолковы, но сердце у вас на месте, вы самая порядочная женщина во всей нашей «Казарме». Да, да, это так! Но вы моете и чистите лестницы и прочее, а это занятие неблагородное, даже для обитателей такой трущобы, как наша. И в результате вас называют не фру[12]12
Вежливое обращение к женщине – «госпожа», «сударыня».
[Закрыть], а поломойкой; самая последняя бабенка в доме считает себя вправе глядеть на вас свысока! «Вы-де какая-то поломойка, не забывайтесь!» Как тут не запить? Люди – порядочная сволочь!
– Да, некоторые, пожалуй, – согласилась Дитте.
– Нет, все! Вот в чем горе. И кое-кому следовало бы сделать это открытие несколькими годами раньше, тогда не пришлось бы мне валяться тут, пьяному, с больной печенью! Но бог или сатана, сотворивший Крамера, создал его оптимистом, то есть своего рода идиотом, верующим в добро. Он считал себя ответственным за свои поступки, как существо высшего порядка, созданное по образу и подобию божию, – у него, видите ли, высокие идеалы. Черт знает, впрочем, откуда они у него веялись? Только не от окружающих. Наоборот, он несколько сторонился всех, был чудаком, вот и прослыл идеалистом. Помилуйте, шапку долой перед благородным образом мыслей, – лишь бы это не доводило человека до глупостей. Все, так сказать, с часу на час ждали, что я непременно выкину какую-нибудь глупость.
Но все шло благополучно, несмотря на идеалы. Я сдал свои экзамены, получил хорошее место, женился на богатой, шикарно обставил свой дом – все это несмотря на идеалы, как уже сказано. Идеалы-то еще не подвергались серьезному испытанию! И окружающим такое «совместительство» даже внушало уважение. Оказывается, идеалы могут уживаться с богатством. К тому же идеалы украшают жизнь, – значит, стоит обзаводиться ими. Видали вы свинью с золотыми коронками на зубах. А я видел. Как тут не запить горькую?
Но час испытания настал, – дело шло о какой-то несчастной телеграмме. Крупный спекулянт, основавший большое телеграфное агентство, считал себя вправе первым просматривать все телеграммы, даже адресованные его конкурентам. Для того, главным образом, он в основал агентство, а вовсе не ради пользы отечества и не из чувства патриотизма, как говорилось для красного словца. Но главный его помощник, идиот, вообразил, что тайна телеграфа священна, и уперся на этом.
– Да ведь это же правильно! – воскликнула Дитте. – В чем же тут идиотство?
– Правильно… по мнению идиота, разумеется! Словно мне-то не все равно было, кто кого слопает: свиньи – псов или псы – свиней! Бог мой, до чего я был глуп тогда! Разумеется, я знал, чем рискую, чувствовал себя, когда меня спустили с лестницы, героем, мучеником за справедливость. И отправился искать себе новую службу, чуть не лопаясь от гордого сознания своей правоты, – ведь все должны были с распростертыми объятиями встретить такого героя! Однако, извините, везде отказ! У могущественного финансиста руки длинные, – никто не смел взять героя к себе на службу. Даже конкурент, тот самый, которого собирались разорить с помощью его собственных биржевых телеграмм, и он только пожал плечами. Да-а, он что-то такое слышал и, пожалуй, готов похлопотать за меня, чтобы меня вернули на прежнюю должность, если я дам обязательство выдавать ему телеграммы моего принципала! Вот они все какая сволочь! Как честный человек я был ему не нужен, а как сыщик – пожалуйста. Ну, как не запить, черт побери!
– Почему вы не обратились в газеты? – спросила Дитте. – Они ведь заступаются за невинно обиженных!
– Газеты! О святая простота! – Крамер возвел глаза к потолку. – Я, впрочем, обращался в газеты, невинное дитя! Я сам был тогда простаком. Но всюду встретил отказ. Мне отвечали, что пресса не может нападать на одного из лучших сынов отечества. И, вероятно, позвонили всемогущему человеку, чтобы заработать кое-что на этой истории. Потому что однажды во всех газетах появились заметки о сумасшедшем субъекте, которого великий финансист уволил за сомнительное поведение и который в благодарность за то, что избежал законного возмездия, преследует его превосходительство и чуть ли не угрожает его жизни. Всем было ясно, что это обо мне, и мне разом были отрезаны все пути. Даже мои близкие начали понемножку убеждаться, что я свихнулся. Правда, ведь все ожидали, что это случится рано или поздно. Со мной перестали считаться в обществе и даже в собственной семье, жена начала придираться ко мне и восстанавливать против меня девочек, а в один прекрасный день они все переехали к старикам. Игра была кончена.
Вот когда я действительно свихнулся. Знаете, что я сделал? Я купил большой букет цветов и отправился с ним к его превосходительству. У него была целая толпа поздравителей по случаю какого-то торжества, я привес ему свое поздравление в самой язвительной форме. «Благодарю, – сказал он, улыбаясь, – большое спасибо!» – и протянул мне бумажку в сто крон. Вот тебе и на! Опять он вышел победителем. Ну, как тут не запить, черт побери!..
Я так и сделал. Напился, как свинья, чтобы сравняться со всей этой сволочью. «Ты не можешь с ними конкурировать, пока не вываляешься в грязи», – говорил я себе.
Вот откуда и появилась у меня мысль ходить с поздравлениями. Это давало недурной заработок, особенно вначале, потому что я как бы поворачивал нож в собственной ране у всех на глазах. И они скорее хватались за кошельки, чтобы откупиться от этого зрелища. Я обошел их всех по очереди и, разумеется, подносил им не самые дорогие цветы… Но понемногу все позабыли, с чего, собственно, началась история, и видели перед собою только жалкого субъекта, от которого можно откупиться одной кроной.
– Я думала, что вы больше ходите к артистам, писателям, вот к таким людям, – сказала Дитте.
– Да, но это уже позднее, когда дела пошли хуже и приходилось ничем не брезговать. Да, можете поверить, я дорого расплатился за свою веру в людей. Существует всего два рода людей – честные и мошенники. И мошенники удерживаются наверху, остальные идут ко дну, – слишком уж они тяжеловесны. Ваш жених хочет, кажется, перестроить общество? Я слышал кое-что сквозь стенку и много смеялся над этим.
– Карл Баккегор вовсе не жених мой, – сказала Дитте, краснея.
Крамер отмахнулся.
– Пожалуйста без откровенностей. Он социальный реформатор – вот что меня в данном случае интересует. А вы знаете, что тянет пролетариат книзу? Честность. Искорените честность, и проблема решена.
Так он лежал и болтал. Он стал очень покладист, душа его как будто смягчалась со дня на день. Но вместе с тем он слабел и физически. Несколько дней спустя он вдруг раскаялся в своей откровенности.
– Нагородил же я вам вздору на днях, – сказал он. – Надеюсь, вы не всему верите, что вам плетут?
Но Дитте знала, чему верить. Тетке Гейсмар было кое-что известно про его семью. И она могла кое-что порассказать о нем, если навести ее на этот разговор. Крамер был женат на дочери крупного лесопромышленника из какого-то приморского городка. Обе его дочери уже вышли замуж за офицеров и получили от деда с бабкой огромное приданое.
Странно было, что Крамер так вдруг разоткровенничался. В алкоголе он, по-видимому, не чувствовал больше потребности. Зато стал словоохотлив. Дитте приходилось брать с собой работу и сидеть у него. А он лежал и рассказывал на своем гнусаво-картавом трактирном жаргоне о всевозможных проделках, на которые пускался, чтобы добыть деньги. Артистам и певцам он подносил букеты от «неизвестных поклонниц, скрывавших свои имена» – но причине их высокого положения, разумеется! К начинающим писателям являлся в качестве первого выразителя восторгов всей нации. Дерзал даже пробираться во дворец в качестве «представителя великого безыменного народа».
– Просто ужас что такое! – смеялась Дитте. – Откуда это бралось у вас? Другому бы вовек не додуматься!
– Ужас! Нет, это было настоящее благодеяние. Мало кто доставлял ближним столько радости, как Поздравитель. А что он получил за это? Да, для этого нужно было поработать головой! Приходилось все расширять и расширять круг знакомств, чтобы не очутиться в тупике. Нельзя ведь было показываться слишком часто в одном месте. Словом, я создал совсем новую отрасль отечественной промышленности. Жаль, что некому унаследовать это предприятие после меня! Знаете что? Пойдите после обеда и заложите мой костюм.
Нет, Дитте и слышать об этом не хотела.
– Вы не можете обойтись без него, вам выйти не в чем будет! – сказала она.
– Мне все равно не встать больше, – возразил он. – Я отжил свой век. И с восторгом думаю об этом. Часто ловлю себя на том, что лежу и прямо радуюсь мысли развязаться со всей этой ерундой. Право, недурно будет присесть на краешек мокрого облака и, распевая «аллилуйя», наплевать на весь этот кавардак внизу!
После обеда, когда Дитте не было дома, он уговорил старуху Расмуссен пойти заложить его костюм.
– Захватите заодно сапоги, и шляпу, и палку, – сказал он. – Тогда нечего будет опасаться, что я стану бродить тут привидением!
Он остался в одной рубашке.
Но через день или черев два он все-таки встал с постели и выбежал в коридор в одном белье. У него был припадок. Женщинам пришлось послать за подручным булочника, чтобы уложить больного в постель. «Этот ютландец такой солидный, он справится!» – говорили они, и, правда, Лэборг преспокойно взял Поздравителя на руки, словно малого ребенка, и отнес его прямо в постель. Теперь Дитте была не прочь отправить жильца в больницу, она не решалась больше оставаться с ним по ночам. Но это легче было сказать, чем сделать. Сначала нужно было достать записку врача о необходимости больничного лечения, а потом еще дождаться места. Это могло затянуться до бесконечности. Старуха Расмуссен лишь год спустя после смерти своего мужа получила извещение, что он может быть принят в больницу.








