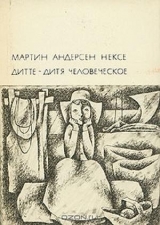
Текст книги "Дитте - дитя человеческое"
Автор книги: Мартин Андерсен Нексе
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 50 страниц)
– Все это легко устроить, если есть знакомый полицейский, – сказала тетка Гейсмар. – Полиция все может!
Шурин извозчика Ольсена был постовым полицейским, за ним и послали. А он вытребовал из больницы карету и отвез туда Поздравителя.
– Теперь они должны принять его! – сказала тетка Гейсмар, глядя вслед карете, собравшей толпу зевак и во дворе, и на улице.
– Наконец-то вы избавились от него, фру Хансен!
Дитте ничего не ответила, отвернувшись от них и тоже провожая взглядом карету. Лицо ее передергивалось. Тяжелою поступью вернулась она к себе, вошла в комнату Поздравителя, присела на край постели и заплакала.
XI
ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ
Опять наступила зима со снегом, стужей, морозами. Слишком скоро миновало лето. Только успели выкупить одежонку, как снова закладывай! В каморке старухи Расмуссен не было печки, да и чем стала бы она топить? Старуха дрогла по ночам – кровь уже не грела ее, и сколько она ни накидывала тряпья поверх перины, все равно было холодно. Вода замерзала у нее в кувшине и в ведре. Дитте решила перевести старуху в комнату Поздравителя, там вообще теплее, и, кроме того, можно было на ночь не затворять туда двери из жилой комнаты, откуда все-таки тянуло немножко теплом.
– Пока что! – сказала Дитте. – А если Крамер вернется, мы уж придумаем, как все устроить, бабушка!
– Да, пусть все-таки Крамер знает, что ему есть куда вернуться, если он понравится. – Впрочем, на это было мало надежды. Дитте два раза навестила его в больнице, – ему становилось все хуже и хуже.
Но так хорошо было, что старуха тут же рядом: по крайней мере, ее слышно ночью, и Дитте стала спать спокойнее. Да и Карл теперь мог отказаться от своей комнаты на стороне и перебраться в чуланчик старухи Расмуссен. И деньги оставались в кармане, и Карл был поближе. Важно всем объединиться против общих врагов – холода и безработицы, – они хоть кого заставят призадуматься.
Все это время у Карла не было постоянной работы но специальности, и он перебивался случайными заработками: бегал то на Рыночную площадь, то в Порт, то на Охотный рынок – всюду, где могла подвернуться работенка. Ни себя, ни башмаков не жалел и опять спустил весь жирок, что нажил за лето. Настроение, однако, у него было бодрое. Дитте радовалась, – большую часть своего заработка Карл все-таки оставлял здесь, и теперь она могла отплатить ему хоть какими-нибудь заботами. Вечера он – если не уходил на собрания – проводил в общей комнате: читал или писал статейки для газеты, которую безработные сами выпускали раз в неделю.
.– Какой, в сущности, прок от ваших собраний? – сказала как-то раз Дитте. – В прошлом году вы тоже собирались, а безработных в этом году еще больше. Что вы там ни говорите, ни делайте, хозяева и в ус не дуют!
– Да, большого впечатления это на них, пожалуй, не производит, – согласился Карл. – Но мы, по крайней мере, сами себе не даем задремать… и, наверное, кое-кого пробуждаем от спячки. Пока в человеке кипит злоба, он еще не совсем пропащий! Кроме того, «Самаритяне» все-таки открыли в этом году свои столовые раньше прошлогоднего, и газеты трубя вовсю, призывая помочь безработным. Так что, видно, все-таки побаиваются нас.
– Скорей, пожалуй, нужда смягчила людям сердца, – предположила Дитте.
– И это может быть. Во всяком случае они должны все время видеть нуждающихся, чтобы задуматься о них. На собаку, которая забьется в свою конуру зализывать раны, никто и внимания не обращает. Поэтому мы собираемся устроить демонстрацию – шествие наиболее нуждающихся безработных с женами, детьми и хорошо бы со всем скарбом. У большинства ведь не больше добра, чем может уместиться на ручной тележке. Хочешь участвовать? Кажется, это будет в сочельник, когда люди вообще становятся добрее, чем обычно.
Нет, Дитте не хотела выставлять напоказ свои лохмотья. Она предпочитала перебиваться как-нибудь сама.
– И к чему вы это затеваете? – спросила она. – Удивительно!
– Мы хотим заставить уважать лохмотья и попугать филантропов. Не мешает им посмотреть, сколько нас. Но, может быть, выгоднее дождаться настоящей зимы. Теперь, пожалуй, рановато.
– Ты словно спекулируешь на всей этой нужде и нищете! – сказала Дитте с оттенком упрека.
– Ну, да! У нас в деревне, среди «братьев» всегда проповедовалось, что нужда и страдания посылаются людям, чтобы обратить их к богу. Но я только теперь понял смысл: голодающих физически надо превратить в алчущих духом!
Дитте внимательно слушала. Она начинала уже находить в речах Карла более глубокий смысл и перестала пренебрегать ими, как раньше, когда думала, что в них заключается что-то религиозное.
– А что же ты сделаешь с беднягами, которые не могут стать алчущими духом, а только требуют себе кусок хлеба, когда голодны, как я, например? – опять спросила она серьезно.
Карл взглянул на нее с радостным изумлением. Впервые Дитте не отклонила такого разговора, а заинтересовалась его идеями.
– Тебя-то нам не приходится будить. Напротив, ты нас будишь!
– Я? Да я ровно ничего не смыслю во всем этом! – с испугом ответила Дитте.
– Да, ты, потому что ты всегда одинакова – и в счастье и в несчастье. Очутись ты на троне или в яме, ты была бы все та же. Тебя переделать нельзя, да и не нужно, потому что мы в некотором роде следуем за тобой. Пусть бы все сердца в мире бились, как бьется твое сердце, тогда бы на земле стало хорошо!
– Ну, навряд ли, – возразила Дитте, – мое сердце все больше и больше дурит. Иной раз как будто выскочить хочет, а то вдруг совсем замрет… Но теперь я пойду, добуду немножко хлеба, и напьемся кофе. – Дитте накинула платок на голову. Они питались это время главным образом хлебом и кофе.
– А я пойду навестить старика тряпичника, – сказал Карл. – Его что-то давно не видать.
– Заодно позови старуху Расмуссен с ребятишками пить кофе, – сказала Дитте. – Они на чердаке белье вешают. Да захвати с собою тряпичника, если застанешь его. И вели старухе поставить кипятить воду! – крикнула она уже с лестницы.
В булочной стояла учительница и покупала сдобу к послеобеденному кофе – сладкие подковки и венские булочки. Она была на сносях и ничуть не старалась скрыть это, – напротив, прямо как будто кичилась своим положением и не понимала, как это вообще можно говорить о чем-либо другом.
– Как вы себя чувствуете, фру Лангхольм? – спросила булочница.
– Ах, я никогда еще не чувствовала себя так хорошо, – ответила та блаженно. – Я готова вечно ходить в положении!
– Ох, боже избави! – невольно воскликнула жена извозчика Ольсена. Разумеется, она не принимала участия в разговоре, и это просто сорвалось у нее с языка.
– Да, мадам Ольсен родила восьмерых детей! – пояснила булочница. – Так ведь?
Мадам Ольсен кивнула.
– Но живот у меня никогда так не торчал. Я немножко подбирала его.
Фру Лайгхольм с гордостью взглянула на нее:
– Я свое бремя несу прямо перед собой. Это и моему мужу больше нравится. И всего здоровее так – и для матери и для ребенка. Ему тогда больше места. А по-вашему как, фру Хансен?
Дитте не знала, что ей ответить.
– Кстати, послушайте, мне бы хотелось пригласить вас к себе, пока я буду лежать. Вы такая ловкая, за все так умело беретесь. У вас было много детей?
– Я с детских лет нянчилась с ребятишками, – ответила Дитте, смущенная и обрадованная такой похвалой и вниманием.
– А мы рады, что у нас нет детей, – сказала булочница. – Хоть этой-то заботы нет, – чем и как прокормить их! И без того туго приходится.
– Да, вы ведь скоро закрываетесь? Неужто правда, дела так плохи? Нам очень грустно расстаться с вами!
– Да вот, мы бились пятнадцать лет и ничего не нажили. Муж мой хочет пойти в пекаря… По крайней мере, каждую неделю будет жалованье получать.
Дитте держалась в сторонке, – ужасно неловко просить в долг при людях. Понемногу все разошлись, и тогда она подошла со своей просьбой.
– Стало быть, записать, – сказала булочница. – Я уж давно догадалась, глядя на вас. Знаешь ведь своих покупателей. Да, за вами уже есть должок!
– Только до субботы, – попросила Дитте. – Я сдам заказ и расплачусь за все сразу.
– Вообще-то мы больше не отпускаем в долг, – нам не по средствам. Но вам трудно отказать, вы сами такая отзывчивая на каждую нужду. И покупаете только простой хлеб, когда сидите без денег. Большинство же думает: раз в долг, так можно и сладенького. Это ведь большая разница.
Дитте, веселая, с легким сердцем, побежала домой с хлебом. Но в воротах столкнулась со сборщиком взносов за машину, и сердце ее так и упало.
– Я был у вас, – сказал он.
– Ах, у меня сегодня нет денег, – сказала Дитте, едва переводя дух. – Нельзя ли подождать до субботы, – тогда я все заплачу.
– Хорошо, – сказал он. – Но опасно запускать платежи, помните! – Он стоял и посмеивался над ее испугом. – Ну, ну, мы ведь не людоеды! – прибавил он, пряча квитанцию обратно в бумажник.
Как она, однако, перепугалась! Ноги дрожали и положительно подкашивались под ней, когда она подымалась по темной лестнице флигеля.
Старуха Расмуссен уже приготовила кофе Он стоял на печурке, распространяя чудесный аромат. Малютке Георг сидел у нее на коленях, а двое других ребят слушали сказку, стоя возле старухи и жадно глядя ей в рот. Он особенно притягивал к себе их внимание, – ни одного зуба и полон самых чудесных сказок!
Дитте сразу бросилась к швейной машине и погладила ее, словно не веря своим глазам, что она еще тут.
– Да, он сейчас только заходил сюда, сборщик, – сказала старуха Расмуссен. – Но пока он еще очень милостив.
– Я встретила его в воротах и так перепугалась, что едва на ногах устояла. Но я получила отсрочку, как и в прошлый раз. А в субботу, стало быть, необходимо выложить денежки – откуда хочешь бери.
Старуха кивнула с таким видом, как будто об этом только и думала все время.
– Сколько ты уже выплатила за машину?
– Пятьдесят крон, бабушка! – с гордостью ответила Дитте и ласково провела рукой по машине.
– Так будь спокойна, еще слишком рано отбирать ее у тебя. Они выпускают когти, когда большая часть суммы уже выплачена. Пока им просто не выгодно отбирать. Но берегись!.. Знаю я этих продавцов в рассрочку. Они, может быть, нарочно прикидываются такими добродушными, чтобы успокоить тебя. Это как кошка играет с мышкой: вдруг возьмет да и цапнет.
Старуха пуще всего на свете боялась этих «рассрочек». Но Дитте не принимала ее слова всерьез.
– Вы всегда так мрачно смотрите на все, бабушка! – сказала она, обняв старуху за шею.
– Ну, ну, увидим, – отозвалась та.
– Но куда же запропастился дядя Карл? Кофе остынет ведь. Сбегайте-ка за ним, дети! – сказала Дитте, но в эту минуту Карл сам вернулся.
– Тряпичника нет дома, и даже тряпья в его углу не оказалось.
– Должно быть, управляющий вышвырнул его, – предположила Дитте. – Наверное, у него, бедняги, не было денег.
– Я думал, что ему отвели этот угол даром.
– Даром-то даром, только надо было задабривать управляющего.
– Можно нам пойти поиграть во дворе? – спросили дети, когда поели.
– Нет, очень уж там воздух плохой. Я вот приберу в комнате и прогуляюсь с вами. Пойдем в Королевский сад… Нет, впрочем, мне некогда. Но пусть бабушка возьмет вас с собой, когда понесет мою работу.
Дитте вспомнила, что ей надо еще сделать кое-что, пока не принесли новый заказ.
– А в Королевском саду воздух не плохой? – спросили дети.
– Нет, там воздух свежий, приятный.
– Почему же он здесь, у нас, такой плохой?
Этого Дитте толком не знала и ответила:
– Потому что мы бедняки.
Малыши ничего не поняли и обратились к старухе:
– И тут тоже черт виноват?
– Разумеется, черт, – убежденно ответила старуха. – Когда ему больше не на что было наложить лапу, он захотел, чтобы господь позволил ему накрыть всю землю стеклянным колпаком. Пусть-де люди покупают себе воздух, как и все прочее. «А то с какой же стати они дышат задаром? Это неправильно», – сказал он. К тому же, у него остался еще один сын, которому нечем было торговать; все другие были уже хорошо пристроены. Но господь не согласился. «Только один воздух бедняки и получают даром», – сказал он. Тогда черт начал дуть и сдунул весь плохой воздух в кварталы бедняков. «Пусть дышат даром», – сказал он. И на это уж господу нечего было возразить.
– Охота говорить детям такие глупости, – сказала Дитте, принимаясь вертеть колесо машины.
– Что ж, коли не уродилась умнее, – ответила старуха обиженно. – Да и больно стара я, видно, чтобы вообще разговаривать.
Она ушла к себе, и дети за нею, притворив за собою дверь. Тогда никто не будет вмешиваться в их разговоры и называть их глупостями. Они-то знали, кому верить, коли на то пошло.
XII
СОЛИДНЫЙ ЮТЛАНДЕЦ
Поздравитель умер. Из больницы приходили к Дитте справляться, не оставил ли он после себя какого-нибудь имущества на покрытие расходов по его лечению и похоронам. Пачка залоговых квитанций – и только! А они ни к чему. Дитте хотела пойти на похороны, но не могла узнать, когда они состоятся. Раз некому было похоронить его на свой счет, его попросту свалили в яму. Он был беспокойным жильцом, но все-таки как-то странно и жалко было, что его нет и не будет больше. При всей своей напускной грубости он был просто большим ребенком.
Но горевать, а тем более оплакивать мертвых, не приходилось, – не такое было время. Коли взвесить все, так умершие оказывались счастливее живых – были по крайней мере пристроены. И по причине ли холодов или страшной нужды только в бедных кварталах смертность в этом году была необыкновенно велика. Так утверждала старуха Расмуссен и до некоторой степени была права.
Однажды утром нашли мертвым и Червонную Бороду: он замерз в своей норе, за каморкой старухи Расмуссен. Днем пришла полиция и взяла его труп вместе со сказочным матрацем. В участке матрац распотрошили, но медных монет в нем не нашли, – стало быть, и это был вздор! Старуха Расмуссен так и думала. Зато матрац оказался набитым длинными волосами, – чего доброго, волосами прежних возлюбленных Червонной Бороды. Ходили такие рассказы в былое время, что он обстригал волосы тем женщинам, с которыми жил. Верно, одна из них в свою очередь и обстригла ему бороду – из мести!.. Как бы то ни было, теперь он умер, и крысы успели заняться им, прежде чем его нашли.
В главное здание тоже как-то раз нагрянула полиция – к миссионеру, обследовать положение ребенка. Видно, кто-нибудь донес. Ребенка нашли в плачевном виде, исхудалым и замученным, и взяли в больницу. При этом обнаружилось, что миссионер с женой вовсе не были родителями ребенка; он был приемыш, за которого им заплатили раз навсегда. Ну, хоть это мучение кончилось. Дитте вздохнула свободнее. Неумолчный плач ребенка надрывал сердце и в то же время мало-помалу ожесточал: оно уже переставало отзываться на чужие слезы.
Но, как говаривала старуха Расмуссен, стоит судьбе развязать свой мешок, – из него так и посыплется одно за другим, без конца. Не успели затворить дверь за одним вестником печали, как на пороге стоял новый!
В тот же самый день, когда утром отобрали ребенка у миссионера, подручный булочника вышел после обеда во двор мыть крытую тележку, в которой развозил булки и хлеб на дом покупателям и по ларькам. И, как всегда, залюбоваться было можно – как он моет. Лэборг держал свою тележку в большой чистоте. Да и сам был такой опрятный и щеголеватый! И трезвый. Недаром девушки-служанки из главного здания все время торчали около кухонных окон. В самом деле, на Лэборге особенно приятно было остановить взор, – когда кругом все было так безрадостно. Говорил он громко, протяжно и с раскатистым «р». Он ведь был родом из Ютландии, из тех бедных мест, где люди с детства приучались глядеть в оба и быть скопидомами. Он был сыном хуторянина, и у него водились деньжонки, хотя жалованье он получал маленькое. Но, конечно, выручали «чаевые».
– Их у него за месяц набежит не меньше жалованья, – говорила булочница. – Но он их честно зарабатывал, он такой солидный.
Ох, и надо же было беде стрястись как раз с ним!
Ведь он действительно был такой солидный… и добрый. Ребятишки его очень любили. Так и вертелись около него, подымая визг, когда он окатывал тележку водой из ведра. Тут им и попадало! Старухи, глядевшие из окон, хохотали, а он со смехом кивал им. Ничуть не важничал. Счастлива будет та, которая заполучит такого мужа! Но у него даже невесты не было. Поговаривали, впрочем, что он сватался за Дитте-поломойку, да получил отказ. Нелепо, но правдоподобно. Уж, видно, она такая уродилась, что замужество пугало ее. А любовников она не боялась заводить! Дитте, окруженная ребятишками, тоже сидела у окна, – и, как всегда, прилежно шила. Лэборг раскланялся с ней. Да, перед ней он ломал шапку! И она ответила на поклон с улыбкой, словно между ними никогда и не было разговору ни о чем серьезном.
И тут-то как раз оно и случилось. Под воротами послышались тяжелые шаги, насчет которых никто из жильцов «Казармы» не ошибался. Все прильнули носами к оконным стеклам. Полицейский направился прямо к Лэборгу, не ответил на его приветствие и положил руку ему на плечо. В первую минуту Лэборг как будто хотел освободиться силой, но, к счастью, сдержался и попытался подействовать на полицейского уговорами. Но не стоило трудиться. Легче, кажется, уговорить Круглую башню сдвинуться с места, чем освободиться из полицейских лап. Пришлось Лэборгу поневоле пойти в участок.
В «Казарме» поднялась суматоха. Женщины одна за другой выбегали с корзинками и молочниками в руках, – всем вдруг понадобилось сбегать в булочную за хлебом и сливками к кофе. Дитте некогда было самой, так она послала старуху Расмуссен. Та вернулась совершенно ошеломленная.
– Нет, видно, скоро свету конец! Ты послушай только! – начала она. – Поверишь ли, он их обдувал! Солидный ютландец обкрадывал их все пятнадцать лет!
Она задыхалась от волнения.
– Как? Лэборг?! – воскликнула Дитте, роняя из рук шитье. – Такой славный, порядочный!..
– Да, вот тебе и на! Да еще со своей аккуратностью сам вел счет своим плутням. У него были две книжки – в одну он записывал все для собственного удовольствия, а другую показывал хозяевам. И вдруг сегодня утром ошибся, сунул им не ту! Прямо чудо какое-то, при его-то аккуратности во всем. Хозяева сначала глазам своим верить не хотели. Глядят в эту удивительную книжку и читают: «Обдул хозяина на две кроны при развесе булок», «Стянул венских булочек и пышек на четыре кроны и продал»… И что там еще было позаписано!.. Оп, как видно, не жалел хозяев, нет, грешно сказать. Не диво, что у них никакой прибыли не было, одни убытки, говорит теперь фру Нильсен. Так и заливается слезами, бедняжка. Им ведь приходится закрыть свое дело, и муж должен поступить пекарем из-за этого плута. Лучше бы они сами проели и пропили все, по крайней мере хоть удовольствие бы имели, говорит фру Нильсен. Но я всегда подозревала что-то неладное, как ни солиден он был с виду. Мужчины все подлецы, и самые порядочные с виду часто оказываются хуже всех.
Дитте не могла удержаться от улыбки:
– Неужто вы в самом деле чуяли это, бабушка? Мне кажется, напротив, он всегда был вашим любимцем.
– Ну, да… он всегда так любезно кланялся бедной старухе: «Здрасте, фру Расмуссен…» Поневоле подивишься, бывало, что он величает тебя «фру». Один только он. Но обманывать они все мастера.
Да, на этот счет Дитте была согласна со старухой.
Вообще же она ничему больше не удивлялась. Здесь, в этом мире, надо было глядеть да глядеть в оба, а то как раз тебя надуют – стоит только человеку выйти за ворота своего дома. Если Дитте посылала за покупками маленького Петера, его частенько обманывали, да трудно было уберечься от этого и старухе Расмуссен, – торговцы пользовались тем, что она плохо видела.
Мелким лавочникам квартала туго приходилось. Они ведь прямо друг на друге сидели тут, и продавал каждый из них в день самую безделицу, – так велика была конкуренция. Волей-неволей они плутовали – обвешивали и обмеривали ради куска хлеба. Покупатели, в свою очередь, надували торговцев: не возвращали назад бутылок, взятых без залога, а продавали где-нибудь в другом месте, или набирали товару в долг, а в один прекрасный день переезжали потихоньку куда-нибудь подальше. И особенно жаловаться на все это не приходилось, – сам виноват, гляди в оба! То же самое испытала Дитте с заказами: не проверь только материала, как раз тебе дадут меньше, и покупай потом недостающее из своего скудного заработка. Да, тут приходилось вести настоящую борьбу за существование. И всюду так!
Спокойною чувствовала себя Дитте лишь в своей «Казарме». Что бы там ни говорили про жильцов, – большинство из них действительно было не в ладах с правосудием, но между собой они жили дружно. Помогали друг другу где и чем могли, тесно смыкая фронт против злого внешнего мира. Чуть кому повезет немножко, он тотчас ставит угощение. Деньги как будто жгли им руки, и они торопились поскорее их сплавить, как говорили про них. Пожалуй, оно и было верно до некоторой степени. Бережливыми и предусмотрительными они не были, большинство жило так: что заработал, то и проел или пропил. Но Дитте любила их такими, каковы они были. Попадались тут изредка и люди другого сорта, которые стремились выбиться из нужды, переехать в более зажиточный квартал, например, белошвейка из соседнего дома. Но те были далеко не такие симпатичные.
Сама Дитте не стремилась больше выбиться наверх. Борьба за кусок хлеба изо дня в день достаточно утомляла и голову, и руки. И Дитте укладывалась вечером в постель со вздохом настоящего облегчения, – день прошел, и слава богу. Зато утром открывала глаза навстречу новому дню с некоторым страхом. Она как-то постарела Душой.
Да и на вид не была молода, несмотря на свои двадцать пять лет. Она сильно исхудала, – кровотечения лишили ее полноты и красок. Венозные узлы увеличились, и по вечерам ее ноги сильно отекали. Морщины на лице свидетельствовали о перенесенном горе, ведь позади у нее была уже целая жизнь, трудовая жизнь. Она все это хорошо знала сама и с особым удовольствием вспоминала о том, какою видной и красивой была когда-то, такою красивою, что люди оглядывались на нее на улице! Недолго длился этот расцвет красоты. Она невольно вспоминала и свою раннюю юность, когда так горячо желала и старалась выправиться и похорошеть. Да, быстро отцвели ее счастье, ее внешность и красота, – как те недолговечные цветы, что распускаются и отцветают лишь за одни сутки. Не сама она сгубила свою красоту; ее истощило слишком раннее материнство; венозные узлы и отеки ног она приобрела, служа у господ; морщины на лице – ну, они были добыты разными путями.
Каковы бы ни были причины, Дитте не упрекала ни себя, ни других ни в чем; только чувствовала себя усталой, замученной. Никому не приходило теперь в голову обернуться ей вслед на улице, и за то спасибо! Нарядами похвастать она ведь тоже не могла теперь. И всегда жалась к самым стенам домов, торопясь прошмыгнуть как можно скорее и незаметнее. Строптивого упорства, как у Карла, у нее не было. И когда он звал ее с собой пройтись, она отговаривалась тем, что плохо одета. он тоже не мог похвастаться одеждой, но не забивался из-за этого в угол, а преспокойно разгуливал по самым людным улицам в дырявых башмаках и обтрепанных брюках.
– С какой стати я должен прокрадываться глухими переулками? – говорил он. – Пока я могу напоминать богачам о себе, они обязаны считаться со мной.
Дитте уступала и шла с ним поневоле, но радости от этого не испытывала, прогулка превращалась для нее в мучение.
Одно только поддерживало в ней бодрость – забота о детях, лишь они и привязывали ее к жизни. У Карла иногда создавалось такое впечатление, что Дитте ждет скорой смерти и радуется ей. Порой она так задумывалась, что ее прямо не дозваться было. Но дети умели возвращать ее к жизни. Когда дело касалось их, она выпрямлялась опять, как упругая и крепкая стальная пружина. Дети ее любили, и она этому радовалась, но ей все казалось, что она не стоит их любви. То, что она могла давать им, далеко не удовлетворяло ее,








