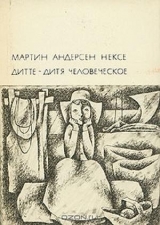
Текст книги "Дитте - дитя человеческое"
Автор книги: Мартин Андерсен Нексе
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 50 страниц)
II
МАМА ДИТТЕ
Бабушка была права, предсказывая Дитте, что у нее будет много ребят.
– У тебя сердце готово выскочить из-под платья, дитятко! И потом – эта темная полоска на животе… – говорила старуха. – Смотри, не нажить бы тебе беды с твоим неуемным сердечком!
Да, уж это глупое сердце! Едва Дитте вышла из детского возраста, как оно ввело ее в грех, но и беда не научила ее уму-разуму. Дитте не могла видеть маленькое беспомощное существо и не приласкать, детский плач переполнял ее сердце нежнейшей материнской» жалостью. В «Казарме» все прозвали ее, несмотря на молодость, «мамой Дитте». Прозвище это дали ей собственные дети, но за ними ее стали называть так и взрослые. Как-то само собой выходило, что ей оставляли своих ребят все соседки, когда им самим нужно было сбегать куда-нибудь, и как-то само собой у детей вошло в привычку бежать к ней со всеми своими бедами и нуждами. Своей шершавой рукой и грубоватым голосом она останавливала потоки детских слез и утоляла немало печалей, – мягкостью она не отличалась, но помочь умела! И дети бессознательно ценили это – «мама Дитте» вое всегда уладит!
Дитте была на редкость отзывчивой. Вечно так или иначе оказывалась с новой обузой на шее, кормила чей-нибудь лишний рот. Петера она взяла на воспитание, чтобы Георгу было веселее, когда тот лежал больной. Мать Петера бросил ее сожитель, и она могла платить за воспитание ребенка всего десять крон в месяц. Но еще до Рождества скрылась и мать, и никаких денег Дитте больше не получала. Но она радовалась, что у нее не отняли ребенка.
Под самое Рождество умерла молодая жена одного рабочего, оставив трехлетнюю сиротку. Жили они в одном коридоре с Дитте, и она стала присматривать за малюткой, когда отец уходил на работу. Затем настала безработица, выбившая его из колеи, и девочка осталась всецело на руках Дитте. Отец перебивался случайной работой, переходя с места на место, и, когда ему удавалось заработать, присылал кое-что. Он был человек честный. Но такие посылки были нерегулярны, да и мало радости получать деньги по таким мелочам – когда крону, а когда и полкроны в письме к девчурке. Вдобавок вечно приходилось опасаться, что на почте обнаружат и конфискуют деньги, а сколько-нибудь порядочной суммы – хотя бы на уплату за квартиру – все равно Дитте никогда не получала.
Петер и маленькая Анна – вот вам уж двое! А когда к ним прибавится и собственный младенец, то будет целое гнездо! Да не забудьте старую вдову Расмуссен, с которой Дитте делилась и куском хлеба и теплом, да жильца, снимавшего ее другую комнату «с утренним кофе». Он носил кожаную обувь, отложные воротнички из резинового полотна и очки, – видно было, что он знавал лучшие времена. Но спросите, – получала ли с него Дитте когда-нибудь плату? Да, нечего сказать, мастерица она была устраиваться! Без малого целым зверинцем обзавелась! Что бы сказали ее родные, если бы когда-нибудь в воскресенье она нагрянула к ним вместе со всей своей семьей.
Грех, впрочем, сказать, чтобы Дитте обивала там пороги. Она заходила помочь, когда у Сине родился маленький. И Сине тогда же дала ей понять, что они не одобряют ее поведения и что ей, во всяком случае, следовало бы вовремя обвенчаться с Георгом! С тех пор Дитте бывала на Истедгаде только по особому приглашению. Но Ларc Петер заглядывал к ней и совал деньжонок, – Сине о его посещениях, очевидно, знать не полагалось. Он и не оставался никогда подолгу; вообще стал сдержаннее, совсем не тот, что прежде.
Дитте хорошо понимала, что он так переменился благодаря Сине с ее господскими замашками и стремлением выбиться в люди. Ей, понятно, вовсе не лестно иметь падчерицу, о которой идут всякие пересуды. Эльза поступила в контору печатать на машинке, ходила в жакетке даже по будням – на службу и со службы – и свела знакомство с учеником почтамта, который и был принят у них в доме, как водится у благородных. Забежать к Дитте она все никак не могла удосужиться. Зато Ноуль частенько заглядывал, когда бывал в городе с поручениями от хозяина. Пока он служил на посылках у мастера из велосипедной мастерской и к нему же должен был поступить в учение сразу после конфирмации. Поуль почти всегда куда-нибудь спешил и, как бешеный, несся на своей дребезжащей, ржавой машине. Повстречаться с ним на повороте прямо беда была: он мчался и все время звонил, словно пожарная машина, – сторонись с дороги! Мог он теперь отдаться и своей склонности разбирать предметы по частям и снова собирать их. И всегда приносил малышам какую-нибудь забавную или замысловатую игрушку, смастерив ее из старых велосипедных частей. В хорошую погоду Петеру разрешалось сойти вниз и сесть на перекладину велосипеда. Поуль вскакивал на седло, и они уносились вихрем. У Дитте душа уходила в пятки, но не успеет она, бывало, оглянуться, как они уже с трезвоном несутся с другой стороны, объехав кругом весь квартал.
– Как ты не боишься полиции, мальчуган! – говорила Дитте.
– Да я у них под носом проскочу, только они меня и видели!
Поуль был не робкого десятка, и могло показаться, что он все детство провел на городcкой мостовой.
Расмус, близнец, тоже заходил, – оба они с Поулем продолжали считать Дитте своей настоящей матерью. Она чинила им прорехи на одежде, за которые им могло достаться дома, а они делились с ней своими небольшими карманными деньгами. Расмус, впрочем, уже не жил у Ларса Петера, его отдали в мальчики в зеленную лавку, и его тоже часто посылали по городу с поручениями. Вообще жилось ему у хозяина неплохо, но Дитте все-таки как-то не могла освоиться с мыслью, что он живет у чужих; она не понимала, как это Ларc Петер расстался с мальчиком, точно не сам подобрал сироту у мертвой старухи Дориум! Как сейчас видела она перед собой отца с осиротевшим птенчиком в сильных, надежных объятиях! И это, верно, устроила Сине, – она все в доме умела повернуть по-своему! Но между собою супруг, жили в большом ладу.
Правда, Ларc Петер не разделял мещанских взглядов Сине, – для этого ему пришлось бы переродиться. Но он был по уши влюблен в свою краснощекую, пухленькую женку и питал к ней необыкновенное почтение. Такой жены у него еще ни разу не было, – всегда мягкая, обходительная, она была в то же время твердой и решительной. На ее суждения можно было положиться, хотя бы они и шли вразрез со всеми его житейскими принципами. Она ведь вывела его семью на дорогу. А какого мальчишку ему подарила!.. Ларc Петер храбро боролся с судьбой, не раз начинал сызнова и опять оставался ни с чем, как библейский Иов. Немудрено, что он был не прочь, наконец, добиться настоящей удачи. И Сине помогла ему, принесла с собой в дом счастье, как говорится; поэтому считаться с ее взглядами значило помогать собственной удаче. Взять хоть бы то, как они теперь устроились: квартира в три комнаты, в гостиной – красная плюшевая мебель, а в столовой – дубовый буфет с медной посудой. Обстановка эта, конечно, досталась им дешево – из подержанных вещей, проданных в их лавку, но сам Ларc Петер никогда бы не додумался устроиться так. Тут нужна была сообразительность Сине.
Иногда ему, по-видимому, становилось как-то скучно дома, – пожалуй, в такие-то минуты он по преимуществу и заглядывал к Дитте. С нею он любил поговорить о Сорочьем Гнезде и о поселке. Он скучал по деревне, а больше всего по проезжей дороге.
Зима, для большинства людей столь тяжелая, ему была на руку. Они еще к Новому году расширили свою торговлю и, кроме старого железа, стали скупать подержанную мебель, обувь, одежду. В подвалах скопились горы всякого добра. Продающих было сколько угодно, – Нужда заставляла людей продавать. Но зато покупателей стало меньше; те люди, что приобретали у Ларса Петера подержанные вещи, сидели теперь на мели. Мало-помалу были битком набиты и подвал и сарай во дворе. Даже наверху, в самой квартире, повернуться стало негде из-за лишней мебели и вещей, нагроможденных до самого потолка и портивших воздух. Дышать становилось трудно. Все сбережения Сине ушли понемногу на покупки, и в один прекрасный день Ларс Петер мог вылететь в трубу, – нечем, пожалуй, оказалось бы заплатить за квартиру!
Вот тут-то Ларсу Петеру и пришла на ум удачная мысль – как раз кстати, в самую трудную минуту, когда сравнительно легко было добиться согласия Сине. Он нанял лошадь с телегой и начал по-старому разъезжать по деревням и хуторам. В городской лавке, конечно, можно было обойтись без него, – Сине была куда деловитее его. Он был попросту слишком добр и жалостлив ко всем, кто тащил к нему свой скарб. Зато торговать подержанными вещами было как раз по нем! А крестьяне большие охотники покупать подержанные вещи – может быть, потому, что уверены в таком случае в дешевизне покупки. И их кошельков Ларс Петер не жалел, со спокойной совестью соблюдал свою выгоду, как только умел.
Это помогло вздохнуть полегче, товаров в складах стало меньше, а в кассе денег прибавилось. Конечно, это было не совсем благородное занятие, и соседям незачем было знать, что мебельный торговец Ларс Петер Хансен торгует старьем по деревням. Поулю Сине строго-настрого запретила рассказывать об этом кому бы то ни было. А Дитте еще больше привязалась теперь к отцу. Когда он заходил, от его одежды, как в старину, припахивало лошадкой, а от волос и от звуков его голоса опять веяло проезжей дорогой.
«У бедняков много ходов и выходов», – говорят копенгагенцы. Нет работы – пусть идет в работный дом, а если и там не примут, то бедняку и голодать не привыкать стать! Да, хорошо иметь какую-нибудь специальность!
Дитте с детских лет приходилось изворачиваться, и жизнь постоянно напоминала ей об этом. Кроме того, она никогда никого другого ни в чем не винила, а только себя. Если дети и старуха Расмуссен мерзли и голодали, Дитте считала, что в этом виновата одна она. Она никогда не винила ни других людей, переложивших свою ношу на ее плечи, ни общество, обрекающее беременную женщину на тяжелый труд. Теперь и на морозы больше не приходилось сетовать, – будто они вызывают безработицу, стало быть, можно так или иначе извернуться, найти выход, надо только постараться, поискать хорошенько.
И Дитте действительно изворачивалась – во всяком случае, настолько, чтобы не пустить к себе на порог крайнюю нужду. Но какого нечеловеческого напряжения воли и сил ей это стоило! Понадобилась помощница газетчице, чтобы разносить за нее газеты по самым верхним этажам, – Дитте сейчас же предложила свои услуги и целую неделю являлась в пять часов утра на условленное место на углу и обходила третьи и четвертые этажи. Потом ей стало уже невмоготу, но время от времени подвертывались другие подобные заработки. Найти постоянное место нечего было и думать: кому из счастливцев, заручившихся таким местом, придет в голову добровольно уступить его другому в столь тяжкие времена? Но иногда удавалось походить два-три дня подряд на поденщину, а собирать кокс на местах разгрузки можно было в любое время. И если приналечь хорошенько, крону в день всегда заработаешь, не считая кокса, собранного для себя лично.
Труднее всего было с платой за квартиру. Всю зиму Дитте с тревогой ждала первого числа, – ведь каждое первое число вынь да положь целых пятнадцать крон, а где она возьмет их, она никогда не знала вперед. Теперь эта забота свалилась с плеч. Как-то утром старую дворничиху – вернее, уборщицу, мывшую в доме все лестницы, – нашли мертвой в постели. И управляющий предложил Дитте занять ее место, которое оплачивалось даровой квартирой. Работа была грязная, неблагодарная, и трудно было найти желающих взяться за нее, тем более что она считалась вдобавок унизительной. Но Дитте ухватилась за предложение, как за помощь свыше.
Итак, она скатилась еще ниже, – поломойка! Теперь ей уже нечего рассчитывать получить приглашение на конфирмацию Поуля. Горько ей это было; не часто «в своей жизни приходилось ей бывать на праздниках, а это ведь будет настоящий праздник! Но зато квартира обеспечена, не нужно больше дрожать над каждым грошом скудной пенсии вдовы Расмуссен. Удастся справить старухе и летнюю одежду, – ей это прямо необходимо.
Оценить по достоинству поведение Дитте было теперь тем легче, что каждый мог подвести итог ее безрассудным поступкам. Мало того, что она не позаботилась вовремя обвенчаться с Георгом, – с этим теперь уже ничего. не поделаешь, – она могла бы все-таки выпутаться после его смерти, если бы отказалась от дарового питомца, вместо того чтобы навязывать себе на шею еще второго, и перебралась бы в другой квартал, поприличнее. На место она, беременная, поступить не могла, но почему бы ей не принять предложенную ей помощь? Карл ведь готов был признать себя отцом будущего ребенка! Такого покровителя не скоро вообще сыщешь, тем более в ее положении! Мужем ей он был бы хорошим, и довольно уже кружили они один около другого, словно кошка около блюдца с горячей кашей. Чего им было еще раздумывать или опасаться? Оба ведь успели обжечься!
Да, плохо вела Дитте свои дела; сам Ларc Петер должен был признать это. Она не отличалась ни особой бойкостью, ни особым честолюбием в личных делах, но зато была добра. И слишком много брала на себя! Иная доброта хуже глупости; не мешает иногда и о себе подумать. Но говорить об этом с Дитте не стоило; она поступала по-своему.
Бедная «мама Дитте»! Что же могла она поделать с собою? Она была виновата во всем этом не больше кого-либо другого. Ее так и подмывало помочь ревущему ребенку, сбегать навестить больную соседку – не валяется ли та без всякой помощи? Дитте не могла перестать думать обо всем или даже за всех. У нее прямо чесались руки, и она не могла видеть младенца или больного взрослого, чтобы не поправить сейчас же ему подушку, остальное выходило уже само собой. Она словно отмечена была божественной печатью, обрекавшей ее вечно взваливать на себя чужое бремя, вечно быть к услугам других, вечно опекать кого-то. Старичок из Пряничного домика прозвал ее «маленьким провидением», глядя, как она хлопочет у себя дома и заботится о младших братьях и сестре. Годы шли, и Дитте оставалась все такой же великодушной. Она только научилась довольно успешно обороняться от тех, кто хотел эксплуатировать ее, но перед слабыми и беспомощными отступала.
– Знаете что? Когда вы попадете на небо, то первым долгом поспешите выяснить, сухи ли пеленки у херувимчиков! – насмешливо сказал ей однажды жилец.
Но что толку от таких разговоров?
Помешать Дитте делать по-своему было не легче, чем помешать солнцу светить или курице рыться в земле.
Дитте ходила уже на последнем месяце беременности, здоровье ее было надорвано. Часто по утрам она чувствовала себя до такой степени измученной, что ей хотелось остаться в постели.
– Тебе бы в самом деле полежать денек, – говорила старуха Расмуссен. – Как-нибудь прокормимся и сегодня. Мне вот скоро восемьдесят стукнет, а я до сих пор еще не помирала от голода.
Но Дитте все-таки вставала и гонялась за заработком, – откуда только брались у нее силы! Должно быть, они таились глубоко внутри, потому что выглядела она далеко не крепкой. Дитте и не собиралась ложиться, пока не свалится!
Нет! И пощады просить не думала. Не приходила ей также в голову мысль о том, что она приносит себя в жертву. Правда, иногда она была грубовата, когда заботилась о других; слишком уж много расходовала она физических и душевных сил, чтобы содержать свое гнездо; излишков никаких и не оставалось. Дитте отдавала все, но без улыбки; кормила своих птенцов, но дающая рука ее не всегда была тепла и мягка. Она сама искренно жалела об этом, но переделать себя не могла.
Дети, однако, чувствовали ее доброту – как свои собственные, так и чужие. Они бежали к ней с самого дальнего конца длинного коридора, когда с ними приключалась беда. Мама Дитте поможет!
III
МАЛЮТКА ГЕОРГ
Ночью, в начале мая, Дитте проснулась с криком. Ей приснилось, что ее колесуют за то, что у нее должен родиться ребенок.
Чувствуя острые боли в пояснице и в нижней части живота, она было встала, чтобы позвать старуху Расмуссен и попросить ее взять к себе детей. Но тут же пришлось снова лечь, – ноги сильно отекли, и она не могла стоять.
Дети спокойно спали: маленькая Анна рядом с Дитте у стенки, Петер в ногах постели, ножками к Анне. Дитте лежала и, прислушиваясь к их дыханию, соображала: что же ей делать? Нельзя ведь оставить детей здесь. Дурацкие ноги! При всяком недомогании они непременно отекали – это она нажила себе в прислугах. Дитте ловила ночные звуки, чтобы догадаться, который час; будильник давно уже был заложен, и квитанция продана. Долго ли еще она промучится, прежде чем родит? И не начнутся ли опять судороги в икрах? Это, пожалуй, самое болезненное. А вдруг она умрет от родов? Впрочем, это не беда. Только бы кто-нибудь сидел в это время около нее и держал ее за руку! Но кому же было? Карлу? Ну, он, наверное, уж забыл о ней, и немудрено, раз она так поступила с ним. Но хорошо в сущности, что она не поддалась его фантазиям, не согласилась выйти за него и переехать на хутор. Мать-то, в конце концов, не смогла обойтись без Йоханнеса и снова позвала его к себе, а Карл ушел из дому. Дитте знала, что он опять здесь, в городе, но еще не виделась с ним. Может быть, он теперь стыдился ее. Вообще, нужна ли она кому-нибудь в мире? Многим будет недоставать ее, но она не могла вспомнить ни единой души, которая бы любила ее по-настоящему. Только бы солнышко светило, когда ей придется умирать! При солнышке легче!
Она старалась лежать спокойно во время схваток и ждала, когда же забрезжит сквозь занавески утро, – ей страстно хотелось, чтобы скорее рассвело. В четыре часа утра обыкновенно спускался по лестнице вниз ломовой извозчик, чтобы задать корма лошадям, стоявшим на соседнем дворе; можно будет позвать его.
На лестнице послышались тяжелые шаги, – это жилец возвращался домой. Она слышала, как он спотыкался, стукался и бормотал; видно, под хмельком был, как всегда. Значит, можно сейчас позвать его, – когда он трезв, к нему не подступись.
– Господин Крамер! – тихонько, чтобы не разбудить детей, окликнула она его, когда он вошел в свою комнату. – Господин Крамер!
Он постучался и вошел, покачиваясь, с лампой в руках; несколько раз он чуть-чуть не подпалил себе длинные, свисающие усы.
– Простите за беспокойство, – прогнусавил он, обводя комнату затуманенным взором. – Что случилось?
– Ох, мне так плохо, господин Крамер, – жалобно проговорила Дитте. – Не будете ли вы так добры помочь мне, забрать у меня детишек?
Крамер, по прозвищу «Поздравитель», с недоумением воззрился на нее.
– Э-э-э! Следовательно… Но тогда вам лучше бы обратиться к моему отцу, старшему акушеру… То есть если бы это случилось лет двадцать тому назад! А позвольте спросить, вы разве сразу нескольких ждете?
– Ох, господин Крамер, мне так неможется!.. – Дитте отвернулась к стене и заплакала.
У жильца был такой вид, словно он с луны свалился.
– Ну, ну, чего вы? – забормотал он.
С величайшим усилием он расклеил слипавшиеся веки и решительно подошел к постели.
– Извините за беспокойство, но вы сами же сказали насчет детишек, фру Хансен, – произнес он, наклонясь над ней.
– Я говорила об этих вот малышах. Не будете ли вы так добры отнести их к старухе Расмуссен?
Она не решалась повернуться к нему лицом, – слишком уж от него разило спиртом.
– Ну, разумеется, да! То есть, я хотел сказать: конечно, нет! Тревожить старуху среди ночи!
– Мне бы хотелось, чтобы она посидела со мной.
– Это совершенно лишнее, раз я теперь вполне трезв. – Он сделал размашистый жест. – Крамер берет бразды правления в свои руки, моя милая. Малышей он уложит в свою собственную постель, приняв все меры предосторожности! Все меры предосторожности! А вы себе лежите и помалкивайте! Согласны?.. Только ни о чем не думать, и все обойдется отлично. Женщины лучше всего справляются со своими делами, когда не думают. А то одна моя знакомая дама рожала мальчишку, и он вышел ногами вперед. Она, видите ли, была доктор математики и слишком много рассуждала!
Болтая и пошатываясь, он раза два прошелся в свою комнату и обратно, перенес туда стул и опять принес его назад, вновь отнес и вновь принес.
– Видите, удалось! – самодовольно заявил он. – Всегда надо начинать с чего-нибудь небьющегося.
Затем он взял девочку и, пошатываясь, понес ее к себе, а Дитте осталась одна, готовая в случае нужды звать на помощь. Она не очень-то полагалась на него, несмотря на предварительную пробу. Но все сошло благополучно, сонные дети лежали у него на руках, как мертвые, и не чувствовали, что их куда-то переносят.
– Ну-ну, мелюзга! – приговаривал он, укутывая их у себя на постели.
Это было просто трогательно. В трезвом виде он нимало ими не интересовался и даже ворчал, когда они попадались ему под ноги.
– Что? Кричать-то не пришлось? Не понадобилось? – смеясь, поддразнивал он Дитте, стоя в дверях.—
Я приметил, как вы поглядывали мне на ноги – не заплетаются ли! Женщины всегда смотрят на ноги, а все дело-то в голове. Вот как мальчишки, когда им нужно пролезть сквозь частокол… ну, чтобы, скажем, украсть яблок; они всегда сначала суют голову, потому что, если голова пролезет, и все тело пролезет. Все дело в голове! – Он предостерегающе поднял палец и вдруг хихикнул: – Большинство людей, впрочем, безголовые… потому так легко и пролезают всюду!
Оп стоял, прислонясь спиной к дверному косяку, и вдруг стал сползать все ниже и ниже. Но внезапно встряхнулся и выпрямился.
– Итак, я остаюсь здесь… буду бодрствовать и молиться. Решено! – сказал он и уселся около Дитте, в логах постели, прислонясь плечом к стене. – А милая «мама Дитте» пусть укроется хорошенько и вздремнет, чтобы собраться с силами к решительному бою. Спите себе, – право, бояться нечего. Дети рождаются ежеминутно… быть может, даже ежесекундно, так что вы сами можете понять… Вы давеча жаловались на нездоровье… Да разве это можно назвать нездоровьем? Тогда, пожалуй, и мой хмель нездоровье! Послушайте, а как насчет квартирной платы? Получили ли вы когда-нибудь хоть грош с этого субъекта-поздравителя? – Он порылся в жилетном кармане и выложил на ночной столик несколько монет. – Черт его знает! Неужели только всего А осталось? А день был в общем прибыльный, но я свинья, как вам небезызвестно! Крамер – свинья, даром что носит очки; спросите сами у здешних баб… ах, извините, у здешних дам!.. В общем, я недурно провел день: один из этих идиотских юбилеев – двадцать пять лет позированья в качестве возглавляющей особы… Причесан, прилизан… с орденом или другой вещичкой в петлице по случаю торжественного дня! И я тут как тут – с букетом: «Извините, ваше превосходительство, за беспокойство, по по случаю торжественного дня…» – «Помилуйте! Что за беспокойство!» – отвечает жертва и сует десятку. Совсем не так глупо для круглого идиота, не правда ли? Потому что, признаться сказать, можно ведь и за насмешку принять.
Дитте застонала от боли.
– Ну, ну!.. Конечно, дело трудное. Но нет худа без добра. Я хочу сказать, что хорошо, когда дети посылаются тем, кто их любит. Потому что, доведись мне быть на вашем месте… Впрочем, тогда досталось бы голове, – мы, мужчины, способны творить только головою. Представьте же себе: вдруг череп трескается, а оттуда выползает маленький человеческий детеныш!.. Да я это так только, к слову. Тут нет ровно ничего смешного. Но и опасного тоже ничего нет. Моя жена тоже, бывало, вопит: «Умираю, умираю!» – «Вздор, – говорю, – ты просто родить!» Послушали бы вы, как она на меня напустилась. Женщины не признают логики, черт возьми! Ну, закройте же глаза!..
Да, ему легко говорить!.. И будет ли конец его пьяной болтовне?
Наконец он устал от собственной болтовни и уснул, облокотясь на спинку кровати и положив голову на руки. В маленькой ком пате стало душно от его пропитанного спиртом дыхания, и у Дитте кружилась голова. Извозчик давно ушел на работу; за спущенной занавеской светлело. В кухне послышалось шарканье туфель старухи Расмуссен; она собиралась согреть себе кофейку. Значит, уже пять часов утра.
Старуха унесла детей к себе в чердачный чуланчик и уложила их на свою постель. С большим трудом удалось ей растолкать Поздравителя и отправить его спать. Он страшно ругался со сна.
– Ох, – скорчила старуха гримасу, когда он, наконец, убрался. – Вот уж отвратительный человек!
– Он был очень мил, – возразила Дитте. – Сам захотел посидеть около меня, чтобы не беспокоить вас, бабушка!
– Нечего сказать, хороша сиделка! Не всякий согласится принять такую! С него ведь все станется!..
– Ну, что вы! – Дитте улыбнулась, но вдруг вскрикнула и скорчилась от боли. – Ой, как мне больно!.. Право, я не выживу! У меня такое странное ощущение – будто все внутренности разрываются на части… И потом, я не понимаю, в чем дело – на целых шесть недель раньше?
Сомневаться все-таки не приходилось. Старуха Расмуссен сама не раз терпела эти муки и хорошо знала все признаки. Она прибрала комнату и затопила печку, чтобы малютка родился в тепле. Потом нужно было по-собрать тряпья, чтоб подстелить под Дитте. А это нелегко было: за зиму исчезло все, без чего можно было как-нибудь обойтись. Детское белье пришлось выпросить у соседей – у кого что. Да надо было еще сбегать за повитухой, добыть сдобного хлеба и сварить свежего кофе, – эти акушерки такие разборчивые! Словом, пришлось старухе побегать, – досталось ее больным ногам!
К счастью, сегодня они не давали себя знать. Событие подбодрило старуху, и она справилась молодцом. Еще счастье, что этот «субъект» Крамер не пропился вечером до последнего эре!
После полудня Дитте родила мальчика; он был недоношен и весил всего пять фунтов. Но все же это был мальчик, наперекор всем приметам и предсказаниям старухи Расмуссен, что родится девочка.
– Надо хорошенько посмотреть еще разок, – сказала она. – Не вышло ли ошибки? – Она положительно сердилась, что мальчишка, так сказать, надул ее.
– Впрочем, немудрено было и ошибиться, когда он такой малюсенький! – сконфуженно оправдывалась она.
Разумеется, акушерка явилась, когда все уже было кончено. Она постояла с минуту, красуясь в своем новом пальто, потом осмотрела, крепко ли перевязан пупок у новорожденного, и упорхнула. От кофе она отказалась, – верно, запах кофе ей не понравился.
– Ну так мы сами его выпьем, – заявила старуха Расмуссен. – Вишь, какая спесивая! Пускай себе убирается на все четыре стороны! Мне не впервые быть за повитуху. Сколько младенцев приняла на своем веку!
Они напились кофе. Дитте налили чашку крепкого-прекрепкого.
– Это разгоняет кровь! – сказала старуха.
Детям позволили войти и взглянуть на нового братца. До сих пор они играли на чердаке. Но они мало интересовались малюткой и убежали, получив свою долю угощения; достаточно уже насиделись они в этой комнате.
Старуха Расмуссен примостилась у печки, держа на коленях голенькое, иссиня-красное крохотное созданьице и смазывая ему все складочки салом. Потом она обернула его ватой для тепла – крови-то в нем было маловато, – уложила в заменявший люльку выдвинутый ящик комода, куда сунула еще бутылку с горячей водой.
Да, все-таки это был мальчик!
– И тоже сумеет натворить бед, как ни мал уродился, – бормотала старуха, укутывая младенца. – Бог весть, почему господь создал мужчин такими, что они только причиняют горе женщинам!
Дитте самой на этот раз хотелось девочку.
Ну, уж этого старуха никак не могла взять в толк.
– Стало быть, ты довольна своей участью! – сказала она и даже перекрестилась. – По существу разницы не должно быть: что есть у одного, без того не обойтись другому, и наоборот. А вот господь бог взял да неладно устроил – отдуваться приходится всегда нам, бедным женщинам. Случись что, – мы и попались! И убежать никуда не убежишь, – реви, сколько хочешь, а последствия при тебе останутся. Нет, будь наша воля выбирать, поверь, многие не захотели бы родиться женщинами. Влипнет какая-нибудь несчастная девчонка, и, сколько ни мечется потом, прибыль никуда не денешь, неси домой. А виновник всего – где? Женщины – все равно что узкие переулки, куда наносит сугробы снега; и откуда только он берется? Но, видно, господь бог знал, что делал, создавая нас такими дурами: кабы мы больше думали о последствиях, ему, пожалуй, долго пришлось бы ждать, пока его белый свет заселится.
– А вы разве не были замужем по-настоящему, бабушка? – удивилась Дитте.
– Была-то была, да что толку, если мужа все равно что и не было? Ему ничего не стоило в один прекрасный день взять ключ от уборной и – на целый год исчезнуть. А потом вдруг явиться опять как ни в чем не бывало, даже без шапки, как ушел, и даже с ключом в руках! Надо бы и мне делать вид, будто ничего не случилось, будто с его ухода прошло не больше пяти минут, да не всякая жена способна на это!
Дитте рассмеялась.
– Да, смейся, хотя смешного тут мало. Ни вдова, ни мужняя жена! Детьми-то нас бог благословил, но отца своего они не больно часто видели. Вот как прошли мои лучшие годы… Куда дети девались? Да коли не померли, так живы и по сию пору…
Старуха Расмуссен никогда не рассказывала о своих детях.
– А теперь пора ужинать, да и на боковую!
– У нас ведь ничего нет, – сказала Дитте.
– Как же? У нас еще осталось полхлеба солдатского, что я выпросила на днях. Солдат целый мешок нес лавочнику, я и попросила – что ж тут такого, думаю, раз его все равно лошадям скормят. Да, лошади небось не голодают. Будь я в свое время господской лошадью, а не прачкой, я бы, пожалуй, не осталась без куска хлеба под старость.
Маленький Петер тоже был не прочь стать лошадкой. Он постоянно играл так: просунет голову между перекладинами спинки старого стула и ржет. Сиденье изображало ясли, и когда на него, бывало, положат нарезанный мелкими кусочками черный солдатский хлеб и скажут; «Ну, теперь покушай, лошадка!» – мальчик готов был жевать без конца. С сестренкою было труднее, у нее и зубы-то настоящие еще не прорезались. Но хлеб, размоченный в воде, и она глотала.
– Завтра я посыплю его тебе сахарком, – приговаривала старуха, чтобы девочке хлеб казался вкуснее.
Новорожденного Дитте оставила на ночь при себе, – он лежал у самой груди и мог сразу начать сосать, когда молоко появится. Сосок находить он уже наловчился. У стенки спала девочка, а в ногах постели Петер, ножками к ней. Таким образом, все они были собраны в кучу около Дитте и согревали друг друга. Кровать с лучшими перинами была предоставлена жильцу.
Дитте лежала и прислушивалась к ровному дыханию детей, к возне крыс за покатой переборкой у своего изголовья и пристально вглядывалась в темноту, пока перед глазами у нее не замелькали яркие цветные круги, как, бывало, в детстве. Тогда она вспомнила о боге и о бабушке, о Карле и о Георге – обо всех тех, с кем была связана ее судьба. О боге она быстро забывала: если он в самом деле существует, то она не была у него в долгу. Вспоминая же все, о чем говорила и гадала ей бабушка, она раздумывала, сбылось ли хоть что-нибудь из того? В будущем она не рассчитывала уже ни на что, у нее все было в прошлом. Дитте не создавала себе никаких иллюзий. Богатой и знатной ей так и не довелось стать, но ведь могло же сбыться предсказание о том, что ей выпадет счастье! Была ли она счастлива? Она сама не знала. Спросить бы у кого-нибудь, в чем счастье? У кого-нибудь из тех, кто читает книги. В книгах об этом, наверное, написано.








