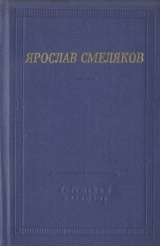
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
В стихотворении «Попытка завещания» тончайший лиризм, глубина горестных раздумий о конце жизни, ожидающем каждого из нас, психологическая прозорливость и захватывающая естественность и непосредственность образного воплощения замысла, передающего неповторимую сложность переживаний нашего современника, слагаются в картину редкостной художественной завершенности.
Здесь и сама печаль овеяна дыханием жизни и словно бы окружена светоносным и трепещущим ореолом, какой встает издали над каждым виднеющимся во мгле людским селением, тесным сплетением улиц, домов, площадей. В завершающих стихотворение строках:
Пусть этот отблеск жизни милой,
пускай щемящий проблеск тот
пройдет, мерцая, над могилой
и где-то дальше пропадет… —
с особенной глубиной и захватывающей сердечностью передана связь личного нашего существования со всей окружающей нас жизнью – даже в самых обычных и повседневных ее проявлениях, на которые мы порой и внимания-то никакого не обращаем. Но вот приходит чае, когда невозможно, да и нет силы с ними расстаться – так они, оказывается, прекрасны и дороги нам. Все это передано в «Попытке завещания» со всею сложностью и трепетностью большого и непосредственного чувства, и, кажется, в этой «попытке» поэт завещает возлюбленной не свое личное достояние, а весь мир – во всей его светоносной и бессмертной красоте.
Элегические стансы – трудно иным образом определить жанр стихотворения «Бывать на кладбище столичном…» – отмечены тою же суровой простотой и значительностью раздумий. В них поэт, как ему и привычно, от самых заурядных наблюдений неизбежно и внутренне оправданно переходит к большим обобщениям, когда разговор о смысле жизни и назначении человека идет там,
где всё исчерпано до дна,
нет ни величия, ни страха,
а лишь естественность одна.
Диапазон его наиболее поздней и зрелой лирики удивительно широк, в ней слышны все «регистры» – от сниженно-бытового и сугубо разговорного до торжественно-патетического, захватывающего безудержно хлынувшими волнами высокой романтики. Таково стихотворение, посвященное Рихарду Зорге. Его начало носит нарочито разговорный, несколько сниженный по своей тональности и изображаемым подробностям характер:
Почти перед восходом солнца,
весь ритуал обговоря,
тебя повесили японцы
как раз Седьмого ноября.
Но с тем большей силой – по контрасту – звучат заключительные строки стихотворения:
…час спустя над миллионной
военно-праздничной Москвой
склонились красные знамена,
благословляя подвиг твой.
И трубы сводного оркестра
от Главной площади земли
до той могилы неизвестной,
грозя и плача, дотекли.
Здесь от почти хроникальной передачи событий, сопутствовавших гибели Зорге, поэт внезапно переходит к такой высокой патетике, которая захватывает и застигает нас врасплох своею неожиданностью, возвышенностью, страстной силой, героической романтикой, пронизывающей всю жизнь Зорге. И взрыв этого романтического начала тем больше потрясает нас, чем меньше мы к нему подготовлены.
К какому жанру можно отнести стихотворение, посвященное Рихарду Зорге?
Думается, если прислушаться к его патетической интонации, его возвышенному слогу, к завершающим его торжественным мотивам, то ближе всего оказывается оно к жанру оды, – но оды необычайной, удивительно современной, предельно насыщенной, страстно напряженной и словно бы напоенной слезами.
Да, это – ода, как и многие другие стихотворения Смелякова, – но разве мы не ощущаем, какое новое звучание придал поэт этому традиционному и, казалось бы, уже отжившему жанру, какие новые и неожиданные возможности открыл в нем? А если кому-либо покажется, что такой жанр, как ода, безнадежно устарел, то Я. Смеляков, не вступая в излишние споры, создаст стихотворение, которое назовет «Одой русскому человеку», и начнет его традиционно одическим «о»:
О, этот русский непрестанный,
приехавший издалека,
среди чинар Таджикистана,
в погранохране и в Цека.
В своей оде поэт напоминает и о том, что сделано для нас и нашего блага целыми поколениями русских людей:
…здесь, в больших могилах,
на склонах гор, чужих и милых,
сыны российские лежат.
И хоть сказано это несколько старомодно, одическим языком («сыны российские»), но этот язык, пройдя сквозь горнило современности, обрел ее дыхание, ее пылкость, и поэт сумел придать старому слогу новое звучание, изначальную свежесть и молодость, а тем самым оживить и как бы воскресить его, – и такою живой водой насыщены и напоены многие страницы лирики Я. Смелякова.
А как значительно и внутренне весомо стихотворение о старике, который идет нам навстречу, «стуча сердито палкой»; это тоже своего рода стансы, пронизанные раздумьями о встрече разных поколений, о судьбе и характере непреклонного в своей требовательности и неуступчивости старика, о высоких нравственных ценностях, созданных его временем, о преемственности и благодарной памяти, которую заслужило его поколение.
Спервоначалу и доныне,
как солнце зимнее в окне,
должны быть все-таки святыни
в любой значительной стране.
Приостановится движенье
и просто худо будет нам,
когда исчезнет уваженье
к таким, как эти, старикам.
(«Не семеня и не вразвалку…»)
Таким героям смеляковской лирики, как я думаю, суждена большая и долгая жизнь в сердцах наших читателей. И разве не очевидно, каким совершенно новым смыслом и звучанием наполняется старый одический жанр в таких стихотворениях, как «Не семеня и не вразвалку…», «Сосед», «Николай Солдатенков», «Косоворотка» и многих других. Начавшись подчас с бытового и мало чем примечательного сюжета (где-то на грани случайной, а то и небрежной зарисовки), они неожиданно, а вместе с тем закономерно, подчиняясь не сразу обнаружившейся дисциплине и внутренней необходимости, внезапно повертываются новой, ослепительно блеснувшей гранью, и тогда заурядная и вроде бы ничем не примечательная картина становится захватывающей и прекрасной. Видно по всему – к одическому жанру поэта влечет стремление даже и в самом простом и обыкновенном найти нечто необычайное, прекрасное, героическое, исторически непреходящее.
Нельзя не заметить, что такие традиционные и, казалось бы, устаревшие жанры, как элегия, ода, баллада, стансы, эпитафия (и даже автоэпитафия – «Попытка завещания»), закономерно входили в лирику Смелякова, завоевывая все более прочные позиции, обретая в ней новаторское звучание, расширяя ее пределы, существенно обогащая ее.
Смеляков, особенно в последние годы своей жизни, видел в себе неотъемлемую частицу своего поколения, он ощущал себя и участником современного литературного процесса, и наследником заветов и традиций прошлого. Об этом с особой определенностью говорит стихотворение «Декабрь». Его поэзия неотделима и от традиций, рожденных уже в наше время, ставших великим достоянием советской поэзии, неотъемлемых от ее истории и ее завоеваний. В его стихах слышатся отзвуки «Двенадцати» Блока и «Левого марша» Маяковского, «Синих гусар» Асеева и «Перекопа» Тихонова, «Гренады» Светлова и «Современников» Саянова, «Курсантской венгерки» Луговского и «Продолжения жизни» Корнилова.
Для Смелякова смысл новаторской творческой деятельности – в развитии традиций, в их продолжении, обогащении, а никак не в отбрасывании.
Его слог чужд броской эффектности и показного блеска; он отвечает духу обиходной речи домашних и однокашников, понимающих друг друга с полуслова – порой и не слишком изящного, а то и грубоватого. Все здесь отвечает сосредоточенности, особой взыскательности и деловитости натуры автора, требовательного к окружающим, а потому непокладистого и подчас даже добродушно-ворчливого, с досадой отмахивающегося от всего показного, самонадеянно-ограниченного, не связанного с настоящим делом или глубоким переживанием.
Если поэт и стремится задеть и захватить своего читателя, то вовсе не изысканностью слога, но самою сутью замысла, неразрывно связанного с тем или иным жизненно важным вопросом. Автор словно бы состоит в кровном и неразрывном родстве со своими читателями – героями его книг, что определяет и самый характер его творчества. Если у одного из его героев «только дело на уме», то нет сомнений – поэт придерживается тех же взглядов! Если в речи его читателей господствует «естественность одна», то и поэт не отбрасывает даже тех оборотов речи, понятий, слов, какие, казалось бы, уже отжили, эстетически скомпрометированы, стерлись от слишком частого или недостаточно бережного употребления. Даже им Смеляков умеет придать изначальную свежесть. В «Надписи» на книге «История России» Соловьева он замечает:
История не терпит суесловья,
трудна ее народная стезя.
«Стезя» – мы и слово такое запамятовали, сдали в архив, а оно воскресло, стало органически необходимым в стихах Смелякова, посвященных истории.
Следуя за своими героями, поэт не избегает подчас оборотов языка самых «просторечных», сниженно-бытовых. Так, в стихотворении о стариках он пишет:
Их пиджаки сидят свободно,
им ни к чему в пижоны лезть.
(«Не семеня и не вразвалку…»)
Поэт широко открывает перед такими оборотами корешки своих книг: входите, не стесняйтесь, будьте как дома, – и в его стихах они звучат полновластно и непринужденно, со всею своей характерностью и выразительностью.
В духе и тоне такого же сугубо бытового, непритязательного, дружески грубоватого разговора начинается и стихотворение «Николай Солдатенков». Но ошибся бы тот, кто в этой непринужденности не подметил бы особой и продуманной манеры, не различил высокого мастерства, виртуозности художника, который, даже подходя к тому краю, с которого так легко соскользнуть в грубость, безвкусицу, натурализм, сумеет вовремя – одним почти неуловимым поворотом фразы – уйти от него и неожиданно для читателей возвести свое повествование на такую высоту, где все пронизано берущим за сердце лиризмом. В этом – одна из примечательных черт Я. Смелякова.
Правда, порою здесь эта кажущаяся небрежность стиха становится небрежностью самой настоящей – тут есть некая грань, которую поэт незаметно для себя подчас переступает; тогда возникают такие строки:
Как мне ни грустно и ни тяжко,
но я, однако, не совру,
что не дворянка, а дворняжка
мне по душе и ко двору…
(«Кто – ресторацией Дмитраки…»)
Очевидно, что подобные каламбуры и остроты рассчитаны на слишком уж невзыскательный вкус.
А оказавшись «В болгарском городке» (так называется одно из зарубежных стихотворений), поэт «убежденно убежал» из интуристских ресторанов, поскольку
Там всё приборы да проборы,
манишек блеск и скатертей —
всё это мне никак не впору,
не по симпатии моей.
Что ж, вполне возможно и такое отношение к «интуристским ресторанам». Поэту, как признается он, уютнее в заводской столовой, где, «как в царстве малом и родном», он отлично проводит время «за плохо прибранным столом».
Сюда заходят, как в свой родной дом, многие рабочие, составляющие словно бы одну семью, в которой далеко не чужим видит себя и сам поэт, – и все же чувствуется некоторое излишество в столь резком противопоставлении блеска скатертей (от которого сейчас отказалась бы редкая хозяйка!) «плохо прибранному» столу – как надежной защите от всякого рода мещанства и излишней парадности. Нет, между ними проходят теперь иные грани и рубежи, и, думается, поэту в чем-то изменило присущее ему острое чувство времени. Как видим – это подчас бывало и с ним.
Поэт полагает, что наш язык
… пахнущий прелой овчиной
и дедовским острым кваском,
писался и черной лучиной,
и белым лебяжьим пером.
(«Русский язык»)
И, кажется, иные строки самого Смелякова действительно отзывают «овчиной» – суровым бытом, изображенным во всей его неприбранности, а то и неприглядности. И вдруг все это удивительно преображается, словно от прикосновения «лебяжьего пера», – и материал обыденной повседневности словно бы поднимается на крыльях высокой романтики. Вслед за своим любимым художником Нико Пиросмани – да и другими близкими себе мастерами, – поэт зачастую разрабатывал и самую грубую по своим показателям «фактуру», добиваясь того, чтобы она вдруг заиграла и засветилась удивительными красками, захватывающим лиризмом. В этом он и находил особое призвание и назначение своей лирики.
В стихах о родной речи сама музыка русского слова передается со свойственным ему особым строем и ладом, издавна захватившим и покорившим поэта:
У бедной твоей колыбели,
еще еле слышно сперва,
рязанские женщины пели,
роняя, как жемчуг, слова.
(«Русский язык»)
В этих стихах поэт словно бы стремился подхватить и сохранить музыку древних песен, дивных и полнозвучных, и здесь эпитет «рязанские» перекликается своим звучанием с глаголом «роняя», создает общее с ним и неуловимо гармоническое сочетание, а женщины – они также, по закону фонетического соответствия, вызывают образ жемчужины во всей его магической прелести, – и так язык, чуждый искусственности, преднамеренности, нарочитому подбору аллитераций, обретает неуловимую и таинственную власть над нами, воспринимается во всей своей свежести и первозданности – в том едва различимом сиянии, какое словно бы пронизывает лучшие стихи Я. Смелякова.
Вовлекая в них глыбы материала, казалось бы сырого, необработанного и неприглядного, а подчас и серого, поэт умеет одним внезапным поворотом на свет придать ему жемчужный оттенок, обнаружить со всею очевидностью и несомненностью его драгоценную суть, мимо которой многие подчас проходят равнодушно и незаинтересованно. Так, он неожиданно для своего читателя открыл, что значит жизнь и труд того поселкового соседа («персонаж для щелкоперов»!), под руками которого «не пропадает, а шевелится земля», – и одно это, казалось бы, такое простое и незамысловатое слово «шевелится» обретает здесь такую животворность и незаменимость, что является поистине драгоценным, придает непреложную внутреннюю убедительность и сердечность всему стихотворению.
А как «шевелится земля» – родная почва русской речи – под пером самого поэта! С какою упрямой настойчивостью поднимаются ее саженцы, какой свежестью и новизной веет от них, хотя бы поэт обращался к самым стертым словам! А вот оказывается – им нет «ни века, ни износа», они словно бы молодеют под руками поэта, встают в его стихах одно к одному, в полный рост во всей своей прелести, свежести, первозданности.
Да и сам поэт самобытен и оригинален без каких бы то ни было претензий на оригинальность; в его стихах господствует – так же, как и у его героев, – «естественность одна», а вместе с тем мы сразу узнаем в его стихах специфически смеляковскую интонацию, неторопливо-деловую походку, самый жест – жест человека, досадливо отмахивающегося от всякого рода «ерунды», словно от назойливо наползающей мошкары, – с тем чтобы подхватить «разговор о главном», вернуться к нему, осветить его и опытом большой истории нашей страны, и своим личным, неповторимо-индивидуальным опытом, своей особой памятью, хранящей те ценности, какими располагает именно и только этот поэт – и никто другой.
Особо следует подчеркнуть возросшее с годами стремление поэта видеть жизненные явления и психологические процессы в их доподлинности, сложности, противоречивости, не подвластной заранее установленным представлениям о должном и недолжном в искусстве, а потому каждый раз и в каждом случае требующее от художника острой прозорливости и исследовательской пытливости, без которой можно упустить нечто самое важное и покатиться по колее общих мест и отживших понятий.
Так, обращаясь в стихотворении «Мальчишки» к юным собеседникам – соратникам – с добротою, но при этом и «раздраженно», поэт подмечает у них весьма разноречивые качества, стремления, черты:
Непониманье и прозренье,
и правота и звук пустой.
Эта внутренняя противоречивость своих собеседников и оппонентов порождает у поэта особое отношение к ним, такое же сложное, а в чем-то и противоречивое; он стремится постичь этих мальчишек – сквозь всю их смущенность и браваду – и говорит с ними предельно открыто и без обиняков, чтобы вызвать в ответ такую же откровенность и прямоту:
…мне, как дядьке иль отцу,
и ублажать их не пристало,
и унижать их не к лицу.
Он говорит с ними прямо, и не только любовно, но и требовательно, ибо знает; когда придет время, жизнь спросит с них не менее требовательно и не даст никакой поблажки; значит, только такой разговор – предельно откровенный – и следует вести с ними, никакой другой!
В таких же чертах – подчас крайне сложных, противоречивых, словно бы взаимоисключающих – предстает и жизнь тех «рязанских Маратов», которые боролись «с беспощадностью предельной»
в краю ячеек и молелен,
средь бескорыстья и растрат…
А о тех из них, кого уже нет в живых – умерли ли они своей смертью или погибли от руки кулаков, – поэт скажет;
…гул забвения и славы
над вашим кладбищем плывет.
Стремление позднего Смелякова изобразить захватившее его явление во всей сложности, противоречивости, неподвластности однолинейным и заранее заготовленным суждениям и решениям, несомненно, сказывается и на внутренне сложных и противоречивых чертах его рисунка.
Бросается в глаза широта переживаний и восприятий поэта, открытых навстречу «всем впечатленьям бытия» – от повседневных и неприметных занятий соседа и вплоть до тех событий, от которых зависят судьбы мира и пути истории. Все слагается в глазах поэта в нечто единое и масштабное, определяющее внутреннюю цельность его творчества.
Знаменательно и весьма характерно для него признание:
Многообразно и в охоту
нам предлагает жизнь сама
душе и мускулам работу —
работу сердца и ума.
…Пусть постоянный жемчуг пота
увенчивает плоть мою, —
я признаю одну работу,
ее – и только – признаю.
(«Работа»)
Поэт подчеркивает здесь, так же как и во многих предшествующих стихах, жизненно важное значение и внутреннюю красоту не только необычайной, выдающейся работы, но самого обыденного и обыкновенного труда.
«На главной магистрали» – именно так можно было бы определить пафос и направленность всего творчества Я. Смелякова, неуклонную гражданственность, масштабность и психологическую проникновенность его лирики, – одно от другого неотделимо.
Примечательно творчество Я. Смелякова и еще одним – тою широтою дыхания, какая заметна даже и в самом названии книги «День России». В этой широте – верность самой жизни, миру переживаний и восприятий нашего человека, живущего всеми интересами и свершениями своего народа.
Конечно, пафос гражданственности, чувство историзма, государственный размах раздумий, стремлений, интересов – все это присуще, если говорить о современной поэзии в целом, не одному Я. Смелякову, а и многим его собратьям по перу, но в его творчестве все это отмечено особой печатью, особым складом характера, тем неповторимым жизненным опытом, каким обладал именно этот поэт; все связывает его судьбу с судьбами всей страны, с ее великим историческим опытом, непосредственно переживаемым поэтом и как свой, сугубо личный. Вот что придает необычайную широту и неповторимое своеобразие лирике Я. Смелякова, с присущим ему особым жестом, особой, совершенно естественной интонацией, особым складом мысли и речи.
В ней многое звучит по-новому, а вместе с тем поэт верен себе. С годами он не столько менялся, сколько все углубленней и основательней вел свой «разговор о главном». Вот почему и «муза дальних странствий» – неизменная спутница поэта – с годами
не расшатала постоянство,
а лишь упрочила его.
(«Постоянство»)
В этой прочности, неизменности, в постоянстве поэта, только крепнувшем с годами, есть нечто надежное, основательное, вызывающее доверие и уважение читателя и критика, – даже того, кому не все придется по душе в его творчестве, далеко не всегда отличающемся изяществом слога и изысканностью речи. Но и сквозь непринужденные и такие с виду непритязательные строки оно светится удивительной чистотой, неиссякаемой любовью к людям, восхищением их делами и подвигами, подчас самыми обыденными и неприметными, острой и неизбывной жаждой обнаружить добро и благо в их натурах и деяниях.
Придавая особый смысл тем заветам, которым остались неизменно верны его современники и соратники, поэт скажет:
Предполагать мы можем смело,
как говорят, сомнений нет:
она ничуть не послабела —
вода в колодцах наших лет.
(«Немало раз уже, сдается…»)
Да, она навсегда сохранила в них свою свежесть, новизну, живительную силу. Последние книги поэта с особою убедительностью и неоспоримостью свидетельствуют о том, что жизнь и творчество Я. Смелякова до конца его дней были пронизаны духом молодости, мужества, новаторских открытий.
Б. Соловьев








