Стихотворения и поэмы
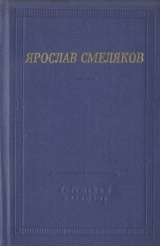
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
139. БЕЛАЯ ВЕЖА
Там, где мирные пашни,
на краю городском
молча высится башня,
окруженная рвом.
Солнце летнее светит,
снег из тучи летит.
Лишь она семь столетий
неподвижно стоит
возле близкой границы,
у текучей реки.
В этих старых бойницах
вы стояли, стрелки.
Нет, они не пустые:
как столетья назад,
очи древней России
из проемов глядят.
Башня Белая Вежа
словно башни Кремля:
очертания те же,
та же наша земля.
Ты стоишь на границе,
высока и стара,
красных башен столицы
боевая сестра.
Меж тобою и ними
зыбкий высится мост,
золотистый и синий,
из тумана и звезд.
1959 Минск
140. ОДА МЛАДШЕМУ ЛЕЙТЕНАНТУ
За широкой стеной кирпичной,
той, что русский народ сложил,
в старой крепости приграничной
лейтенант молодой служил.
Не с прохладцею, а с охотой
в этой крепости боевой
гарнизонную нес работу,
службу родине дорогой.
Служба точная на границе
от зари до второй зари,—
незадаром вы на петлицах,
темно-красные кубари.
…Не забудется утро это,
не останется он вдали,
день, когда на Страну Советов
орды двинулись и пошли.
В белорусские наши дали
налетев из земли чужой,
танки длинные скрежетали,
выли бомбы над головой.
Но, из камня вся и металла,
как ворота назаперти,
неподвижная крепость стала
у захватчиков на пути.
Неколеблемым был и чистым
этот намертво сбитый сплав:
амбразуры и коммунисты,
редюиты и комсостав.
Ты не знала тогда, Россия,
средь великих своих утрат,
что в тылу у врага живые
пехотинцы твои стоят.
Что на этой земле зеленой
под разводьями облаков
держат страшную оборону
рядовые твоих полков.
За сраженьем – еще сраженье,
за разведкою – снова бой,
и очнулся он в окруженье,
лейтенантик тот молодой.
Не бахвалясь и не канюча,
в пленном лагере, худ и зол,
по-за проволокою колючей
много месяцев он провел.
А когда, нагнетая силу,
до Берлина дошла война,
лейтенанта освободила
дорогая его страна.
Он не каялся, не гордился,
а, уехавши налегке,
как положено, поселился
в русском маленьком городке.
Жил не бедно и не богато,
семьянином заправским стал,
не сутулился виновато,
но о прошлом не вспоминал.
Если ж, выпивши, ветераны
рассуждали о той войне,
он держался заметно странно
и как будто бы в стороне.
…В это время, расчислив планы,
покоряя и ширь и высь,
мы свои залечили раны
и историей занялись.
В погребальные те окопы
по приказу родной земли
инженеры и землекопы
с инструментом своим пришли.
Открывая свои подвалы,
перекрытья своих глубин,
крепость медленно возникала
из безмолвствующих руин.
Проявлялись на стенах зданья
под осыпавшимся песком
клятвы, даты и завещанья,
резко выбитые штыком.
Тихо родина наклонилась
над патетикой гордых слов
и растроганно изумилась
героизму своих сынов.
…По трансляции и газете
из столичного далека
докатилися вести эти
до районного городка.
Скатерть блеском сияет белым,
гости шумные пьют винцо,
просветлело, помолодело
лейтенанта того лицо.
Объявляться ему не к спеху
и неловко героем слыть,
ну, а всё ж, запозднясь, поехал
в славной крепости погостить.
Тут же бывшему лейтенанту
(чтобы время зря не терять)
пионеров и экскурсантов
поручили сопровождать.
Он, витийствовать не умея,
волновал у людей умы.
В залах памятного музея
повстречали его и мы.
В сердце врезался непреклонно
хрипловатый его рассказ,
пиджачок его немудреный
и дешевенький самовяз.
Он пришел из огня и сечи
и, прострелен и обожжен,
ни медалями не отмечен,
ни в реляции не внесен.
Был он раненым и убитым
в достопамятных тех боях.
Но ни гордости, ни обиды
нету вовсе в его глазах.
Это русское, видно, свойство —
нам такого не занимать —
силу собственного геройства
даже в мыслях не замечать.
1959
141. ЛАНДЫШИ
Устав от тряски перепутий,
совсем недавно, в сентябре,
я ехал в маленькой каюте
из Братска вверх по Ангаре.
И полагал вполне разумно,
что мне удастся здесь поспать,
и отдохнуть от стройки шумной,
и хоть немного пописать.
Ведь помогают размышленью
и сочинению стихов
реки согласное теченье
и очертанья берегов.
А получилось так на деле,
что целый день, уже с утра,
на пароходике гремели
динамики и рупора.
Достав столичную новинку,
с усердьем честного глупца
крутил радист одну пластинку,
одну и ту же без конца.
Она звучала в час рассвета,
когда всё смутно и темно
и у дежурного буфета
закрыто ставнею окно.
Она не умолкала поздно,
в тот срок, когда, сбавляя ход,
под небом осени беззвездным
шел осторожно пароход.
Она кружилась постоянно
и отравляла мне житье,
но пассажиры, как ни странно,
охотно слушали ее.
В полупустом читальном зале,
где был всегда неверный свет,
ее парнишки напевали
над пачкой выцветших газет.
И в грубых ватниках девчонки
в своей наивной простоте,
поправив шпильки и гребенки,
слова записывали те:
«Ты сегодня мне принес
Не букет из пышных роз,
Не фиалки и не лилии,—
Протянул мне робко ты
Очень скромные цветы,
Но они такие милые…
Ландыши, ландыши…»
Нет, не цветы меня озлили
и не цветы мешали жить.
Не против ландышей и лилий
решил я нынче говорить.
Я жил не только для бумаги,
не только книжицы листал,
я по утрам в лесном овраге
сам эти ландыши искал.
И у меня от сонма белых
цветков, раскрывшихся едва,
стучало сердце и пьянела —
в листве и хвое – голова.
Я сам еще в недавнем прошлом
дарил созвездия цветов,
но без таких, как эти, пошлых,
без патефонных этих слов.
Поэзия! Моя отрада!
Та, что всего меня взяла
и что дешевою эстрадой
ни разу в жизни не была;
та, что, порвав на лире струны,
чтоб не томить и не бренчать,
хотела только быть трибуной
и успевала ею стать;
та, что жила едва не с детства,
с тех пор, как мир ее узнал,
без непотребного кокетства
и потребительских похвал,—
воюй открыто, без сурдинки,
гражданским воздухом дыши
и эти жалкие пластинки
победным басом заглуши!
1959 Пароход на Ангаре
142. МАШИНИСТЫ
В этой чистенькой чайной,
где плафоны зажглись,
за столом не случайно
машинисты сошлись.
Занялись разговором,
отойдя от работ,
пред отправкою скорой
в Узловую на слет.
Веселы и плечисты,
хороши на лицо,
говорят машинисты,
попивая пивцо.
Рук неспешных движенье
в подтверждение слов —
словно бы продолженье
тех стальных рычагов;
словно бы отраженье
за столом небольшим
своего уваженья
к содеповцам своим.
Кружки пенятся пеной,
а они за столом
продолжают степенно
разговор вчетвером.
Первый – храбрым фальцетом,
добрым басом – другой:
не о том да об этом —
о работе самой.
И, понятно, мы сами
возле кружек своих
за другими столами
молча слушаем их.
И вздыхаем согласно
там, где надо как раз,
будто тоже причастны
к их работе сейчас.
За столами другими
наблюдаем сполна,
как сидит вместе с ними
молодая жена.
Скрыла плечи и шею
под пуховым платком,
и гордясь и робея
в окруженье таком.
Раскраснелась не слишком.
Рот задумчиво сжат.
И нетронуто «мишки»
на тарелке лежат.
С удивлением чистым
каждый слушать готов
четырех машинистов,
четырех мастеров.
Громыхают составы
да недальних путях…
Машинисты державы
говорят о делах.
1959 Павлодар
143. «Взгляд глубокий и чистый…»
Взгляд глубокий и чистый,
не старушечья стать.
Здравствуй, мать коммунистов,
здравствуй, русская мать.
Дети той колыбели,
что качала она,
надевали шинели,
воевали сполна.
До конца воевали.
И звенели потом
ордена и медали
за победным столом.
Голова поседела.
Ты, подруга и мать,
стать и бабкой успела,
и прабабушкой стать.
Есть ли семьи на свете
больше этой семьи?
Всюду трудятся дети,
всюду внуки твои.
Ты – в извечном движенье,
удивляющем нас.
На тебя с уваженьем
все мы смотрим сейчас.
И с любовью нетленной
посылаем вдогон
свой гражданский, военный,
свой всеобщий поклон.
1959
144. АЛЕКСАНДРУ РЕШЕТОВУ
Тридцать лет тому
назад я узнал воочью
не дворцовый Петроград —
Ленинград рабочий.
И доныне помнить рад
с обожаньем редким
дымный зимний Ленинград
первой пятилетки.
Трубы города того —
каменные вышки,
воспевателей его
в худеньких пальтишках.
Мы ходили в дальний срок
по путям таковским,
ленинградский паренек
с пареньком московским.
Не на танцах и балах,
не в паркетном зале,
а в путиловских цехах
вместе выступали.
Жили мы с тобой тогда,
юные, худые,
как ударники труда,
люди заводские.
Так прими же в новый срок
мой привет отменный,
Сашка Решетов, дружок,
юбиляр почтенный.
1959
145. НАТАЛИ
Уйдя с испугу в тихость быта,
живя спокойно и тепло,
ты думала, что всё забыто
и всё травою поросло.
Детей задумчиво лаская,
старела как жена и мать…
Напрасный труд, мадам Ланская,
тебе от нас не убежать!
То племя, честное и злое,
тот русский нынешний народ,
и под могильною землею
тебя отыщет и найдет.
Еще живя в сыром подвале,
где пахли плесенью углы,
мы их по пальцам сосчитали,
твои дворцовые балы.
И не забыли тот, в который,
раба страстишечек своих,
толкалась ты на верхних хорах
среди чиновниц и купчих.
И, замирая то и дело,
боясь, чтоб Пушкин не узнал,
с мольбою жадною глядела
в ту бездну, где крутился бал.
Мы не забыли и сегодня,
что для тебя, дитя балов,
был мелкий шепот старой сводни
важнее пушкинских стихов.
1959 Ленинград
146. ПЕТР И АЛЕКСЕЙ
Петр, Петр, свершились сроки.
Небо зимнее в полумгле.
Неподвижно бледнеют щеки,
и рука лежит на столе —
та, что миловала и карала,
управляла Россией всей,
плечи женские обнимала
и осаживала коней.
День – в чертогах, а год – в дорогах,
по-мужицкому широка,
в поцелуях, в слезах, в ожогах
императорская рука.
Слова вымолвить не умея,
ужасаясь судьбе своей,
скорбно вытянувшись, пред нею
замер слабостный Алексей.
Знает он, молодой наследник,
но не может поднять свой взгляд:
этот день для него последний —
не помилуют, не простят.
Он не слушает и не видит,
сжав безвольно свой узкий рот.
До отчаянья ненавидит
всё, чем ныне страна живет.
Не зазубренными мечами,
не под ядрами батарей —
утоляет себя свечами,
любит благовест и елей.
Тайным мыслям подвержен слишком,
тих и косен до дурноты.
«На кого ты пошел, мальчишка,
с кем тягаться задумал ты?
Не начетчики и кликуши,
подвывающие в ночи, —
молодые нужны мне души,
бомбардиры и трубачи.
Это все-таки в нем до муки,
через чресла моей жены,
и усмешка моя, и руки
неумело повторены.
Но, до боли души тоскуя,
отправляя тебя в тюрьму,
по-отцовски не поцелую,
на прощанье не обниму.
Рот твой слабый и лоб твой белый
надо будет скорей забыть.
Ох, нелегкое это дело —
самодержцем российским быть!..»
Солнце утренним светит светом,
чистый снег серебрит окно.
Молча сделано дело это,
всё заранее решено…
Зимним вечером возвращаясь
по дымящимся мостовым,
уважительно я склоняюсь
перед памятником твоим.
Молча скачет державный гений
по земле – из конца в конец.
Тусклый венчик его мучений,
императорский твой венец.
1945–1949 Ленинград
147. ВЕТКА ХЛОПКА
Скажу открыто, а не в скобках,
что я от солнца на мороз
не что-нибудь, а ветку хлопка
из путешествия привез.
Она пришлась мне очень кстати,
я в самом деле счастлив был,
когда узбекский председатель
ее мне в поле подарил.
Всё по-иному осветилось,
стал как-то праздничнее дом
лишь оттого, что поместилась
та ветка солнца над столом.
Не из кокетства, не из позы
я заявляю, не тая:
она мне лучше влажной розы,
нужнее пенья соловья.
Не то чтоб в этот век железный,
топча прелестные цветы,
не принимал я бесполезной,
щемящей душу красоты.
Но мне дороже ветка хлопка
не только пользою простой,
а и своею неторопкой,
своей рабочей красотой.
Пускай она зимой и летом,
попав из Азии сюда,
всё наполняет мягким светом,
дыханьем мира и труда.
1960 Ташкент
148. СОБАКА
Объезжая восточный край —
и высоты его, и дали, —
сквозь жару и пылищу – в рай
неожиданно мы попали.
Здесь, храня красоту свою
за надежной стеной дувала,
всё цвело, как цветет в раю,
всё по-райски благоухало.
Тут владычили тишь да ясь,
шевелились цветы и листья.
И висели кругом, светясь,
винограда большие кисти.
Шелковица. Айва. Платан.
И на фоне листвы и глины
синеокий скакал джейран,
распускали хвосты павлины.
Мы, попав в этот малый рай
на разбитом автомобиле,
ели дыни и пили чай
и джейрана из рук кормили.
Он, умея просить без слов,
ноги мило сгибал в коленках.
Гладил спину его Светлов,
и снимался с ним Евтушенко.
С ними будучи наравне,
я успел увидать, однако,
что от пиршества в стороне
одиноко лежит собака.
К нам не ластится, не визжит,
плотью, видимо, понимая,
что ее шелудивый вид
оскорбляет красоты рая.
Хватит жаться тебе к стене,
потянись широко и гордо,
подойди, не боясь, ко мне,
положи на колено морду.
Ты мне дорог почти до слез,
я таких, как ты, обожаю,
верный, храбрый дворовый пес,
ты, собака сторожевая.
1960 Ташкент
149. РЕЧЬ ФИДЕЛЯ КАСТРО В НЬЮ-ЙОРКЕ
Зароптал
и захлопал восторженно
зал —
это с дальнего кресла
медлительно встал
и к трибуне пошел —
казуистам на страх —
вождь кубинцев
в солдатских своих башмаках.
Пусть проборам и усикам
та борода
ужасающей кажется —
что за беда?
Ни для сладеньких фраз,
ни для тонких острот
не годится
охрипший ораторский рот.
Непривычны
для их респектабельных мест
твой внушительный рост
и решающий жест.
А зачем их жалеть,
для чего их беречь?
Пусть послушают
эту нелегкую речь.
С ними прямо и грубо —
так время велит —
Революция Кубы
сама говорит.
На таком же подъеме,
таким языком
разговаривал некогда
наш Совнарком.
И теперь,
если надо друзей защитить,
мы умеем
таким языком говорить.
И теперь,
если надо врагов покарать,
мы умеем
такие же речи держать.
1960
150. ПИСЬМО К ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ
Михаилу Луконину
Меж неземной и средь житейской
толпы поэтов небольшой
мы – плебс. И вкус у нас плебейский,
а не какой-нибудь иной.
Но плебс совсем другого рода,
а не такого, не того,
что, тщась шагать в главе народа,
плетется сам в хвосте его.
Для песенок с пошибом старым
не брали мы со стороны
ни семиструнную гитару,
ни балалайку в три струны.
И в небольшом фабричном зале
средь чтения своих страниц
чечеткой, сдуру, не прельщали
ряды смеющихся девиц.
…Мы с теми даже вроде дружим,
но сами вовсе не из тех,
кому – до боли сердца – нужен
любой, но все-таки успех.
Мы не из тех, кто молодежи
строчит намеки да интим.
Мы сами это делать можем,
да не желаем. Не хотим.
Мы не хотим, чтоб нам вдогонку —
оценка та совсем не впрок:
«Ах, как он мил! Какой он тонкий!» —
звучал прелестный голосок.
Но это только отрицанье.
А вдруг достойные умы
нас спросят: «Ну а что вы сами?»
Действительно – что сами? Мы?
Вдыхая жадно воздух здешний,
с тобою вместе мы вдвоем
без фейерверка, непоспешно,
хоть время к вечеру, идем.
Мы отвергаем за работой —
не только я, не только ты —
красивости или красоты
для социальной красоты.
Мы добываем, торжествуя
и глядя времени в лицо,
не «мо», не хохму продувную,
а просто красное словцо.
Да, то словцо и то словечко,
произнесенное в упор,
что как истопленная печка
или в зазубринах топор.
1960
151. ПОЭТЫ
Я не о тех золотоглавых
певцах отеческой земли,
что пили всласть из чаши славы
и в антологии вошли.
И не о тех полузаметных
свидетелях прошедших лет,
что всё же на листах газетных
оставили свой слабый след.
Хочу сказать, хотя бы сжато,
о тех, что, тщанью вопреки,
так и ушли, не напечатав
одной-единственной строки.
В поселках и на полустанках
они – средь шумной толчеи —
писали на служебных бланках
стихотворения свои.
Над ученической тетрадкой,
в желанье славы и добра,
вздыхая горестно и сладко,
они сидели до утра.
Неясных замыслов величье
их души собственные жгло,
но сквозь затор косноязычья
пробиться к людям не могло.
Поэмы, сложенные в спешке,
читали с пафосом они
под полускрытые усмешки
их сослуживцев и родни.
Ах, сколько их прошло по свету
от тех до нынешних времен,
таких неузнанных поэтов
и нерасслышанных имен!
Всех бедных братьев, что к потомкам
не проложили торный путь,
считаю долгом пусть негромко,
но благодарно помянуть.
Ведь музы Пушкина и Блока,
найдя подвал или чердак,
их посещали ненароком,
к ним забегали просто так.
Их лбов таинственно касались,
дарили две минуты им
и, улыбнувшись, возвращались
назад, к властителям своим.
1960
152. БОРИС КОРНИЛОВ
Из тьмы забвенья воскрешенный,
ты снова встретился со мной,
пудовой гирею крещенный,
ширококостый и хмельной.
Не изощренный томный барин —
деревни и заставы сын,
лицом и глазками татарин,
а по ухватке славянин.
Веселый друг и сильный малый,
а не жантильный вертопрах,
приземистый, короткопалый,
в каких-то шрамах и буграх.
То – буйный, то – смиренно-кроткий,
то – предающийся греху,
в расстегнутой косоворотке,
в боярской шубе на меху.
Ты чужд был залам и салонам,
так, как чужды наверняка
диванам мягкого вагона
кушак и шапка ямщика.
И песни были!.. Что за песни!
Ты их записывал пером,
вольготно сидя, как наездник,
а не как писарь за столом.
А вечером, простившись с музой,
шагал, куда печаль влекла,
и целый час трещали лузы
у биллиардного стола.
Случалось мне с тобою рядом
бродить до ранней синевы
вдоль по проспектам Ленинграда,
по переулочкам Москвы.
И я считал большою честью,
да и теперь считать готов,
что брат старшой со мною вместе
гулял до утренних гудков.
Всё это внешние приметы,
быть может, резкие – прости.
Я б в душу самую поэта
хотел читателя ввести.
Но это вряд ли мне по силам,
да и нужды особой нет,
раз ты опять запел, Корнилов,
наш сотоварищ и поэт.
1960
153. САПЕРЫ
Уже в Истории все даты,
какие та дала война,
а для саперного солдата
еще не кончилась она.
То вдалеке, то чуть не рядом,
а то совсем под боком, тут,
они немецкие снаряды
из подземелий достают.
И бережно, дыша помалу,
с нерасторопностью своей
несут их утром к самосвалу,
как носят бомбы и детей.
Мы оценить их подвиг тяжкий
по справедливости должны.
Снимайте шляпы и фуражки
перед саперами страны.
1961
154. РОМАШКА
Из всей земли исполинской
взаправду, а не рисуясь,
Америкою Латинской
всё больше интересуюсь.
Журналы всю ночь листая,
вычитывая газеты,
старательно собираю
подробности и приметы.
С мальчишеским прилежаньем,
с монашеской верой в чудо
далекие очертанья
рассматриваю отсюда.
При свете настольной лампы
ты кажешься очень странной,
чужая ночная пампа,
таинственная саванна.
Но вот я узнал впервые,
что там по границам вспашки
растут, как у нас в России,
подсолнечник и ромашки.
Мне выразить это трудно,
но есть у земли желанье,
чтоб сблизились обоюдно
гражданские расстоянья.
Поэтому эти строки
тебе посвящаю смело,
рязанский цветок далекий,
ромашка Венесуэлы.
1961
155. КУБИНСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Средь плантаций и нив
весела гуахира,
в этот день получив
ключ от новой квартиры.
Растерявшись, стоит,
на глазах хорошея,
и блистает-блестит
светлый ключик на шее.
Не таскать же в руке
тот подарок артельный —
пусть висит на шнурке,
словно крестик нательный.
Хватит спать на полах,
по каморкам тесниться,
копошиться в углах,
на задворках ютиться!
Не пришлось мне бывать
там, где правили янки,
но пришлось повидать
чердаки и землянки.
Он повсюду таков
и везде одинаков,
нищий быт батраков
и ночлежных бараков.
Обозлясь в тесноте,
мы отчаянно сами
все клоповники те
сокрушили ломами.
Мы развеяли стиль
чердака и подвала.
Только мелкая пыль,
постояв, оседала.
И умом и душой
принимаю сугубо
этот ключ небольшой —
символ нынешней Кубы.
Будто месяц из туч,
тускло смазанный жиром,
серебрящийся ключ
от отдельной квартиры.
1961
156. ВЫ НЕ ИСЧЕЗЛИ
Внезапно кончив путь короткий
(винить за это их нельзя),
с земли уходят одногодки:
полузнакомые, друзья.
И я на грустной той дороге,
судьбу предчувствуя свою,
подписываю некрологи,
у гроба красного стою.
И, как ведется, по старинке,
когда за окнами темно,
справляя шумные поминки,
пью вместе с вдовами вино.
Но в окруженье слез и шума,
средь тех, кто жадно хочет жить,
мне не уйти от гордой думы,
ничем ее не заглушить.
Вы не исчезли, словно тени,
и не истаяли, как дым,
все рядовые поколенья,
что называю я своим.
Вы пронеслись объединенно,
оставив длинный светлый след, —
боюсь красот! – как миллионы
мобилизованных комет.
Но восхваления такие
чужды и вовсе не нужны
начальникам цехов России,
политработникам страны.
Не прививалось преклоненье,
всегда претил кадильный дым
тебе, большое поколенье,
к какому мы принадлежим.
В скрижали родины Советов
врубило, как зубилом, ты
свой идеал, свои приметы,
свои духовные черты.
И их не только наши дети,
а люди разных стран земли
уже почти по всей планете,
как в половодье, понесли.
1961
157. ПЕСНЯ
В посольствах, на фабриках, в клубах,
набитых народом сполна,
открыто братается с Кубой
огромная наша страна.
Пускай же о митингах этих,
что длятся почти до утра,
печатают сводки в газете,
вещают вовсю рупора.
Не то чтоб тайком и украдкой,
а так, чтоб видал бизнесмен,
кладем ее сахар внакладку
и нефть отправляем взамен.
И в маленьких клубах предместий,
пока на трибуне доклад,
с ушанками русскими вместе
береты кубинцев лежат.
Россия братается с Кубой,
даря ей величье свое,
и прямо в солдатские губы
заздравно целует ее.
1961
158. РЯЗАНСКИЕ МАРАТЫ
Когда-нибудь, пускай предвзято,
обязан будет вспомнить свет
всех вас, рязанские Мараты
далеких дней, двадцатых лет.
Вы жили истинно и смело
под стук литавр и треск пальбы,
когда стихала и кипела
похлебка классовой борьбы.
Узнав о гибели селькора
иль об убийстве избача,
хватали вы в ночную пору
тулуп и кружку первача
и – с ходу – уезжали сами
туда, с наганами в руках.
Ох, эти розвальни и сани
без колокольчика, впотьмах!
Не потаенно, не келейно —
на клубной сцене, прямо тут,
при свете лампы трехлинейной
вершились следствие и суд.
Не раз, не раз за эти годы —
на свете нет тяжельше дел! —
людей, от имени народа,
вы посылали на расстрел.
Вы с беспощадностью предельной
ломали жизнь на новый лад
в краю ячеек и молелен,
средь бескорыстья и растрат.
Не колебались вы нимало.
За ваши подвиги страна
вам – равной мерой – выдавала
выговора и ордена.
И гибли вы не в серной ванне,
не от надушенной руки.
Крещенской ночью в черной бане
вас убивали кулаки.
Вы ныне спите величаво,
уйдя от санкций и забот,
и гул забвения и славы
над вашим кладбищем плывет.
1961








