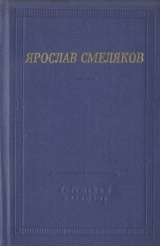
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
С ЛЕЗГИНСКОГО
Сулейман Стальский
Тебе, наш гость, во всех краях
слова привета говорят.
Стоит в углу на трех ногах
в папахе света аппарат.
От спички он огонь берет,
он керосин пудами жрет.
И, как по морю пароход,
идет по свету аппарат.
Дороден, важен, знаменит,
во тьме он греет и блестит.
Разбейте лампы! Пусть горит
зимой и летом аппарат.
Прельщает пеньем соловей,
петух царит в семье своей.
Тебе подобных меж вещей,
конечно, нету, аппарат.
Тебя недавно в наш аул
привез чеканщик Тевекул.
С тех пор живет твой дивный гул
в душе поэта, аппарат.
Тебя зажжешь, потом уснешь,
а ты варить не устаешь.
Ах, с колесом фортуны схож
по всем приметам аппарат!
Не задирай, однако, нос,
хоть Сулейман тебя вознес,
но это не совсем всерьез,
в стихах воспетый аппарат.
<1948>
Затем правдивым я слыву,
Что слова в жизни не солгал.
В цветами убранном хлеву
Я всё на выставке видал.
Не рассказать за сто минут
О том, что там смотреть дают.
Телят, огромных, как верблюд,
Я сам на выставке видал.
Ягнята, видно, норовят
По весу перегнать телят:
Тулупы их по швам трещат,
Я сам на выставке видал.
Красивых, словно пенье птиц,
Как желтый сноп в руках у жниц,
Золотогривых кобылиц
Я сам на выставке видал.
Богата жизнь у нас в стране,
Полдневный свет у нас в окне,
То, что вы видели во сне,
Я сам на выставке видал.
Народ с певца не сводит глаз:
«Спой, Сулейман, еще хоть раз!
Тебе мы верим: свой рассказ
Ты сам на выставке видал».
<1951>
С ЯКУТСКОГО
Семен Данилов
На влажном побережье Нила,
в арабской дальней стороне,
всё непривычно-странным было,
всё показалось чуждым мне.
Тут солнце светит по-иному
и ветер не такой, как дома.
Я увидал не в старой книге,
а ощутимо, наяву
чужие тяжкие мотыги,
чужие листья и траву.
Течет тут время по-иному,
неторопливо, незнакомо.
Вдоль глинобитных низких зданий
идут поспешно по жаре
мужчины в длинных одеяньях
и жены тайные в чадре.
Здесь всё совсем не так, как дома,
всё необычно, незнакомо.
Здесь всё в ином проходит свете,
но ранним утром в школьный класс
спешат нестриженые дети,
совсем такие, как у нас.
Она такая же до боли,
ребячья шумная орда,
какую я в якутской школе
учил в недавние года.
<1963>
С АБХАЗСКОГО
Иван Тарба
Я – житель волн и житель скал,
сын милой горной стороны.
Я много ездил и видал
мир весь почти – со стороны.
Опять по глобусу гоню,
опять кручу его – крути!
А в сердце бережно храню
всё, что увиделось в пути.
Мы все по-разному живем
на этой маленькой земле:
и на просторе полевом,
и в птичьих гнездах на скале.
Умом и сердцем не пойму,
никак не объяснят умы,
как все они разъяли тьму
и лишь едва коснулись тьмы.
Куда с высот ни поглядишь,
увидишь сразу в немоте
дома без окон и без крыш
и небоскребы в темноте.
Но время все-таки не спит,
готовя новогодний стол,
земля пылает и кипит,
как утром праздничный котел.
<1968>
Как в незаконченной поэме,
живут младенец и старик,
звучат в одно и то же время
предсмертный вздох и первый крик.
Века проходят величаво
над полем справедливых битв,
а тот, кто бредил вечной славой,
в чужой земле безвестно спит.
Все мы заметили воочью
и все приучены давно,
что вслед за уходящей ночью
рассвет торопится в окно.
Роняя свой убор зеленый,
могучий дуб, меняя вид,
потерянно и оголенно
на зябком зареве стоит.
<1968>
С АЛТАЙСКОГО
Бронтой Бедюров
Отец мой был парторгом колхоза.
По утрам, неумело постучав в деревянную дверь,
к нему приходили мужчины в мохнатых белых шубах.
Они сильно пахли овчиной, сеном, снежной хвоей
и зимним холодом открытого неба.
Они подсаживались к отцу и говорили:
«На стоянке Ак-Кем не осталось кормов».
Или:
«Табун застоялся в верховьях Карасу.
Пока не закрыло перевал, надо коней перегнать ниже,
туда, где нет ветра и где еще стоит поздняя трава».
Они говорили:
«Бабушка Туйкандай совсем одна.
Ей надо выхлопотать пенсию
и оказать зимнюю помощь.
Отрядите парней, чтобы они привезли ей дрова.
Пошлите Бердена – пусть он застеклит ей окна».
Целый день приходили и уходили люди.
Но особенно много их бывало по утрам.
Они приходили к нам домой, потому что отец
сидел за столом со своими новенькими костылями:
неподкованный конь упал на молодом льду
и сломал отцу правую ногу.
Входившие люди казались нам, малышам,
сказочно огромными.
Это были табунщики, пастухи, охотники.
Они только раз в месяц спускались в село,
делая две остановки: у конторы и магазина.
В магазине они брали муку, соль, комковый сахар, табак.
И еще немного конфет для каких-то красавиц.
Они набивали свои переметные сумы этим товаром,
неспешно отвязывали коней
и скакали обратно.
Они ночевали прямо на земле:
под голову – седло, под бок – потник,
а одеялом служила жаркая мохнатая шуба.
На медленном небе над ними тихо кружились звезды,
освещая их усталые лица.
И только кони время от времени встряхивали головами.
Но сейчас я хочу рассказать о старике Бушалдае.
Утром холод из двери добирался до меня
и шарил у мальчишки за пазухой.
Медлительно затворялась дверь,
и в дом входил Бушалдай.
Он долго кряхтел у порога,
старательно отряхивал ноги
и только потом окончательно входил к нам.
Он в тщательно сшитых из ножек косули
мягких сапогах на крепких тесемках.
Его шуба украшена красной оторочкой,
потребовавшей бездны искусства.
Шуба его охвачена синим матерчатым поясом,
который заменяет у нас кошельки и карманы.
На правом боку у Бушалдая обязательный нож
с красивой костяной ручкой.
Лисий хвост целиком пошел на воротник его шубы.
Оттуда, из пушистого воротника,
вылезает очень морщинистая старая шея.
Его редкая бородка состоит из шести узких струек
индевелого дыма.
А из-под рысьей шапки на меня и мою сестренку
глядели добрые внимательные глаза.
«Драстый!» —
произносил он, не переставая обеими ладонями
оттирать замерзшее лицо
и отделяя сосульки со своей неказистой бородки.
Ах, это русское слово!
В нем было что-то несказанное,
напоминающее реку, известную только одному Бушалдаю:
она стремительно неслась вниз, бушуя в распадках,
разъединяясь и сливаясь вновь.
Мы с сестренкой, ликуя, прыгали возле большой
шубы деда и теребили ее заманчивые полы.
Отец широко улыбался:
«Якши, Бушалдай!»
Потом они пили кирпичный чай,
красный, как хорошо обожженный кирпич.
Старик старательно дул на поверхность чая
и отхлебывал из чашки мелкими глотками.
Они говорили с отцом о табунах, об овсе,
о войне в Корее и атомной бомбе.
Они говорили о том, что на верхних стойбищах
не хватает соли.
Наговорившись и столковавшись,
они пожимали друг другу руки,
и старик несколько раз повторял
еще одно русское слово – «карашо».
Потом садился на мохнатого крепкого конька и уезжал.
Отец мой умер.
Ему было бы сейчас шестьдесят.
А Бушалдай жив,
ему почти девяносто.
И я, приезжая домой на каникулы,
обязательно посещаю его.
Я вхожу в его дом и с удовольствием говорю: «Здравствуй!»
Уважаю табунщиков!
Старик, правда, теперь на пенсии,
возраст его преклонен.
Но такой человек, как он, не может сидеть сложа руки.
«Здравствуй!» – говорю я почтительно.
А потом мы пьем чай, красный, как кирпич,
и говорим о весне, об овсе, о войне во Вьетнаме.
О выходе в космос обязательно и подробно.
И еще о том, что на верхних стойбищах
не хватает транзисторов.
У меня теперь огромный запас слов.
Но я не забываю два своих первых русских слова:
«здравствуй» и «хорошо».
Ведь в этих словах так много
самого главного – тепла и доброты.
На чем я и заканчиваю.
<1968>
Поздно вечером я возвращался с работы,
и мне было так хорошо, так легко, моя любимая!
Это выпал первый белый снег.
Когда я шел на работу, деревья голыми были,
а теперь они стоят, как модницы, в серебряных серьгах.
И провода, осев под тяжестью снега,
превратились в чудесные длинные ожерелья.
С крыш падали звучащие капли,
напомнившие мне шустрых воробьев.
Маленький город стал белым и просторным.
Небо подарило мне белую косулю – зимнюю ночь любви и спокойствия.
Когда я поздно вечером возвращался с работы,
навстречу мне шел мужчина, широко распахнув
тяжелое пальто,
веселехонький, как мой брат,
когда жена родила ему сынишку.
Когда я поздно вечером возвращался с работы,
я увидел влюбленных.
Он пригнул лапчатую снежную ветвь
и бережно стряхнул чистый снег на непокрытые волосы
своей возлюбленной.
Она засмеялась,
и от этого смеха снег тотчас растаял.
Вот что происходило,
когда я поздно вечером возвращался с работы.
<1968>
С БУРЯТСКОГО
Дондок Улзытуев
Ресниц опустивши стрелочки,
ступает по половицам
шестнадцатилетняя девочка
величественно, как царица.
Ведь в прошлое воскресенье
парнишка в клубике местном
встал перед ней с почтением
и уступил ей место.
Туфли обувши лучшие,
ходит – не улыбается…
Вот ведь какие случаи
в жизни подчас случаются!
<1959>
С ЕВРЕЙСКОГО
Матвей Грубиан
Не ради шутки в общем разговоре,
не для того, чтоб удивить семью,
хотел бы я на побережье моря
поставить типографию свою.
И, стоя в ней естественно и просто,
имея лишь духовный интерес,
я для набора брал бы только звезды —
светящиеся литеры небес.
Пусть эта книга пахнет не бумагой,
не клейстером невзрачной мастерской,
а только влагой, только синей влагой,
одною только влагою морской.
И вовсе нету никакой оплошки,
нет ничего от праздных небылиц
в том, что струится лунная дорожка
посередине всех моих страниц.
Обрадованный этакой манерой,
не убоясь недюжинных работ,
из валунов – подобно Гулливеру —
я сделал бы для книги переплет.
Всё соверша, измазавшись, как дети,
я сел бы там, доволен и устал…
И шумный ветер нашего столетья
мою бы книгу запросто листал.
<1962>
Тебе сегодня исполнилось тридцать лет,
юность всё дальше, а старость всё ближе, —
бедный больной еврейский поэт
перед витриною шляп в Париже.
На обтерханных брюках и пиджаке
столько нищенских дыр —
и рядом и врозь, —
что усталое тело и вдалеке
проглядывается насквозь.
За все эти дыры —
зачем скрывать? —
никто бы не дал тебе ни копейки,
но зато тебя можно бережно взять
и играть на тебе, как пастух на жалейке.
Но, может быть, настанет время
(оно грядет шагами большими),
когда все эти шляпы с лентами всеми
будут твоими.
Одну ты станешь носить, вставая,
в другой ты станешь болтать с друзьями,
а самая лучшая и дорогая
будет тебя венчать вечерами.
Если собака соседская злая,
та, что хромает на левую лапу,
опять на тебя по-дурацки залает,
скажи ей, чуть подняв вечернюю шляпу:
«Дорогая собака! За дерзость простите,
позвольте мне вам посоветовать лично:
такую же шляпу приобретите
и вы будете выглядеть так же прилично».
…На улице дождь начинается длинно,
и в струйках вечерних неверного света
все шляпы летят из клетки витрины
и садятся на ветви волос поэта.
<1966>
Я мог бы нести на плече ребенка
и сам веселее в три раза стал,
когда б он смеялся легко и звонко
и что-то прекрасное лепетал.
Я столик несу на плече неслышно,
стихи по-еврейски шепча на ходу,
и ставлю его под апрельской вишней
в дачном пригородном саду.
И песню пишу о всех вас, дети,
не вытирая отцовских слез,
о всех, которых военный ветер
безжалостно вдаль от земли унес
<1966>
Перед самой войною,
одержим и устал,
у ворот твоих стоя,
я тебя целовал.
Я запомнил ночные
поцелуи твои,
фонари голубые —
наважденье любви.
Я с войны возвращаюсь
в сорок пятом году
и – хоть очень стараюсь —
тех ворот не найду.
Рассказали мне, Лия,
неохотно, с трудом,
что тебя застрелили
немцы в сорок втором.
Нахожу и теряю —
нет, опять не узнал —
где той ночью тебя я
у ворот целовал.
И кладу я впервые
в этот памятный год
васильки полевые
возле каждых ворот.
Вспоминаю в июле,—
сердце, тише тоскуй! —
предрассветную пулю
и ночной поцелуй.
<1966>
Однажды я на берегу устало
листок стихотворенья уронил,
и море – всё – еще синее стало
от синевы размывшихся чернил.
Я обратился к морю с нетерпеньем,
остановившись в шумной тишине:
«Отдай назад мое стихотворенье,
зачем оно великой глубине?!»
И мне в ответ, как в старой сказке,
вскоре заметно потемнела синева.
«Я музыку пишу, – сказало море,—
мальчишка глупый, на твои слова».
<1966>
С БОЛГАРСКОГО
Людмил Стоянов
Летним днем по пути к перевалу
я иду непоспешно вперед.
Солнце словно бы лижет устало
теплых листьев светящийся мед.
Там в долине, внизу, на рассвете
миновал я поля и сады.
Улыбаясь, румяные дети
мне тащили в ручонках плоды.
А старик, по обличию строгий,—
я ему чуть заметно кивнул, —
пожелал мне удачной дороги
и в уснувших хлебах утонул.
Позабыть ли шалаш лесорубов,
что меня от ненастья укрыл?
Я был счастлив меж ними сугубо,
я счастливым воистину был!
Эти люди мне вроде чужие,
словно камень, песок и трава,
но остались в душе, как живые,
их повадки, движенья, слова.
Перевал перейду терпеливо
и туда опущусь налегке,
где колышутся желтые нивы
и белеет село вдалеке.
У ручья полевого присяду…
Но в моей отрешенности тут
эти образы милые кряду —
одиночество скрасить – пройдут.
Помню я все свиданья и встречи
на неближней дороге своей.
Я тянусь к человеческой речи, —
не могу, не могу без людей.
Там, где двое на поле соседнем
о заботах своих говорят,
я – хоть издали – их собеседник,
им обоим приятель и брат.
<1970>
С ВЕНГЕРСКОГО
Дьюла Ийеш
Пахарь пишет книгу жизни
в час рассвета.
Вся земля вокруг пошла
на книгу эту.
Ранним утром
борозду за бороздою
я читаю, словно
строку за строкою.
В первый раз за долгий век
батрак вчерашний
по своей, а не чужой
шагает пашне.
В первый раз идет работник
вслед за плугом,
как идут навстречу счастью
вслед за другом.
Два тяжелые быка
под солнцем мая
перед пахарем
торжественно шагают.
Два быка, как с братом брат,
шагая рядом,
огибают танк,
раскроенный снарядом.
Пусть стоит он со своей
разбитой башней,
словно память о войне,
на этой пашне.
Вольный пахарь
плугом землю подымает —
так народ свою
историю слагает.
<1948>
С МОНГОЛЬСКОГО
Сормууниргшийн Дашдооров
Каждый сквозь шум дождя,
как бы сквозь свет и тьму,
мимо него идя,
кланяется ему.
Осень – его пора.
В чудном избытке сил
осенью золотой
он очарован был.
Голову наклонив,
не поднимая глаз,
шелест ее ветвей
слушает он сейчас.
Мелкий московский дождь
медленно моросит.
Мокрый осенний лист
наискосок летит.
Счастлив я на земле
с ним под одним дождем:
дождь на его челе
и на лице моем.
<1966>
С ИСПАНСКОГО
Маркос Ана
Напомни мне, как выглядит дерево,
напомни, как щебечет река,
когда над нею носятся тысячи птиц?
Расскажи мне о влажном шуме моря,
о просторном аромате полей,
о звездах, о светящемся воздухе.
Объясни мне, правда ли, что горизонт
стоит без замочной скважины и без ключей,
как хижина бедняка?
А что такое поцелуй женщины?
Произнеси хоть какое-нибудь женское имя,—
я позабыл их все.
Неужели и теперь
там, за стеною, лунные ночи
пронизаны трепетом страсти?
Или, может быть, во всем мироздании
осталась только моя камера,
ее кладбищенский сумрак
и гробовое молчание каменных плит?
Двадцать два года…
Я забыл
объем, запах и цвет вещей.
Я пишу бессмысленные слова:
«море», «поле».
Я произношу слово «лес»,
но не помню геометрии дерева.
Я беззвучно называю людей и предметы,
которые каждый день тюремщики
выталкивают из моей памяти.
(Нельзя продолжать. Идет надзиратель.
Я слышу его шаги.)
<1962>
С БЕНГАЛЬСКОГО
Бишну Де
Шли банды по нивам индийской земли,
жгли хижины наши и нас убивали.
Но волю народа они не сожгли
и душу народную
не расстреляли.
Империя! Ты не жалела свинца,
железом и сталью восставших карала,—
так стали железными наши сердца,
так наша решимость железною стала.
Вдоль рек бенгалийских – стенанье и прах,
кружится зола над наделами пашен.
Взошла и созрела на нищих полях
лишь ненависть наша, да! – ненависть наша.
Мы этот большой урожай соберем
своими руками, своими серпами,
наполним им души и грозно пойдем
под знаменем мира на битву с врагами.
Мы вольную жизнь принесем матерям,
мы двери в грядущее счастье откроем:
недаром вы пели своим сыновьям
и песни голодных, и гимны героев.
Нетленны, нетленны и ткач, и батрак,
нетленно рабочее братство народа,
бессмертен горшечник, и вечен рыбак,
и вечной любовью мы любим свободу.
<1949>
ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ
Последовательность вариантов соответствует порядковым номе рам стихов в произведении. После номера строк указывается источник варианта; если он не указан, значит, источник тот же, что и в предыдущем случае.
2
После 28 Ог., С-1
И песня дрожит, отряхается гордо,
Она жива и тверда, как конь,
И песня лодкой плывет над городом,
Акробатом хватается за балкон.
После 88
Быт его душит, мешает жить,
Мешает вставать поутру.
Закрыты глаза: и он видит – лежит
Жены окровавленный труп,
Мухи сидят на ее лице,
(«И жизнь разбита, как пьяный бокал»).
Такой он врывается утром в цех,
Такой он ломает вал.
Он сам не свой и не наш. Он объят
Пожаром зеленой тоски.
Он кончит работу. И видит себя
В центре черной доски.
Он прется в пивную. Ошпаренный рак
Ломается, будто валик.
Он пьян, он бушует, он бесится. Так
Кончается старый ударник.
Неправда! Постой, обожди. Ерунда!
Не может этого быть,
Неправда, что выхода нет, что быт
Будет мешать всегда.
После 136 С-1
Рубахи твои будут в прачечных мыть,
В котлах, кислотою умытых.
Товарищ, иди и встречай новый быт,
Идущий на смену старому быту.
6
После 58 МГ, РиЛ-1, «Оборона», Д, С-2, Избр-3, т. 2,Счастье
Он раньше шатался, пятнистый страх,
вонявший казенным вином,
он бил мои зубы, кричал «ура»
а звался родным отцом.
7
1–4 Ог., РиЛ-1 «За Магнитострой литературы», С-2, Счастье
Ты умер. Ты, привыкший жить
за сорок с лишним лет.
«За Магнитострой литературы», С-2, Счастье
Лежишь в гробу, молчишь в гробу,
готовишься к земле.
После 20 Ог., РиЛ-1, С-2, Счастье
В окно врывается закат,
И за окном – река.
С водой и солнцем пополам
приходит лирика.
После 24 Ог., РиЛ-1,С-2, Счастье
Плывет на лодках по реке
московская любовь.
И высоко невдалеке
взлетает волейбол.
По скверу розовый старик
проносит карасей,
бегут ребята. И летит
кривая карусель.
После 48 Ог., РиЛ-1, «За Магнитострой литературы», С-2, Счастье
Твой опыт множится на нас
и двигает вперед.
И целый цех, и целый класс
на всей земле живет.
После 56
И с ним пройдем сквозь гром и дым,
учебу и войну.
И выдержим. И не сдадим
Нигде. И никому.
8
После 4 РиЛ-1, Ог., «За Магнитострой литературы», Д
И ветер, как будто небритый вор,
влезает в форточку, а потом
он бьется в окно, он стреляет в упор,
он обнимает облупленный дом.
После 60
Один этот думает, изобретает,
реконструируется, растет.
В одном этом кровь молодая играет,
в одном этом вводится хозрасчет.
После 86
Вы ходите ночью, смешны и нежны,
врываясь в чужие обители.
И в это же время стране нужны
слесари и строители.
9
После 56 «Писатели – великому Октябрю»
Я слышу. И хоть мне грустно
И голос тоски высок
Мой смех залетает в небо
И падает на песок.
Я молод. И мне не страшно,
И мне неповадно выть.
Любимая! Я не смею
Такую тебя любить.
После 84
И вечером откровенным,
В присутствии стада коров
Я слышу, как бегает в венах
Твоя настоящая кровь.
После 112 «Писатели – великому Октябрю» РиЛ-1
И муж твой, сидящий в Главкоже,
Садящийся в автомобиль,
Работой своей поможет
Твоей и моей любви.
11
После 39 ЛГ, РиЛ-1, Д, С-2
Он стоял за бочками и быстро
улыбался заспанным девчонкам,
наливая по четыре литра
чуть холодноватого огня.
15
После 16 «Литературный Донбасс»
Не для этого ты песни пела.
Для того ли пробовал запеть,
Чтоб сойти. И, ничего не сделав,
Ничего не видев, умереть.
16
После 81 С-2
Мы еще не жили,
А уж нас разводят,
А уж нам сказали:
«Пожили.
Пора».
Мне передавали,
Что с тобою ходят,
Нагло улыбаясь,
Наши фраера.
17
После 75 ЛГ, Д, С-2
Мимо церкви,
Сбоку потных
Некрасивых стариков,
Мимо сумрачных животных
И железных петухов.
После 80
Ты идешь, большой и рыжий,
Посреди косых углов,
Рядом с яблоками,
Ниже
Желтых крыш, травы на крыше,
Звезд, еще невнятных.
Выше
Огородов и лугов.
После 118
Между прочим, вечерело,
Стали лампы зажигать,
Есть картошку, обжигаясь,
Говорить
И засыпать,
Не ответив,
Одеяла
Не успев перевернуть.
Ты присел на камень.
Салом
Закусил. И снова в путь.
После 149
(Было ль время износиться
Той рубахе голубой,
Где сиреневая птица
Нарисована тобой).
После 157
Только тихо. Стали липы,
Тень висит у хомута.
Да заденет нудным скрипом
Нежилая темнота.
После 223
Мир холодный принимая
За простой и голубой,
Вышла девочка худая
И смеется над водой.
Мир осенний принимая,
Переделывая мир,
Чинит сбрую у сарая
Рыжеватый бригадир.
18
Вместо 18 ЛГ, Счастье
Там еще
Остается слева,
Годовавшая
Сыновей,
Мать Димитрова —
Параскева.
Славьте, юноши, матерей!
Но еще остается упорство
Тех,
Что злобу свою хранят.
Путь к строителям
Магнитогорска
От строителей
Баррикад.
Это мы понимаем сами.
45–48
Не заметив
Закат отверстый
И не в силах
Глядеть назад.
После 60
Мы встречаем тебя
Обетом,
Грузной музыкой
Наших дней.
Не мешают
Играть квартетам
Барабаны
Моих друзей.
После 84
Если я
По привычке давней
Не приучен в литавры бить,
Если я заикаюсь,
Когда мне
Страшно хочется
Говорить.








