Стихотворения и поэмы
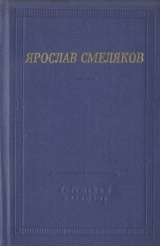
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
201. ИВАН КАЛИТА
Сутулый, худой, бритолицый,
уже не боясь ни черта,
по улицам зимней столицы
иду, как Иван Калита.
Слежу, озираюсь, внимаю,
опять начинаю, сперва,
и впрок у людей собираю
на паперти жизни слова.
Мне эта работа по средствам,
по сущности самой моей;
ведь кто-то же должен наследство
для наших копить сыновей.
Нелегкая эта забота,
но я к ней, однако, привык:
их много, теперешних мотов,
транжирящих русский язык.
Далеко до смертного часа,
а легкая жизнь не нужна.
Пускай богатеют запасы,
и пусть тяжелеет мошна.
Словечки взаймы отдавая,
я жду их обратно скорей,
недаром моя кладовая
всех нынешних банков полней.
1966
202. РИХАРД ЗОРГЕ
Почти перед восходом солнца,
весь ритуал обговоря,
тебя повесили японцы
как раз Седьмого ноября.
В том зале, выстроенном ловко,
ни митинга, ни кумача,
ты сам надел свою веревку,
не ожидая палача.
Но час спустя над миллионной
военно-праздничной Москвой
склонились красные знамена,
благословляя подвиг твой.
И трубы сводного оркестра
от Главной площади земли
до той могилы неизвестной,
грозя и плача, дотекли.
1966
203. ДЕНИС ДАВЫДОВ
Утром вставя ногу в стремя,—
ах, какая благодать! —
ты в теперешнее время
умудрился доскакать.
(Есть сейчас гусары кроме:
наблюдая идеал,
вечером стоят на стреме,
как ты в стремени стоял.
Не угасло в наше время,
не задули, извини,
отвратительное племя:
«Жомини да Жомини».)
На мальчишеской пирушке
в Царском – чтоб ему! – селе
были вы – и ты и Пушкин —
оба-два навеселе.
И тогда тот мальчик черный,
прокурат и либерал,
по-нахальному покорно
вас учителем назвал.
Обождите, погодите,
не шумите – боже мой! —
раз вы Пушкина учитель,
значит, вы учитель мой.
1966
204. КОММУНИСТ
Я не длинно, не пространно —
мне задача по плечу —
рассказать, кто Маркос Ана,
всем читателям хочу.
А скажу я в этой строчке —
это вовсе не секрет, —
что провел он в одиночке
чуть не ровно двадцать лет.
Не в истерике-обиде,
не в безумстве, а в уме,
в дальнем городе Мадриде —
в государственной тюрьме.
Мне товарищи сказали,
не совру я потому,
что, когда его сажали,
шел шестнадцатый ему.
И мальчишка храбрый этот,
отбывая страшный срок,
в одиночке стал поэтом
первоклассным – видит бог!
Опускаю все детали,
весь подсобный интерес…
К нам его в Москву послали
на какой-то там конгресс.
В кулуарах было дело,
Я с ним рядышком стоял,
и газетчик с нас умело
фотографию снимал.
Я назавтра без нагрузки —
не для праздной чепухи —
из испанского на русский
перевел его стихи.
Перевел их с честным жаром,
по таланту своему —
никакого гонорара
и ни мне, и ни ему.
Я ему их почитаю:
набираю телефон,
мне дежурный отвечает,
что уже уехал он.
Я справляюсь аккуратно
и окольно узнаю,
что уехал он обратно
в ту Испанию свою.
Не за славой и почетом,
не к издательствам большим —
на партийную работу
коммунистом рядовым.
Снова будут забастовки,
снова жизнь как есть сама,
прокламации, листовки
и мадридская тюрьма.
Ни жены, ни денег нету,
только дело на уме.
Вот какие те поэты,
что рождаются в тюрьме.
1966
205. НИКО ПИРОСМАНИ
У меня башка в тумане,—
оторвавшись от чернил,
вашу книгу, Пиросмани,
в книготорге я купил.
И ничуть не по эстетству,
а как жизни идеал,
помесь мудрости и детства
на обложке увидал.
И меня пленили странно —
я певец других времен —
два грузина у духана,
кучер, дышло, фаэтон.
Ты, художник, черной сажей,
от которой сам темнел,
Петербурга вернисажи
богатырски одолел.
Та актерка Маргарита,
непутевая жена,
кистью щедрою открыта,
всенародно прощена.
И красавица другая,
полутомная на вид,
словно бы изнемогая,
на бочку своем лежит.
В черном лифе и рубашке,
столь прекрасная на взгляд,
а над ней порхают пташки,
розы в воздухе стоят.
С человечностью страданий
молча смотрят в этот день
раннеутренние лани
и подраненный олень.
Вы народны в каждом жесте
и сильнее всех иных.
Эти вывески на жести
стоят выставок больших.
У меня теперь сберкнижка —
я бы выдал вам заем.
Слишком поздно, поздно слишком
мы друг друга узнаем.
1966
206. КОМИССАРЫ
Вы, отдав жизнь одной идее
преображения земли,
ушли из армии в музеи,
в тома истории ушли.
И я гляжу с любовью тяжкой,
как ветер вьется фронтовой
над прибалтийскою тельняшкой
и перекопской кобурой.
Но даже с фотографий старых,
на фоне выцветших знамен,
вы речь ведете, комиссары
непререкаемых времен.
И полпланеты утром мая,
когда кружится голова,
за вами громко повторяет
тогдашних митингов слова.
1966
307. ДОЛОРЕС
Московских улиц мирный житель,
уже не молод и устал,
я Вас – Вы это мне простите —
ни разу в жизни не видал.
Но Ваше имя, Ибаррури,
с которым я в то время рос,
летело яростно, как буря
из-под светящихся колес.
Мы громогласно повторяли,
мальчишки сопредельных стран,
на каждой площади и в зале:
«Но пасаран! Но пасараи!»
Жгли душу горечь и обида
и даже словно бы вина.
Но ведь падением Мадрида
та не закончилась война.
Не Ваш ли сын под Сталинградом,
кончаясь от немецких ран,
шептал с уже померкшим взглядом:
«Но пасаран! Но пасаран!»
Как Вы когда-то заклинали,
в тяжелом гуле фронтовом
мы устояли, устояли.
Стоим,
как прежде,
на своем.
И, ни на шаг не отступая,
перед лицом враждебных стран
мы всенародно утверждаем:
«Но пасаран! Но пасаран!»
1966
208. В ДОМЕ ЧАПЕКА
1
Я не забуду домик этот,
весь деловой его уют,—
так строят жизнь свою поэты,
и так мыслители живут.
На полках пьесы и рассказы.
Цветы.
Но более всего
меня обрадовала сразу
та фотография его,
где он с тяжелою лопатой,
неотутюжен, непобрит,
как сельский житель небогатый,
меж грядок собственных стоит.
Есть люди, что, не без уменья
в купе устроивши багаж,
глядят с жантильным умиленьем
на пролетающий пейзаж.
Но любит только тот природу
и только тот ее познал,
кто спину гнул над огородом
и глину скудную копал.
2
Интересуясь местным бытом,
я всё примеривал к себе.
В саду у Чапека прибита
кормушка птичья на столбе.
И надо ж было так случиться,
что я узнал под тем столбом,
что те же самые синицы
летают за моим окном.
И так же живо хлопотушки,
с таким же тщанием, как тут,
из зимней маленькой кормушки
на ветви семечки несут.
Такие же, сквозь солнце, тучи,
такой же сад, такой же вход.
Вот только разве что получше
писал большой писатель тот.
3
Те люди, что его читали не так,
что лишь бы что читать,
в подарок Чапеку прислали
резную детскую кровать.
Я перед нею скинул кепку
и помню здорово досель
ту деревянную колебку,
колыску или колыбель.
Ведь все мы вышли в самом деле
весенним или зимним днем
из деревянной колыбели
и в гроб из дерева уйдем.
И лишь задача та отдельна,
как путь пройти достойно свой
от первой песни колыбельной
до панихиды гробовой.
1966
209. СОЛДАТ И БАТРАЧКА
В белорусской деревне
лет сорок примерно назад
жили-были батрачка
и пленный австрийский солдат.
У солдата чужого
понятно что жизнь не легка:
нет сохи для хозяйства
и нет для атаки штыка.
И она-то, батрачка,
ничуть не богаче была:
ни двора, ни колодца,
ни – хоть бы для смеху – козла.
Но зато эта девка
в скитаниях долгих своих
нахваталась словечек
и всяких идей городских.
Да и он, хоть для виду
таился на первых порах,
научился чему-то
на русско-германских фронтах.
И хотя перед каждым
австрийскую шапку снимал,
что-то все-таки думал
и что-то свое понимал.
Вскоре так получилось
в те, еще доколхозные, дни,
что без свадебных песен
устроили свадьбу они.
Помощь им полагалась,
и нехотя им помогли:
дали бедную хатку
и полдесятины земли.
Для кулацкой деревни,
притихшей средь тучных полей,
было это семейство
любых ревизоров страшней.
Те приедут, посмотрят,
завалятся, выпимши, спать
и в своей таратайке
отправятся в город опять.
А вот эти-то, наши,
как словно бы будущий суд,
всё, до зернышка, знают
и всё, до поры, стерегут.
Это всё полбеды,
а беда из того состоит,
что советское время
за этим семейством стоит.
Их-то можно купить
или тихо помочь им пропасть, —
не убьешь и не купишь
большую советскую власть.
Из далекой столицы
в избенку безвестную ту
стали им присылать —
для поддержки души – «Бедноту».
А потом они сами —
ни совести нет, ни стыда —
отправляли открыто
статейки-идейки туда.
Если кто не поверит
в перо грамотеев таких,
пусть в той старой газете
посмотрит на подписи их.
Пусть в газетной подшивке
за тот позабывшийся год
их статейки-затейки
о будущем нашем прочтет.
Под соломенной крышей,
вернувшись в потемках с работ,
стал у них собираться
какой-то неверный народ.
Нет приказа еще,
не прислали еще директив,
но сплотился уже
молодой деревенский актив.
То еще не колхоз,
до колхоза еще погоди,
но уже он мерцает,
наш завтрашний день, впереди.
Если кто сомневается
в силе актива того —
пусть посмотрит на землю
хотя б из окна своего.
1966
210. СОСЕД
Здравствуй, давний мой приятель,
гражданин преклонных лет,
неприметный обыватель,
поселковый мой сосед.
Захожу я без оглядки
в твой дощатый малый дом.
Я люблю четыре грядки
и рябину под окном.
Это всё весьма умело,
не спеша поставил ты
для житейской пользы дела
и еще для красоты.
Пусть тебя за то ругают,
перестроиться веля,
что твоя не пропадает,
а шевелится земля.
Мы-то знаем, между нами,
что вернулся ты домой
не с чинами-орденами,
а с медалью боевой.
И она весьма охотно,
сохраняя бравый вид,
вместе с грамотой почетной
в дальнем ящике лежит.
Персонаж для щелкоперов,
Мосэстрады анекдот,
жизни главная опора,
человечества оплот.
Я, об этом забывая,
не стесняюсь повторить,
что и сам я обываю
и еще настроен быть.
Не ваятель, не стяжатель,
не какой-то сукин сын —
мой приятель, обыватель,
непременный гражданин.
1966
211. КАМЕРНАЯ ПОЛЕМИКА
Одна младая поэтесса,
живя в достатке и красе,
недавно одарила прессу
полустишком-полуэссе.
Она, отчасти по привычке
и так как критика велит,
через окно из электрички
глядела на наружный быт.
И углядела у обочин
(мелькают стекла и рябят),
что женщины путей рабочих
вдоль рельсов утром хлеб едят.
И перед ними – случай редкий,
всем представленьям вопреки,—
не ресторанные салфетки,
а из холстины узелки.
Они одеты небогато,
но всё ж смеются и смешат.
И в глине острые лопаты
средь ихних завтраков торчат.
И поэтесса та недаром
чутьем каким-то городским
среди случайных гонораров
вдруг позавидовала им.
Ей отчего-то захотелось
из жизни чуть не взаперти,
вдруг проявив большую смелость,
на ближней станции сойти
и кушать мирно и безвестно —
почетна маленькая роль! —
не шашлыки, а хлеб тот честный
и крупно молотую соль.
…А я бочком и виновато
и спотыкаясь на ходу
сквозь эти женские лопаты,
как сквозь шпицрутены, иду.
1966
212. НИКОЛАЙ СОЛДАТЕНКОВ
Наглотавшись вдоволь пыли
в том году сорок втором,
мы с тобою жили-были
в батальоне трудовом.
Ночевали мы на пару
недалеко под Москвой
на дощатых голых нарах,
не перине пуховой.
Как случайные подружки
в неприветливом дому,
ненавидели друг дружку
по укладу, по уму.
Но когда ты сам, с охотой,
еле сдерживая пыл,
чтоб работалась работа,
электродиком варил,
ах, когда ты, друг любезный
(за охулку не взыщи),
кипятил тот лом железный,
как хозяечка борщи,
как хозяюшка России,
на глаза набрав платок,
чтобы очи ей не выел
тот блестящий кипяток, —
я глядел с любовной верой,
а совсем не напоказ,
как Успенский пред Венерой, —
прочитай его рассказ.
Надо думать, очевидно,
выпивоха и нахал,
ты меня тайком, солидно
за работу уважал,—
если, тощий безобразник
(ты полнее вряд ли стал),
мне вчера, как раз под праздник,
поздравление прислал.
1966
213. «Кто – ресторацией Дмитраки…»
…И в ресторации Дмитраки
Шампанским устриц запивать.
Кто – ресторацией Дмитраки,
кто – тем, как беспорочно жил,
а я умом своей собаки
давно похвастаться решил.
Да всё чего-то не хватало:
то приглашают на лото,
то денег много или мало,
то настроение не то.
Ей ни отличий, ни медалей
за прародителей, за стать
еще пока не выдавали,
да и не будут выдавать.
Как мне ни грустно и ни тяжко,
но я, однако, не совру,
что не дворянка, а дворняжка
мне по душе и ко двору.
Как место дружеской попойки
и зал спортивный для игры
ей все окрестные помойки
и все недальние дворы.
Нет, я ничуть не возражаю
и никогда не возражал,
что кровь ее не голубая,
хоть лично сам не проверял.
Но для меня совсем не ново,
что в острой серости своей
она не любит голубого —
ни голубиц, ни голубей.
И даже день назад впервые
пижону – он не храбрым был —
порвала брюки голубые.
И я за это уплатил.
Потом в саду непротивленья,
как мой учитель Лев Толстой,
ее за это преступленье
кормил копченой колбасой.
1966
214. ВОРОБЫШЕК
До Двадцатого до съезда
жили мы по простоте —
безо всякого отъезда
в дальнем городе Инте.
Там ни дерева, ни тени,
ни песка на берегу —
только снежные олени
да собаки на снегу.
Но однажды в то окошко,
за которым я сидел,
по наитью и оплошке
воробьишка залетел.
Небольшая птаха эта,
неказиста, весела
(есть народная примета),
мне свободу принесла.
Благодарный честно, крепко,
спозаранку или днем
я с тех пор снимаю кепку
перед каждым воробьем.
Верю глупо и упрямо,
с наслажденьем правоты,
что повсюду тот же самый
воробьишка из Инты.
Позабылось быстро горе,
я его не берегу,
а сижу на Черном море,
на апрельском берегу…
Но и здесь, как будто дома,—
не поверишь, так убей! —
скачет старый мой знакомый,
приполярный воробей.
Бойко скачет по дорожке,
славословий не поет
и мои – ответно – крошки
по-достойному клюет.
1966
215. ХАШИ В БАТУМИ
Безрассудно, словно дети, —
что нам резкий поворот? —
на вершину на рассвете
Заурбек меня везет.
Из тумана гор не видно,
но на кухне у огня
здесь уже сидят солидно
грузчики и шоферня.
На вершине спозаранку,
как бы солнечный восход,
мне одна официантка
миску круглую несет.
Не кондитеров изделья,
не диетные супы,
а духана рукоделье
с крепким привкусом толпы.
По моей гражданской воле —
не дрожи, моя рука! —
сам я сыплю много соли
и побольше чеснока.
Съел я ложкой миску хаши,
возвратился и уснул.
Словно из народной чаши
по-приятельски хлебнул.
1966
216. АННА АХМАТОВА
Не позабылося покуда
и, надо думать, навсегда,
как мы встречали Вас оттуда
и провожали Вас туда.
Ведь с Вами связаны жестоко
людей ушедших имена:
от императора до Блока,
от Пушкина до Кузмина.
Мы ровно в полдень были в сборе
совсем не в клубе городском,
а в том Большом морском соборе,
задуманном еще Петром.
И все стояли виновато
и непривычно вдоль икон —
без полномочий делегаты
от старых питерских сторон.
По завещанью, как по визе,
гудя на весь лампадный зал,
сам протодьякон в светлой ризе
Вам отпущенье возглашал.
Он отпускал Вам перед богом
все прегрешенья и грехи,
хоть было их не так уж много:
одни поэмы да стихи.
1966
217. ЭЛЕГИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Вам не случалось ли влюбляться —
мне просто грустно, если нет,—
когда вам было чуть не двадцать,
а ей почти что сорок лет?
А если уж такое было,
ты ни за что не позабыл,
как торопясь она любила
и ты без памяти любил.
Когда же мы переставали
искать у них ответный взгляд,
они нас молча отпускали
без возвращения назад.
И вот вчера, угрюмо, сухо
войдя в какой-то малый зал,
я безнадежную старуху
средь юных женщин увидал.
И вдруг, хоть это в давнем стиле,
средь суеты и красоты
меня, как громом, оглушили
полузабытые черты.
И к вам идя сквозь шум базарный,
как на угасшую зарю,
я наклоняюсь благодарно
и ничего не говорю,
лишь с наслаждением и мукой,
забыв печали и дела,
целую старческую руку,
что белой ручкою была.
1966
218. НАДПИСЬ НА «ИСТОРИИ РОССИИ» СОЛОВЬЕВА
История не терпит суесловья,
трудна ее народная стезя.
Ее страницы, залитые кровью,
нельзя любить бездумною любовью
и не любить без памяти нельзя.
1966
219. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОСТ
Сулейману Рустаму
Не глядя в небо голубое,
не наблюдая красоту,
стоим – по пропуску – с тобою
на Государственном мосту.
Под нами медленно струится
и поперек и вдоль реки
одна державная граница
земле и небу вопреки.
Тебе, понятно, не до позы,
совсем тебе не просто тут.
И только слезы, только слезы
вдоль щек невидимо текут.
Ты их стираешь кулаками.
Твоя родная сторона
и пулеметом и штыками
на две страны разделена.
И прячу я глаза косые.
Ведь так же трудно было б мне,
когда бы часть моей России
в чужой лежала стороне.
Хотя ты ближе стал отныне,
я праздных слов не изреку.
…Весенней ночью на машине
мы возвращаемся в Баку.
1966
220. ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК
Повторяются заново
давние даты,
мне до пенсии
только рукою подать,
но сегодня,
как в детстве,
ушедшем куда-то,
в пионеры
меня
принимают опять.
Ты, девчурочка русская
в кофточке белой,
на украшенной сцене
в саду заводском
завязала на шее моей
неумело
галстук детства и мужества
красным узлом.
И теперь я обязан
на поприще чистом
не ссылаться на старость,
не охать,
не ныть —
быть всё время,
до смертного полдня,
горнистом,
барабанщиком
нашего времени
быть.
Помню воздух,
насыщенный праздником света,
слышу туш оркестрантов,
уставших играть.
…Не могу я
доверие девочки этой
хоть едва обмануть,
хоть чуть-чуть осмеять.
1966
221. ПОЭТ
Дымятся и потеют лица,
гетеры старые снуют,
и гладиатор и патриций
из толстых кружек пиво пьют.
Еще пока никто не знает,
ни исполком, ни постовой,
что эта жалкая пивная
уже описана тобой.
Что эта вывеска и стены,
и ночью сторож вдоль пути
сойдут с провинциальной сцены,
чтобы в Историю войти.
1966
222. СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ФОТОАТЕЛЬЕ
Живя свой век грешно и свято,
недавно жители земли,
придумав фотоаппараты,
залог бессмертья обрели.
Что – зеркало?
Одно мгновенье,
одна минута истекла,
и веет холодом забвенья
от опустевшего стекла.
А фотография сырая,
продукт умелого труда,
наш облик точно повторяет
и закрепляет навсегда.
На самого себя не трушу
глядеть тайком со стороны.
Отретушированы души
и в список вечный внесены.
И после смерти, как бы дома,
существовать доступно мне
в раю семейного альбома
или в читальне на стене.
1966
223. СТИХИ, НАПИСАННЫЕ НА ПОЧТЕ
Здесь две красотки, полным ходом
делясь наличием идей,
стоят за новым переводом
от верных северных мужей.
По телефону-автомату,
как школьник, знающий урок,
кричит заметно глуховатый,
но голосистый старичок.
И совершенно отрешенно
студент с нахмуренным челом
сидит, как Вертер обольщенный,
за длинным письменным столом.
Кругом его галдит и пышет
столпотворение само,
а он, один, страдая, пишет
свое заветное письмо.
Навряд ли лучшему служило,
хотя оно уже старо,
входя в казенные чернила,
перержавелое перо.
То перечеркивает что-то,
то озаряется на миг,
как над контрольною работой
отнюдь не первый ученик.
С той тщательностью, с тем терпеньем
корпит над смыслом слов своих,
как я над тем стихотвореньем,
что мне дороже всех других.
1966
224. «Бывать на кладбище столичном…»
Бывать на кладбище столичном,
где только мрамор и гранит,—
официально и трагично,
и скорбно думать надлежит.
Молчат величественно тени,
а ты еще играешь роль,
как тот статист на главной сцене,
когда уже погиб король.
Там понимаешь оробело
полуничтожный жребий свой…
А вот совсем другое дело
в поселке нашем под Москвой.
Так повелось, что в общем духе
по воскресеньям утром тут,
одевшись тщательно, старухи
пешком на кладбище идут.
Они на чистеньком погосте
сидят меж холмиков земли,
как будто выпить чаю в гости
сюда по близости зашли.
Они здесь мраморов не ставят,
а – как живые средь живых —
рукой травиночки поправят,
как прядки доченек своих.
У них средь зелени и праха,
где всё исчерпано до дна,
нет ни величия, ни страха,
а лишь естественность одна.
Они уходят без зазнайства
и по пути не прячут глаз,
как будто что-то по хозяйству
исправно сделали сейчас.
1966
225. В БОЛГАРСКОМ ГОРОДКЕ
Сюда, где гулом постоянным
насыщен вдоволь бедный зал,
из интуристских ресторанов
я убежденно убежал.
Там всё приборы да проборы,
манишек блеск и скатертей —
всё это мне никак не впору,
не по симпатии моей.
А тут, жуя и торжествуя,
как в царстве малом и родном,
отлично время провожу я
за плохо прибранным столом.
Сюда любые лица вхожи:
вот плотник, весел и небрит,
складной аршин, как герб вельможи,
из куртки старенькой торчит.
С ужасным перцем суп горячий
глотает жадно паренек.
В его подсумке обозначен
не для забавы молоток.
А ты, сосед с лицом убитым,
не погибай из-за любви.
Прекрасен твой пиджак из твида
и брюки белые твои.
Твоя подружка, может статься,
к тебе воротится опять, —
не надо глупо упиваться,
уж лучше глупо уповать.
Вон там, стаканы поднимая
за нашу жизнь, за наши дни,
шумит компания хмельная.
Шуми, компания, шуми!
Здесь чуть не все друг дружку знают,
тут шутки общие, свои.
И между стульями порхают,
как на бульваре, воробьи.
1966
226. ПРОЩАЛЬНАЯ ЛЕНТА
Ленты медленно и быстро
в мокром воздухе летят
с нашей палубы на пристань
и оттудова назад.
Их берут на расстоянье,
ловят их над головой,
превращая расставанье
в некий праздник портовой.
Вот еще их больше стало, —
только ленты, как во сне.
Мне уж вовсе не пристало
оставаться в стороне.
Но средь бестолочи этой
провожающих людей
у меня, к несчастью, нету
ни знакомых, ни друзей.
…Я совсем не знаю – кто ты,
но ручаюсь целиком,
что лицо такой работы
надо делать топором.
Эти лица не ваяют,
с тонкой кистью не корпят,
а наотмашь вырубают —
так, что щепочки блестят.
Потому-то в час отхода,
колебаний не любя,
я из общего народа
выбрал именно тебя.
И в порту Иокогамы,
чтоб меня не позабыл,
я тебе, как телеграмму,
ленту длинную пустил.
Вот она неотклоненно,
хоть дождем мерцала мгла,
сквозь намокшие знамена
в руку сильную вошла.
Был я счастлив на причале
тем, что мы, как два юнца,
с наслаждением держали
этой ленты два конца.
Нам обоим ясно было,
что под небом облаков
нас она соединила
не для праздных пустяков.
Умиляться я не стану,
это стиль никак не мой.
Через волны океана
я ее везу домой.
1966








