Стихотворения и поэмы
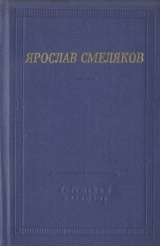
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
252. ПЕЙЗАЖ У ОКНА
Безмятежна и нежна,
как-то непривычно
под окном стоит сосна
местности больничной.
По утрам, пока темно,
и при солнце знойном
на нее гляжу в окно
прямо и достойно.
Променяв свое жилье
на бивак палатный,
пью спокойствие ее
даром и бесплатно.
В синем мареве снегов
нашу зыбкость чуя,
лучше всяких докторов
нас она врачует.
В тишине ее ветвей,
словно бы с наброска,
приютилась рядом с ней
слабая березка.
Красный лозунг кумача,
птиц бесшумных стая.
Белый ситец и парча,
солнцем залитая.
Подвенечная свеча,
риза золотая.
1967
253. НОЧНОЙ СОН
По плечу видать – силен
отрок загорелый.
Черный волос лезет вон
из сорочки белой.
Смуглолиц и горбонос,
выделан как надо,
только глаз недобро кос,
в речи нету склада.
Но когда огонь прикрыт
в угловой палате —
как он спит! Ах, как он спит
на своей кровати!
Как для ссыльного орла,
помнящего горы,
та кровать ему мала,
плохо без простора.
Словно сделав два шага
на пути к разлуке,
остановлена нога,
распростерты руки.
Точно громкие слова
между оробелых,
затерялась голова
средь подушек белых.
И видны издалека
простынь с одеялом,
словно луг и облака,
ливень и обвалы.
Мир вокруг заклокотал,
небо повернулось.
Так бы, верно, Демон спал,
если бы заснулось.
1967
254. Я ОТСЮДОВА УЙДУ
Я на всю честную Русь
заявил, смелея,
что к врачам не обращусь,
если заболею.
Значит, сдуру я наврал
или это снится,
что и я сюда попал,
в тесную больницу?
Медицинская вода
и журнал «Здоровье».
И ночник, а не звезда
в самом изголовье.
Ни морей и ни степей,
никаких туманов,
и окно в стене моей
голо без обмана.
Я ж писал, больной с лица,
в голубой тетради
не для красного словца,
не для денег ради.
Бормочу в ночном бреду
фельдшерице Вале:
«Я отсюдова уйду,
зря меня поймали.
Укради мне – что за труд?! —
ржавый ключ острожный».
Ежели поэты врут,
больше жить не можно.
1967
255. ДВЕ СОБАЧЬИ МОРДЫ
Пусть я тронутый на треть
и в уме нетвердый,
но желаю лицезреть
две собачьи морды.
Больше женщин и юнцов —
близких исключая —
я своих прекрасных псов
увидать желаю.
Я б прикидывать не стал,
а единым духом
ту ложбинку почесал
за собачьим ухом.
А они – и тот, что млад,
и заматерелый —
указаний не хотят,
знают сами дело.
Сами знают, что сказать,
лая между прочим,
и от радости визжать
из последней мочи.
Я пришел из тех гостей,
из таковской бражки,
где ни мяса, ни костей —
киселек да кашки.
Я вам вместе, пес и пес,
из палаты жаркой
никакого не принес
малого подарка.
…Не желаю порошков
и пилюль снотворных,
а хочу собачьих псов,
сильных, непритворных.
1967
256. МУЖИЦКИЕ ПИСЬМА
А я вот довольно зависим
и вряд ли чего бы достиг
без дедовских медленных писем,
без смысла крестьянского их.
Всё было бы только притворство,
я сам ничего бы не смог,
когда бы в свое стихотворство
не внес доморощенный слог.
Издержки и таинства стиля
ничуть не стараюсь избыть, —
да, мы его дома растили,
а где его надо растить?
Негромкое строчек движенье
для тех, кто в чужой стороне,
наполнено всё уваженьем
ко всей – поименно – родне.
Писал их в далекое время
в деревне заштатной своей
по главной прижизненной теме
я самый как раз грамотей.
Но все-таки стиль создавали,
пока он таким вот не стал,
все те, что тогда диктовали,
а я только просто писал.
1967
257. СЕРДЦЕ
Если мир треснет, трещина пройдет через сердце поэта.
Генрих Гейне
Мир был разъят и обесчещен,
земля крутилась тяжело.
Ах, сколько их, тех самых трещин,
по сердцу самому прошло!
Оно еще живет покуда
и переваривает быт,
но, словно с трещиной посуда,
веселым звоном не звенит.
Оно еще стучит неплохо,
в нем не совсем погаснул жар;
оно годится твой, эпоха,
последний выдержать удар.
1967
258. НОЧЬ В ПЕРЕУЛКЕ
Как в сказочной шкатулке,
похожий на ханжу,
в токийском переулке
томительно хожу.
Сначала по закону
не видно здесь ни зги —
лишь трубочки неона
да синие круги.
Потом идут хмельные,
храня приличный тон,
и пахнет, как в России,
японский самогон.
Таким же самым духом
насыщена до слез
горбатая старуха
с торговлишкой вразнос:
как Ноева семейка,
воркуют и гремят
лягушечки и змейки
и мордочки тигрят.
Японские иены
и русский аппетит.
Как жирная гиена,
старушечка глядит.
Сдержаться не умею:
на гибель на свою,
заранее бледнея,
я в руки взял змею.
Исчерпан и исперчен
торговый интерес:
змея из гуттаперчи,
да я-то из телес.
Для оргии дальнейшей
не годен мой талант:
опасны эти гейши
и страшен хиромант.
Он, красный весь и синий,
на грани бытия.
Ведь в сонме этих линий
есть линия моя.
Сейчас я всё узнаю сквозь
сказочную тьму.
Но всё же не гадаю,
наверно, понимая,
что это ни к чему.
1967
259. НА РОДИНЕ НИКОЛАЯ ВАПЦАРОВА
Перо мое не в чернилах, а в крови…
Николай Вапцаров
Собравшись как-то второпях,
не расспросивши никого,
мы у Вапцарова в гостях,
в квартире маленькой его.
Уже прошло немало лет,
давно то время вдалеке,
когда явился нам поэт
на нашем русском языке.
Как подобает, прибран дом,
и свет в окошках золотой,
но что-то странное кругом,
какой-то воздух неживой.
На полке книги так стоят
от корешка до корешка,
как будто много дней подряд
не прикасалась к ним рука.
И непонятна нам сперва
еще особенность и та,
что не горят никак дрова,
не раскаляется плита.
Пол по-музейному блестит,
официальна тишина,
и, как на сцене, говорит
трагичным шепотом жена.
Я вроде суеверным стал,
чего на ум-то не придет?
Хозяин сильно запоздал,
домой, наверно, не придет.
Уж много лет тому назад
его прикончили враги.
По лестнице не прозвучат
его спешащие шаги.
Его напрасно не зови,
а лучше подойди к бюро:
оно и вправду всё в крови,
его поэзии перо.
1967
260. ВСЕ НЫНЧЕ ПИШУТ О СВЕТЛОВЕ
Все нынче пишут о Светлове,
и я, хоть классиком не стал,
но что-то вроде предисловья
к его собранью написал.
Все с ним в пивных глушили кружки,
все целовались с ним спьяна,
нашлись и грешные подружки,
и непорочная жена.
Над незажившею могилой
двенадцать месяцев подряд
они болтают в общем мило
и со старанием острят.
Так что же, может, я ревную
или завидую ему,
ушедшему в страну иную,
в ту, как в соборе, золотую,
полусветящуюся тьму?
Нет. Ведь у нас одна дорога,
за ним иду в разведку я —
от свечки отчего порога
до черных люстр небытия.
Я просто издали примерил
костюм вечерний гробовой.
Всё будет так же, в той же мере
немного позже и со мной.
1967
261. РАВЕЛЬ
Я понял мысли верным ходом
средь достижений и обид —
своим избранникам природа
за превосходство нагло мстит.
Француза, слепленного тонко
из вкуса, сердца и ума,
поставит вдруг на четвереньки
и улыбается сама.
И гениального мальчишку
средь белоблещущих высот
за то, что он зарвался слишком,
рукой Мартынова убьет.
…И я за те свои удачи,
что были мне не по плечу,
сомкнувши зубы, не запла́чу,
а снова молча заплачу́.
1958, 1967
262. «Зима стояла в декабре…»
Зима стояла в декабре
совсем не шутки ради:
снег на шоссе и во дворе,
в Москве и Ленинграде.
Как белых – в шахматах – успех,
как длительное чудо,
летал повсюду белый снег,
лежал себе повсюду.
Похорошела сразу ель,
мороз трещал, как надо,
почти что целых пять недель,
с походом три декады.
И я всю эту смену дней
с великою охотой
в закрытой комнате моей
без отдыху работал.
Однажды мимо в поздний
срок дорогой недалекой
проехал Пушкина возок…
Рысак проёкал Блока.
А вслед за ними (хоть темно,
но, кажется, поближе)
Владим Владимыч на «рено»
проехал из Парижа.
Но вот уже, как в горле ком,
с какой-нибудь попойки
промчалась шумно с ямщиком
есенинская тройка.
Неся набор шутливых слов
и узенькую шпагу,
прошел задумчиво Светлов
своим неспешным шагом.
И сквозь поземку и метель,
как музыки начало,
вдали Мартынова свирель
возлюбленно звучала.
Зима дымилась на заре,
светлея и крепчая.
Я начал книгу в декабре
и в декабре кончаю.
1967
263. ТРУБОЧИСТ
Живет и нынешним и прежним,
сближая Запад и Восток,
на прибалтийском побережье
чистейше-тихий городок.
Мне каждый день навстречу едет,
сосредоточен и плечист,
на стареньком велосипеде
с ведерком черным трубочист.
Мне кажется не без опаски,
что едет он от братьев Гримм,
из сборников немецкой сказки,
из иллюстраций старых к ним…
1967 (?)
264. «В журналах своих и в газетах…»
В журналах своих и в газетах,
среди стихотворных красот,
не слишком ли часто поэты
тебя поминают, народ?
В стихах, обращенных к потомкам,
в поэмах, идущих чредой,
мы, может быть, слишком уж громко
клянемся тебе и тобой.
Наверно, признанья всё те же
прискучило людям читать,
и надо б и тише и реже
об этой любви заявлять?
…Когда-то – чего не бывало? —
В Сибири средь падей и гор
с квантунским одним генералом
пришлось мне вести разговор.
Свое любопытство смиряя,
запомнил я больше всего
потушенный взгляд самурая,
огромные уши его.
Подавленный новою ролью
(однако же к ней он привык),
как лагерной траченный молью
бобровый его воротник.
Не ждя от начальников красных
за это и малых щедрот,
незлобно и даже бесстрастно
он собственный хаял народ.
И так выходило, что вроде
он сам-то доволен собой,
но лучше б его благородью
в стране подвизаться иной.
Ему, как начальнику штаба,
в другой бы империи жить,
и он уж сумел бы тогда бы
не так о себе заявить.
Он должен сказать откровенно,
что, если б не жалкий народ,
тут пахло бы вовсе не пленом,
другой бы пошел оборот.
И он бы в недальнее зданье,
куда лейтенант вызывал,
не бегал давать показанья,
а сам бы себя показал.
…В поэты бы мы не годились
и песни писать не могли,
когда бы тобой не гордились,
народ нашей общей земли.
Мы, может, писали и плохо,
но то, что душа нам велит.
Не знаю, простит ли эпоха,
а русский читатель простит.
Мы счастливы, русские люди,
тем счастьем заглавным, большим,
что вечно гордимся и будем
гордиться народом своим.
1967 (?)
265. ЗАРЯДКА В ГАГРЕ
Не так, конечно, как Есенин,
но всё ж нередко второпях
я был предельно откровенен
и в личной жизни, и в стихах.
Я сквозь окно глядел украдкой,
как весь апрель уже подряд
у моря делали зарядку
динамовцы и «Арарат».
А у меня своя зарядка,
она спортсменам не нужна:
две сигареты для порядка,
стакан грузинского вина.
Потом центральные газеты
покажут время и Москву.
Не знаю, как живут поэты,
но я-то только так живу.
1966–1968
266. СИРЕНЬ
Был день февраля по-февральскому точным,
окрестность сияла белее белил,
когда невзначай в магазине цветочном
корзину сирени я вдруг укупил.
Являя безмолвный образчик смиренья,
роняя – уже – лепестки на ходу,
я с этою самою белой сиренью
по городу зимнему быстро иду.
В ушах у меня воркованье голубки,
встречающей мирно светящийся день,
смеются и валенки, и полушубки:
«Сирень появилась! Смотрите, сирень!»
Так шел я, дорогу забыв на квартиру,
по снегу, как истинный вестник весны,
как мальчик с цветущею веткою мира
проходит, закрыв полигоны и тиры,
по дымному полю глобальной войны.
1968
267. ВЕЧЕРНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Последний час стучит всё ближе,
виднее заповедный срок,
и я в дверях беру не лыжи,
а неказистый посошок.
Не посох выспренний пророка,
который риторичен всё ж,
а тот, с каким неподалеку,
но тихо как-нибудь дойдешь.
И я иду неторопливо,
снежок январский шевеля,
сквозь полускрывшиеся нивы
к тебе, последняя земля.
Иду дорогой заметенной,
боясь неправильно свернуть,
и посошок мой немудреный
прямой указывает путь.
1968
268. КОЛОКОЛЬЧИКИ
Земля российская богата
в своей траве, в своих цветах.
Все колокольчики когда-то,
как будто сельские набаты,
гремели вечером в степях.
Потом их подрезали косы,
чтоб большей не было беды.
Они ложились безголосо
в тяжеловлажные ряды.
Их после вилы поднимали,
неся над самой головой.
Цветы несмело обретали
как бы ушедший голос свой.
Но, получив жестокий опыт
своей возлюбленной земли,
они уже на общий шепот
в стогах и копнах перешли.
Потом на дровнях удалялись,
роняя по дороге прах,
и губы конские купались
в траве увялой и цветах.
Так начиналась жизнь вторая,
идя всё той же стороной:
ведь колокольчики Валдая,
то раскатясь, то затихая,
звенят и плачут под дугой.
1968
269. «Там, где больные исцелялись…»
Там, где больные исцелялись,
средь лазаретной темноты
чужие души раскрывались,
как ночью южные цветы.
Я их доверчиво и жадно,
без осужденья и похвал,
как некий житель безлошадный
в конюшню тесную впускал.
Там и стоят они покуда,
не выбегая на поля,
на доски глядя из-под спуда,
губами тихо шевеля.
1968
270. ЛЕНИНГРАД
Сперва совсем не скуки ради,
а для успеха наконец
я появился в Ленинграде,
самонадеянный юнец.
Аудитория бурлила,
я по утрам ложился спать,
ах, господи! – когда мне было
его увидеть и узнать!
Поздней вошли в мой ум охочий
лев у дворца сторожевой,
и вешний запах белой ночи,
и грозный шпиль над головой.
Но и тогда смиренным взглядом,
уже не слишком юн и смел,
я суть и душу Ленинграда
сквозь внешний блеск не разглядел.
Еще позднее по-житейски,
чтоб непрописанным не стать,
мне на Седьмой Красноармейской
случилось комнату снимать.
Она была как будто зала
для праздников и похорон;
ей только лишь недоставало
высоких мраморных колонн.
А наверху, в углу заветном,
там, где рассеян нижний свет,
был укреплен полузаметно
фотографический портрет.
То был с нашивкою военной
и в гимнастерке фронтовой
квартирный мальчик, убиенный
под ленинградскою стеной.
Тогда я понял, как отраду
для смысла сердца самого,
духовный трепет Ленинграда
сквозь блеск величия его.
1968
271. НИКОЛАЙ ПОЛЕТАЕВ
В складе памяти светится тихо и кротко,
как простая иконка в лампадных огнях,
Николай Полетаев в косоворотке,
пиджаке и не новых смазных сапогах.
Лучше всякой заученной злобно науки
мне запомнились, хоть я совсем не простак,
эти слабые, длинные, мягкие руки,
позабывшие гвоздь, молоток и верстак.
В коридоре пустынном метельною ночью,
улыбнувшись беспомощно и горячо,
этот старый, замученный жизнью рабочий
положил свою руку ко мне на плечо.
Пролетает мой день в тишине или в звоне,
мне писать нелегко и дышать тяжело.
На кого возложить мне пустые ладони,
позабывшие гвоздь, молоток и кайло?
1968
272. ПАВЕЛ ШУБИН
Словно поздняя в поле запашка
меж осенним леском и лужком,
черный волос у Шубина Пашки,
припорошенный первым снежком.
Не однажды, Россию спасая,
в бой ходила большая рука.
Плечи крепкие – сажень косая,
и отчаянный лоб батрака.
Для вернейшего сходства портрета,
чтоб не вышло, что тот, да не тот,
это русское буйство одето
в заграничный дрянной коверкот.
Это в наши салоны и залы
для ледащих страстей городских
из Кубани станица прислала
закоперщика песен своих.
И сейчас, как не раз уже было,
подходя и с бочков, и с лица,
мимоходом столица сгубила
перелесков и пашен певца.
Доконала искусством и водкой.
Поздно, поздно, хотя второпях,
вы приехали, сестры и тетки,
хоронить его в черных платках.
1968
273. ЮРИЙ ОЛЕША
Не на извозчике, а пеший,
жуя потайно бутерброд,
в пальтишке стареньком Олеша
весной по улице идет.
Башка апрельская в тумане,
ледок в проулочке блестит.
Как чек волшебника, в кармане
рублевка старая лежит.
Ее возможно со стараньем
истратить на закате лет
на чашку кофе в ресторане,
на золотой вечерний свет.
Он не богат, но и не жалок,
и может, если всё забыть,
букетик маленьких фиалок
одной красавице купить.
Но так тревожно и приятно
не обольщать и не жалеть,
а в переулочке бесплатно
снежком и наледью хрустеть.
Пускай в апрельском свежем мраке,
не отставая там и тут,
как бы безмолвные собаки,
за ним метафоры бегут.
1968
274. ВОЛГА
Такие тоже есть поэты
в стране прекрасной и большой:
у них земли и неба нету,
а только строчки за душой.
Есть только видимость искусства
без поражений, без щедрот,
там всё ослаблено и пусто:
ни очертаний, ни высот.
А ты живешь трудясь и долго
из-за того, товарищ мой,
что поворачивается Волга,
плеща и тешась, за душой.
Я видел плес ее однажды,
в теченье нескольких минут,
лишь из окна, с поспешной жаждой,
в какой-то выехав маршрут.
Но по твоей судьбе и воле
она вошла в мое житье:
ее стремнины, и раздолье,
и даже отмели ее.
1968
275. ЮРИЙ ГАГАРИН
В одном театре, в темном зале,
неподалеку под Москвой
тебя я видел вместе с Валей,
еще женой, уже вдовой.
И я запечатлел незыбко,
как озаренье и судьбу,
и эту детскую улыбку,
и чуть заметный шрам на лбу.
Включив приемник наудачу,
средь волн эфира мировых
вчера я слушал передачу
кружка товарищей твоих.
Они, пробившись к нам сквозь дали,
не причитали тяжело,
а только медленно вздыхали,
как будто горло им свело.
И эти сдержанные вздохи
твоих подтянутых друзей —
как общий вздох одной эпохи,
как вздох морей и вздох полей.
Я видел сквозь туман московский
как раз тридцатого числа,
как тяжкий прах к стене Кремлевской
печально Родина несла.
Ты нам оставил благородно,
уйдя из собственной среды,
большие дни торжеств народных
и общий день одной беды.
1968
276. ВОЗРАСТ
Я заявляю для журналов
и для писательских газет,
что возраст мой отнюдь не малый,
его скрывать мне смысла нет.
Но что-то вовсе не похоже,
чтоб я хотел, свершая путь,
стать хоть немного помоложе
и юность дальнюю вернуть.
Под этим зимним небосводом
я рад тому, что навсегда
мои как раз совпали годы
и революции года.
Не знаю, как там будет дальше,
но возраст свой в своем краю —
без фанфаронства и без фальши —
я никому не отдаю.
1968
277. ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Был дождь и снег апрельский сразу,
асфальт дымился и блистал,
когда я с жителем Кавказа
к Поляне Ясной подъезжал.
Меж елей, выстроенных строго,
от снега мокрого светла,
бесшумно двигаясь, дорога
вдоль дома барского вела.
Мы шли задумчиво впервые,
всё повидавши на веку,
к святому месту всей России,
как бы мальчишки к старику.
Его могила тут весною
стоит без близких и родных,
обернутая вечной хвоей,
среди подснежников живых.
Здесь тихо веет от могилы
средь чистоты и темноты
одною силой, только силой,
не признающей суеты.
Он ею мерился немного
лишь ради хватки удалой
и с философией, и с богом,
и даже с самою землей.
1968
278. ПИАЛА
Пускай к тебе течет отсюда
моя веселая хвала,
большая круглая посуда,
страны калмыцкой пиала.
Там, на путях труда и брани,
в своей кибитке кочевой
ты знала и бульон бараний,
и чай калмыцкий золотой.
Менялась степь, пора сменялась,
но под шатровым потолком
ты трижды кряду наполнялась
кобыльим белым молоком.
Какая б ни была погода,
в руке негнущейся своей
тебя держал хозяин рода
и смуглый отрок, сын степей.
Еще я знаю то сугубо,
что припадали по утрам
калмычки жаждущие губы
к твоим наполненным краям.
В тебя, в тебя, на самом деле,
бесстрастны и невеселы,
глазами круглыми глядели
и кобылицы и орлы.
Благодарю за ту удачу,
что в подмосковной полумгле
ты прикатила к нам на дачу
и поместилась на столе.
Забыв чернила и бумагу
и сев за скатерть в свой черед,
пью из тебя хмельную влагу
за степь твою и твой народ.
1968
279. «Еще вчера в степи полынной…»
Еще вчера в степи полынной
пирог мы ели именинный
и пили горькое вино.
Как в пляске на эстраде нашей,
за пиалой ходила чаша,
пока не сделалось темно.
В котлах, горящих из тумана,
варились целые бараны,
шипели жирно вертела,
и над посудою стеклянной
витал щемящий дух сазана
и стерлядь длинная плыла.
Гора не сходится с горою,
как мы сошлись с ее икрою,
воздавши честь ее бокам.
Вся эта стерлядь золотая,
как будто женщина пустая,
всю ночь ходила по рукам.
Склонив победные знамена,
истратив порох похоронный,
мы пировали день и ночь.
Кумыс под темным небосводом
вкушал старик седобородый,
и пили пиво мать и дочь.
Мы ели всласть и пили вдоволь
смеялись девушки и вдовы.
И, благочестью вопреки,
стучала белая посуда,
с кастрюлек сыпалась полуда
блистали старые клинки.
Еще вчера, в начале мая,
мы пили водку, заглушая
печаль и грусть сердец больных.
Вокруг пылающей столицы
всю ночь скакали кобылицы —
увы! – без всадников своих.
1968
280. ЛЮБЕЗНАЯ КАЛМЫЧКА
Курить, обламывая спички,—
одна из тягостных забот.
Прощай, любезная калмычка,
уже отходит самолет.
Как летний снег, блистает блузка,
наполнен счастьем рот хмельной.
Глаза твои сияют узко
от наслажденья красотой.
Твой взгляд, лукавый и бывалый,
в меня, усталого от школ,
как будто лезвие кинжала,
по ручку самую вошел.
Не упрекая, не ревнуя,
пью этот стон, и эту стынь,
и эту горечь поцелуя.
Так старый беркут пьет, тоскуя,
свою последнюю полынь.
1968
281. МОЙ УЧИТЕЛЬ
Был учитель высоким и тонким,
с ястребиной сухой головой;
жил один, как король, в комнатенке
на втором этаже под Москвой.
Никаким педантизмом не связан,
беззаветный его ученик,
я ему и народу обязан тем,
что все-таки знаю язык.
К пониманью еще не готовый,
слушал я, как открытье
само, слово Пимена и Годунова,
и смятенной Татьяны письмо.
Под цветением школьных акаций,
как в подсумок, я брал сгоряча
динамитный язык прокламаций,
непреложную речь Ильича.
Он вошел в мои книжки неплохо.
Он шумит посильней, чем ковыль,
тот, что ты создавала, эпоха,—
большевистского времени стиль.
Лишь сейчас, сам уж вроде бы старый,
я узнал из архива страны,
что учитель мой был комиссаром
отгремевшей гражданской войны.
И ничуть не стесняюсь гордиться,
что на карточке давней в Москве
комиссарские вижу петлицы
и звезду на прямом рукаве.
1968
282. СТЕПНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Как в той истории великой,
давным-давно, в начале дня,
не представляли мы калмыка
без кобылицы и коня, —
так в наше время, в нашу пору,
нельзя представить облик твой
без узкоглазого шофера
и без машины удалой.
Отрадно ехать на машине
сквозь золотистые валы:
кусты зеленые полыни
и одинокие орлы.
Я всё трясусь в автомобиле
вдоль по дороге столбовой,
и шлейфы самой тонкой пыли
трепещут где-то за спиной.
Всем недругам своим на зависть
ты развернулась в полный рост.
И волосы твоих красавиц —
как ночь без месяца и звезд.
А на привале под пластинки,
когда стихают зной и пыль,
они трепещут, как тростинки,
и гнутся, как степной ковыль.
1968








