Стихотворения и поэмы
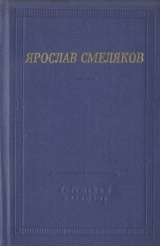
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
48. КАТЮША
Прощайте, милая Катюша.
Мне грустно, если между дел
я вашу радостную душу
рукой нечаянно задел.
Ужасна легкая победа.
Нет, право, лучше скучным быть,
чем остряком и сердцеедом
и обольстителем прослыть.
Я сам учился в этой школе.
Сам курсы девичьи прошел:
«Я к вам пишу – чего же боле?..»
«Не отпирайтесь. Я прочел…»
И мне в скитаньях и походах
пришлось лукавить и хитрить,
и мне случалось мимоходом
случайных девочек любить.
Но как он страшен, посвист старый,
как от мечтаний далека
ухмылка наглая гусара,
гусара наглая рука.
Как беспощадно пробужденье,
когда она молчит,
когда,
ломая пальчики,
в смятенье,
бежит – неведомо куда:
к опушке, в тонкие березы,
в овраг – без голоса рыдать.
Не просто было эти слезы
дешевым пивом запивать.
Их и сейчас еще немало,
хотя и близок их конец, —
мужчин красивых и бывалых,
хозяев маленьких сердец.
У них уже вошло в привычку
влюбляться в женщину шутя:
под стук колес,
под вспышку спички,
под шум осеннего дождя.
Они идут, вздыхая гадко,
походкой любящих отцов.
Бегите, Катя, без оглядки
от этих дивных подлецов.
Прощайте, милая Катюша.
Благодарю вас за привет,
за музыку, что я не слушал,
за то, что вам семнадцать лет;
за то, что город ваш просторный,
в котором я в апреле жил,
перед отъездом, на платформе,
я, как мальчишка, полюбил.
1940
49. СТАРАЯ КВАРТИРА
Как знакома мне старая эта квартира!
Полумрак коридора, как прежде, слепит,
как всегда, повторяя движение мира,
на пустом подоконнике глобус скрипит.
Та же сырость в углу. Так же тянет от окон.
Так же папа газету сейчас развернет.
И по радио голос певицы далекой
ту же русскую песню спокойно поет.
Только нету того, что единственно надо,
что, казалось, навеки связало двоих:
одного твоего утомленного взгляда,
невеселых, рассеянных реплик твоих.
Нету прежних заминок, неловкости прежней,
ощущенья, что сердце летит под откос,
нету только твоих, нарочито небрежно
перехваченных ленточкой светлых волос.
Я не буду, как в прежние годы, метаться,
возле окон чужих до рассвета ходить;
мне бы только в берлоге своей отлежаться,
только имя твое навсегда позабыть.
Но и в полночь я жду твоего появленья,
но и ночью, на острых своих каблуках,
ты бесшумно проходишь, мое сновиденье,
по колени в неведомых желтых цветах.
Мне туда бы податься из маленьких комнат,
где целителен воздух в просторах полей,
где никто мне о жизни твоей не напомнит
и ничто не напомнит о жизни твоей.
Я иду по осенней дороге, прохожий.
Дует ветер, глухую печаль шевеля.
И на памятный глобус до боли похожа
вся летящая в тучах родная земля.
1940
50. ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ
Верь мне, дорогая моя.
Я эти слова говорю с трудом,
но они пройдут по всем городам
и войдут, как странники, в каждый дом.
Я вырвался наконец из угла
и всем хочу рассказать про это:
ни звезд, ни гудков —
за окном легла
майская ночь накануне рассвета.
Столько в ней силы и чистоты,
так бьют в лицо предрассветные стрелы —
будто мы вместе одни, будто ты
прямо в сердце мое посмотрела.
Отсюда, с высот пяти этажей,
с вершины любви, где сердце тонет,
весь мир – без крови, без рубежей —
мне виден, как на моей ладони.
Гор – не измерить и рек – не счесть,
и всё в моей человечьей власти.
Наверное, это как раз и есть,
что называется – полное счастье.
Вот гляди: я поднялся, стал,
подошел к столу – и, как ни странно,
этот старенький письменный стол
заиграл звучнее органа.
Вот я руку сейчас подниму
(мне это не трудно – так, пустяки) —
и один за другим, по одному
на деревьях распустятся лепестки.
Только слово скажу одно —
и, заслышав его, издалека,
бесшумно, за звеном звено,
на землю опустятся облака.
И мы тогда с тобою вдвоем,
полны ощущенья чистейшего света,
за руки взявшись, меж них пройдем,
будто две странствующие кометы.
Двадцать семь лет неудач – пустяки,
если мир – в честь любви – украсили флаги,
и я, побледнев, пишу стихи
о тебе
на листьях нотной бумаги.
1940
51. «Если я заболею…»
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану.
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.
Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня
в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом в осенних цветах.
Порошков или капель – не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь,
серебро водопада —
вот чем стоит лечить.
От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь – почувствуешь:
вечно живем.
Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем.
1940
52. 1 ЯНВАРЯ 1941 ГОДА
Так повелось, что в серебре метели,
в глухой тиши декабрьских вечеров,
оставив лес, идут степенно ели
к далеким окнам шумных городов.
И, веселясь, торгуют горожане
для украшенья жительниц лесных
базарных нитей тонкое сиянье
и грубый блеск игрушек расписных.
Откроем дверь: пусть в комнаты сегодня
в своих расшитых валенках войдет,
осыпан хвоей елки новогодней,
звеня шарами, сорок первый год.
Мы все готовы к долгожданной встрече:
в торжественной минутной тишине
покоем дышат пламенные печи,
в ладонях елок пламенеют свечи,
и пляшет пламень в искристом вине.
В преддверье сорок первого, вначале
мы оценить прошедшее должны.
Мои товарищи сороковой встречали
не за столом, не в освещенном зале —
в жестоком дыме северной войны.
Стихали орудийные раскаты,
и слушал затемненный Ленинград,
как чокались гранаты о гранату,
штыки о штык, приклады о приклад.
Мы не забудем и не забывали,
что батальоны наши наступали,
неудержимо двигаясь вперед,
как наступает легкий час рассвета,
как после вьюги наступает лето,
как наступает сорок первый год.
Прославлен день тот самым громким словом,
когда, разбив тюремные оковы,
к нам сыновья Прибалтики пришли.
Мы рядом шли на празднестве осеннем,
и я увидел в этом единенье
прообраз единения земли.
Еще за то добром помянем старый,
что он засыпал длинные амбары
шумящим хлебом осени своей
и отковал своей рукою спорой
для красной авиации – моторы,
орудия – для красных батарей.
Мы ждем гостей – пожалуйте учиться!
Но если ночью воющая птица
с подарком прилетит пороховым —
сотрем врага. И это так же верно,
как то, что мы вступили в сорок первый
и предыдущий был сороковым.
1940, 1941
53. КЛАССИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Как моряки встречаются на суше,
когда-нибудь, в пустынной полумгле,
над облаком столкнутся наши души,
и вспомним мы о жизни на Земле.
Разбередя тоску воспоминаний,
потупимся, чтоб медленно прошли
в предутреннем слабеющем тумане
забытые видения Земли.
Не сладкий звон бесплотных райских птиц —
меня стремглав Земли настигнет пенье:
скрип всех дверей, скрипенье всех ступенек,
поскрипыванье старых половиц.
Мне снова жизнь сквозь облако забрезжит,
и я пойму всей сущностью своей
гуденье лип, гул проводов и скрежет
булыжником мощенных площадей.
Вот так я жил – как штормовое море,
ликуя, сокрушаясь и круша,
озоном счастья и предгрозьем горя
с великим равнозначней дыша.
Из этого постылого покоя,
одну минуту жизни посуля,
меня потянет черною рукою
к себе назад всесильная Земля.
Тогда, обет бессмертия наруша,
я ринусь вниз, на родину свою,
и грешную томящуюся душу
об острые каменья разобью.
1940 или 1941
54. ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА ЛИДА
Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живет.
Ее золотые косицы
затянуты, будто жгуты.
По платью, по синему ситцу,
как в поле, мелькают цветы.
И вовсе, представьте, неплохо,
что рыжий пройдоха апрель
бесшумной пыльцою веснушек
засыпал ей утром постель.
Не зря с одобреньем веселым
соседи глядят из окна,
когда на занятия в школу
с портфелем проходит она.
В оконном стекле отражаясь,
по миру идет не спеша
хорошая девочка Лида.
Да чем же
она
хороша?
Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.
Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
«Хорошая девочка Лида», —
в отчаянье он написал.
Не может людей не растрогать
мальчишки упрямого пыл.
Так Пушкин влюблялся, должно быть,
так Гейне, наверно, любил.
Он вырастет, станет известным,
покинет пенаты свои.
Окажется улица тесной
для этой огромной любви.
Преграды влюбленному нету:
смущенье и робость – вранье!
На всех перекрестках планеты
напишет он имя ее.
На полюсе Южном – огнями,
пшеницей – в кубанских степях,
на русских полянах – цветами
и пеной морской – на морях.
Он в небо залезет ночное,
все пальцы себе обожжет,
но вскоре над тихой Землею
созвездие Лиды взойдет.
Пусть будут ночами светиться
над снами твоими, Москва,
на синих небесных страницах
красивые эти слова.
1940 или 1941
55. РЖАВЫЕ ГРАНАТЫ
Мы не однажды ночевали в школах,
оружие пристроив в головах,
средь белых стен, ободранных и голых,
на подметенных наскоро полах.
И снилось нам, что в школах может сниться:
черемуха, жужжанье майских пчел,
глаза и косы первой ученицы,
мел и чернила,
глобус и футбол.
Мы поднимались сразу на рассвете,
сняв гимнастерки, мылись у реки.
И шли вперед, спокойные, как дети,
всезнающие, словно старики.
Мы шли вперед —
возмездье и расплата,
оставив в классе около стены
страницу «Правды» мятую, гранату,
размотанный кровавый бинт солдата —
наглядные пособия войны.
1941
56. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ
Над терриконом шахты темно-серым
дождь моросит который день подряд.
Как на вулкане, изверженья серы
виящимися струйками дымят.
Нет синевы, и нет ветвей зеленых.
Сурово блещет небо надо мной,
с него сошли созвездия влюбленных
и разместились в лавах под землей.
Меж тесной грязи рельсы молча лезут,
клубится пар, несется сильный ток.
Здесь торжествуют уголь и железо,
диктаторствуют бур и молоток.
Здесь жизнь и время меряют на тонны.
Здесь лозунги орут и говорят.
Весь день стучат товарные вагоны
и паровозы свищут и трубят.
И на стене, двухцветная, сырая,
огромная, как милая земля,
в дыму сражений, – карта фронтовая
и черный график черного угля.
Край шумных рощ и праздничного пенья,
мы научились все-таки с тобой
жить в эти дни, отвергнув украшенья,
как голой сутью, голой красотой.
1944
57. ЗАРИСОВКА
Этот клуб не топился
еще с довоенных времен:
лед сверкает на стенах,
в кассе белый сугроб наметен.
Но, не падая духом,
обмотавшись зеленым кашне,
словно птенчик в скворешне,
воркует кассирша в окне.
И директорша клуба,
как бог посредине планет,
сжавши синие губы,
включает рубильником свет.
На промерзшей эстраде,
застегнут, румян и плечист,
с выраженьем бесстрастья
недвижно сидит баянист.
У него на коленях
сундук с сыромятным ремнем.
Все шахтерские танцы
по порядку разложены в нем.
И, как добрый хозяин,
он их выпускает в народ:
вслед за вальсом прелестным
идет нагловатый фокстрот.
1944
58. ДОЧЬ НАЧАЛЬНИКА ШАХТЫ
Дочь начальника шахты
в коричневом теплом платке —
на санях невесомых,
и вожжи в широкой руке.
А глаза у нее —
верьте мне – золоты и черны,
словно черное золото,
уголь Советской страны.
Я бы эти глаза
до тех пор бы хотел целовать,
чтобы золоту – черным
и черному – золотом стать.
На щеке ее родинка —
знак подмосковной весны,
словно пятнышко Родины,
будто отметка страны.
Поглядела и скрылась,
побыла полминуты – и нет.
Только снег заметает
полозьев струящийся след.
Только я одиноко
в снегу по колено стою, у
видав свою радость,
утративши радость свою.
1944
59. СУДЬЯ
Упал на пашне у высотки
суровый мальчик из Москвы,
и тихо сдвинулась пилотка
с пробитой пулей головы.
Не глядя на беззвездный купол
и чуя веянье конца,
он пашню бережно ощупал
руками быстрыми слепца.
И, уходя в страну иную
от мест родных невдалеке,
он землю теплую, сырую
зажал в коснеющей руке.
Горсть отвоеванной России
он захотел на память взять,
и не сумели мы, живые,
те пальцы мертвые разжать.
Мы так его похоронили —
в его военной красоте —
в большой торжественной могиле
на взятой утром высоте.
И если, правда, будет время,
когда людей на Страшный суд
из всех земель, с грехами всеми
трикратно трубы призовут, —
предстанет за столом судейским
не бог с туманной бородой,
а паренек красноармейский
пред потрясенною толпой,
держа в своей ладони правой,
помятой немцами в бою,
не символы небесной славы,
а землю русскую, свою.
Он всё увидит, этот мальчик,
и ни йоты не простит,
но лесть – от правды,
боль – от фальши
и гнев – от злобы отличит.
Он всё узнает оком зорким,
с пятном кровавым на груди,
судья в истлевшей гимнастерке,
сидящий молча впереди.
И будет самой высшей мерой,
какою мерить нас могли,
в ладони юношеской серой
та горсть тяжелая земли.
<1945>
60. ПАРЕНЕК
Рос мальчишка, от других отмечен
только тем, что волосы мальца
вились так, как вьются в тихий вечер
ласточки у старого крыльца.
Рос парнишка, видный да кудрявый,
окруженный ветками берез,
всей деревни молодость и слава —
золотая ярмарка волос.
Девушки на улице смеются,
увидав любимца своего,
что вокруг него подруги вьются,
вьются, словно волосы его.
Ах, такие волосы густые,
что невольно тянется рука
накрутить на пальчики пустые
золотые кольца паренька.
За спиной деревня остается,—
юноша уходит на войну.
Вьется волос, длинный волос вьется,
как дорога в дальнюю страну.
Паренька соседки вспоминают
в день, когда, рожденная из тьмы,
вдоль деревни вьюга навевает
белые морозные холмы.
С орденом кремлевским воротился
юноша из армии домой.
Знать, напрасно черный ворон вился
над его кудрявой головой.
Обнимает мать большого сына,
и невеста смотрит на него…
Ты развейся, женская кручина,
завивайтесь, волосы его!
1945
61. ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА
Лейтенант
по почте полевой
отослал письмо свое
домой.
Ничего торжественного
нет:
школьный почерк,
воинский привет.
Вложено для мамы
в письмецо
там запечатленное
лицо.
А под ним,
как славы письмена,
высшие
блистают ордена.
Расцвела
и растерялась мать…
Дети наши,
как вас называть?
Это вы,
подъявши правый меч,
в городах
поверженной земли
не забыли
русской школы речь,
детские улыбки
сберегли.
1945
62. «У насыпи братской могилы…»
У насыпи братской могилы
я тихо, как память, стою,
в негнущихся пальцах сжимая
гражданскую шапку свою.
Под темными лапами елей,
в глубокой земле, как во сне,
вы молча и верно несете
сверхсрочную службу стране.
Всей верой своей человечьей,
и мыслью, и сердцем своим
мы верим погибшим солдатам,
и мертвые верят живым.
Так вечная слава убитым
и вечная слава живым!
Склонившись, как над колыбелью,
мы в ваши могилы глядим.
И мертвых нетленные очи,
победные очи солдат,
как звезды сквозь облако ночи,
на нас, не мерцая, глядят.
1945
63. ЗЕМЛЯ
Тихо прожил я жизнь человечью:
ни бурана, ни шторма не знал,
по волнам океана не плавал,
в облаках и во сне не летал.
Но зато, словно юность вторую,
полюбил я в просторном краю
эту черную землю сырую,
эту милую землю мою.
Для нее ничего не жалея,
я лишался покоя и сна,
стали руки большие темнее,
но зато посветлела она.
Чтоб ее не кручинились кручи
и глядела она веселей,
я возил ее в тачке скрипучей,
так, как женщины возят детей.
Я себя признаю виноватым,
но прощенья не требую в том,
что ее подымал я лопатой
и валил на колени кайлом.
Ведь и сам я, от счастья бледнея,
зажимая гранату свою,
в полный рост поднимался над нею
и, простреленный, падал в бою.
Ты дала мне вершину и бездну,
подарила свою широту.
Стал я сильным, как терн, и железным —
даже окиси привкус во рту.
Даже жесткие эти морщины,
что на лбу и по щёкам прошли,
как отцовские руки у сына,
по наследству я взял у земли.
Человек с голубыми глазами,
не стыжусь и не радуюсь я,
что осталась земля под ногтями
и под сердцем осталась земля.
Ты мне небом и волнами стала,
колыбель и последний приют…
Видно, значишь ты в жизни немало,
если жизнь за тебя отдают.
1945
64. КРЕМЛЕВСКИЕ ЕЛИ
Это кто-то придумал
счастливо,
что на Красную площадь
привез
не плакучее
празднество ивы
и не легкую сказку
берез.
Пусть кремлевские
темные ели
тихо-тихо
стоят на заре,
островерхие
дети метели —
наша память
о том январе.
Нам сродни
их простое убранство,
молчаливая
их красота,
и суровых ветвей
постоянство,
и сибирских стволов
прямота.
1945
65. ПОРТРЕТ
Сносились мужские ботинки,
армейское вышло белье,
но красное пламя косынки
всегда освещало ее.
Любила она, как отвагу,
как средство от всех неудач,
кусочек октябрьского флага —
осеннего вихря кумач.
В нем было бессмертное что-то:
останется угол платка,
как красный колпак санкюлота
и черный венок моряка.
Когда в тишину кабинетов
ее увлекали дела —
сама революция это
по каменным лестницам шла.
Такие на резких плакатах
печатались в наши года
прямые черты делегаток,
молчащие лица труда.
1945
66. «Вот опять ты мне вспомнилась, мама…»
Вот опять ты мне вспомнилась, мама,
и глаза твои, полные слез,
и знакомая с детства панама
на венке поредевших волос.
Оттеняет терпенье и ласку,
потемневшая в битвах Москвы,
материнского воинства каска —
украшенье седой головы.
Все стволы, что по русским стреляли,
все осколки чужих батарей
неизменно в тебя попадали,
застревали в одежде твоей.
Ты заштопала их, моя мама,
но они всё равно мне видны,
эти грубые длинные шрамы —
беспощадные метки войны…
Дай же, милая, я поцелую,
от волненья дыша горячо,
эту бедную прядку седую
и задетое пулей плечо.
В дни, когда из окошек вагонных
мы глотали движения дым
и считали свои перегоны
по дорогам к окопам своим, —
как скульптуры из ветра и стали,
на откосах железных путей
днем и ночью бессменно стояли
батальоны седых матерей.
Я не знаю, отличья какие,
не умею я вас разделять:
ты одна у меня, как Россия,
милосердная русская мать.
Это слово протяжно и кратко
произносят на весях родных
и младенцы в некрепких кроватках,
и солдаты в могилах своих.
Больше нет и не надо разлуки,
и держу я в ладони своей
эти милые трудные руки,
словно руки России моей.
1945
67. МИЛЫЕ КРАСАВИЦЫ РОССИИ
В буре электрического света
умирает юная Джульетта.
Праздничные ярусы и ложи
голосок Офелии тревожит.
В золотых и темно-синих блестках
Золушка танцует на подмостках.
Наши сестры в полутемном зале,
мы о вас еще не написали.
В блиндажах подземных, а не в сказке
наши жены примеряли каски.
Не в садах Перро, а на Урале
вы золою землю удобряли.
На носилках длинных под навесом
умирали русские принцессы.
Возле, в государственной печали,
тихо пулеметчики стояли.
Сняли вы бушлаты и шинели,
старенькие туфельки надели.
Мы еще оденем вас шелками,
плечи вам согреем соболями.
Мы построим вам дворцы большие,
милые красавицы России.
Мы о вас напишем сочиненья,
полные любви и удивленья.
1945 (?)
68. МАНОН ЛЕСКО
Много лет и много дней назад
жил в зеленой Франции аббат.
Он великим сердцеведом был.
Слушая, как пели соловьи,
он, смеясь и плача, сочинил
золотую книгу о любви.
Если вьюга заметает путь,
хорошо у печки почитать.
Ты меня просила где-нибудь
эту книгу старую достать.
Но тогда была наводнена
не такими книжками страна.
Издавались книги про литье,
книги об уральском чугуне,
а любовь и вестники ее
оставались как-то в стороне.
В лавке букиниста-москвича
все-таки попался мне аббат,
между штабелями кирпича,
рельсами и трубами зажат.
С той поры, куда мы ни пойдем,
оглянуться стоило назад —
в одеянье стареньком своем
всюду нам сопутствовал аббат.
Не забыл я милостей твоих,
и берет не позабыл я твой,
созданный из линий снеговых,
связанный из пряжи снеговой.
…Это было десять лет назад,
По широким улицам Москвы
десять лет кружился снегопад
над зеленым празднеством листвы.
Десять раз по десять лет пройдет.
Снова вьюга заметет страну.
Звездной ночью юноша придет
к твоему замерзшему окну.
Изморозью тонкою обвит,
до утра он ходит под окном.
Как русалка, девушка лежит
на диване кожаном твоем.
Зазвенит, заплещет телефон,
в утреннем ныряя серебре.
И услышит новая Манон
голос кавалера де Грие.
Женская смеется голова,
принимая счастие и пыл…
Эти сумасшедшие слова
я тебе когда-то говорил.
И опять сквозь русский снегопад
горько улыбается аббат.
1945 (?)
69. ТРЯСОГУЗКА
Это все-таки было
утром жизни моей —
ты ведь кофту носила,
пояс-хвостик на ней.
За прекрасную блузку,
веселясь и грозя,
все тебя трясогузкой
называли друзья.
Жизнь почти отшумела.
Серебрятся виски.
И от кофточки белой
вряд ли есть лоскутки.
Но со щедростью русской,
трепеща и виясь,
у меня трясогузка
под окном завелась.
Осеняет прилежно
холостое жилье.
Благодарно и нежно
я встречаю ее.
1945 (?)
70. «Трудно называться мне поэтом…»
Трудно называться мне поэтом
той красивой пасмурной земли,
от которой на исходе лета,
плача, улетают журавли.
Медленно мерцающая стая
протечет над призрачным селом
и в осеннем сумраке растает,
словно снег в стакане голубом.
1945 (?)
71. ПЕСНЯ
Мать ждала для сына легкой доли —
сын лежит, как витязь, в чистом поле.
В чистом поле, на земле советской,
пулею подкошенный немецкой.
Мать ждала для дочери венчанья,
а досталось дочери молчанье.
Рыжие фельдфебели в подвале
три недели доченьку пытали.
Три недели в сумраке подвала
ничего она им не сказала.
Только за минуту до расстрела
вспомнила про голос и запела.
Ах, не плачет мать и не рыдает,
имена родные повторяет.
Разве она думала-рядила,
что героев Времени растила?
В тонкие пеленки пеленала,
в теплые сапожки обувала…
<1946>
72. ПРЯХА
Раскрашена розовым палка,
дощечка сухая темна.
Стучит деревянная прялка.
Старуха сидит у окна.
Бегут, утончаясь от бега,
в руке осторожно гудя,
за белою ниткою снега
весенняя нитка дождя.
Ей тысяча лет, этой пряхе,
а прядей не видно седых.
Работала при Мономахе,
при правнуках будет твоих.
Ссыпается ей на колени
и стук партизанских колес,
и пепел сожженных селений,
и желтые листья берез.
Прядет она ветер и зори,
и мирные дни и войну,
и волны свободные моря,
и радиостанций волну.
С неженскою гордой любовью
она не устала сучить
и нитку, намокшую кровью,
и красного знамени нить.
Декабрь сменяется маем,
цветы окружают жилье,
идут наши дни, не смолкая,
сквозь темные пальцы ее.
Суровы глаза голубые,
сияние молний в избе.
И ветры огромной России
скорбят и ликуют в трубе.
1946








