Стихотворения и поэмы
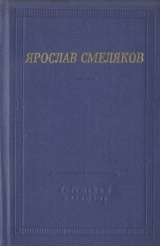
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
101. ПАМЯТИ ДИМИТРОВА
Я помню ту общую гордость,
с какой мы следили в тот год
за тем, как отважно и твердо
процесс подсудимый ведет.
Под лейпцигским каменным сводом
над бандой убийц и громил
кружилися ветры Свободы,
когда заключенный входил.
Я помню, как солнце горело,
на зимний взойдя небосвод,
когда из далеких пределов
в Москву прилетел самолет.
Сияли счастливые лица,
исчезла тревожная тень.
И все телефоны столицы
об этом звонили весь день!
* * *
…Июльского русского лета
бесшумные льются лучи.
За воинской сталью лафета
печально идут москвичи.
До траурных башен вокзала
под небом сплошной синевы
со скорбью Москва провожала
великого друга Москвы.
Мы с вами, болгары. Мы знаем,
что очи славянской страны
сегодня одними слезами,
как чаши печали, полны.
И в горе и в счастье, София,
всегда неизменно с тобой
могучая наша Россия,
как с младшей любимой сестрой.
1949
102. ЛЕНИН
Мне кажется, что я не в зале,
а, годы и стены пройдя,
стою на Финляндском вокзале
и слушаю голос вождя.
Пространство и время нарушив,
мне голос тот в сердце проник,
и прямо на площадь, как в душу,
железный идет броневик.
Отважный, худой, бородатый —
гроза петербургских господ —
я вместе с окопным солдатом
на Зимний тащу пулемет.
Земля, как осина, дрожала,
когда наш отряд штурмовал.
Нам совесть идти приказала,
нас Ленин на это послал.
Знамена великих сражений,
пожары гражданской войны…
Как смысл человечества, Ленин
стоит на трибуне страны.
Я в грозных рядах растворяюсь,
я ветром победы дышу
и, с митинга в бой отправляясь,
восторженно шапкой машу.
Не в траурном зале музея —
меж тихих московских домов
я руки озябшие грею
у красных январских костров.
Ослепли глаза от мороза,
ослабли от туч снеговых,
и ваши, товарищи, слезы
в глазах застывают моих…
1949
103. КНИЖКА УДАРНИКА
Перебирая
под праздники
письменный стол,
книжку ударника
я между папок нашел.
Книжка ударника —
красный ударный билет
давнего времени,
незабываемых лет!
В комнате вечером
снова призывно звучат
речи на митингах,
песни ударных бригад.
Вечером в комнате
снова встают предо мной
стройка Челябинска,
Бобрики и Днепрострой.
Все общежитья,
в которых с друзьями я спал,
все те лопаты,
которыми землю копал.
Все те станки,
на которых работать пришлось,
домны и клубы,
что мне возводить довелось.
Вновь надо мною
сияют
приметы тех лет:
красные лозунги,
красные цифры побед.
И возникают
оттуда, из прожитых дней,
юные лица
моих комсомольских друзей.
А за окном
занимается, рдеет заря.
Что же, товарищи,
мы потрудились не зря!
Сооружения
наших ударных бригад
в вольных степях
и на реках привольных стоят.
…Мы, увлеченные
делом своим трудовым,
на комсомольцев теперешних
нежно глядим.
И комсомольцы
на нынешних стройках
сейчас
песни поют
и читают романы о нас.
1950
104. ЖЕНА
Красива и смела
пошедшая со мной —
ты матерью была,
и ты была женой.
Ты всё мое добро,
достоинство и честь.
Я дал тебе ребро
и всё отдам, что есть.
Как мысли и судьбе,
лопате и перу,
я отдал всё тебе,
всё от тебя беру.
Дождем меня омой,
печаль моя и смех,
корыстный подвиг мой
и мой невинный грех.
Халатик свой накинь.
Томительно ходи.
Отринь меня, отринь
и снова припади.
И снова, погодя,
неслышно, будто рысь,
нахлынь не отходя,
не уходя вернись.
Дыханием обдуй.
Возьми, как вышний бог,
мой первый поцелуй
и мой последний вздох.
Оплачь невторопях.
Мне речи не нужны —
пусть скатится на прах
слеза моей жены.
Забудь меня, забудь
по счастью своему…
А я с собою в путь
одну ее возьму.
1955
105. ПОД МОСКВОЙ
Не на пляже и не на ЗИМе,
не у входа в концертный зал, —
я глазами тебя своими
в тесной кухоньке увидал.
От работы и керосина
закраснелось твое лицо.
Ты стирала с утра для сына
обиходное бельецо.
А за маленьким за оконцем,
белым блеском сводя с ума,
стыла, полная слез и солнца,
раннеутренняя зима.
И как будто твоя сестричка,
за полянками, за леском
быстро двигалась электричка
в упоении трудовом.
Ты возникла в моей вселенной,
в удивленных глазах моих
из светящейся мыльной пены
да из пятнышек золотых.
Обнаженные эти руки,
увлажнившиеся водой,
стали близкими мне до муки
и смущенности молодой.
Если б был я в тот день смелее,
не раздумывал, не гадал —
обнял сразу бы эту шею,
эти пальцы б поцеловал.
Но ушел я тогда смущенно,
только где-то в глуби светясь.
Как мы долго вас ищем, жены,
как мы быстро теряем вас.
А на улице, в самом деле,
от крылечка наискосок
снеговые стояли ели,
подмосковный скрипел снежок.
И хранили в тиши березы
льдинки светлые на ветвях,
как скупые мужские слезы,
не утертые второпях.
1955
106. ПРИЗНАНЬЕ
Не в смысле каких деклараций,
не пафоса ради, ей-ей,—
мне хочется просто признаться,
что очень люблю лошадей.
Сильнее люблю, по-другому,
чем разных животных иных…
Не тех кобылиц ипподрома,
солисток трибун беговых.
Не тех жеребцов знаменитых,
что – это считая за труд —
на дьявольских пляшут копытах
и как оглашенные ржут.
Не их, до успехов охочих,
блистающих славой своей, —
люблю неказистых, рабочих,
двужильных кобыл и коней.
Забудется нами едва ли,
что вовсе в недавние дни
всю русскую землю пахали
и жатву свозили они.
Недаром же в старой России,
пока еще памятной нам,
старухи по ним голосили,
почти как по мертвым мужьям.
Их есть и теперь по Союзу
немало в различных местах,
таких кобыленок кургузых
в разбитых больших хомутах.
Недели не знавшая праздной,
прошедшая сотни работ,
она и сейчас безотказно
любую поклажу свезет.
Но только, в отличье от прежней,
косясь, не шарахнется вбок,
когда по дороге проезжей
раздастся победный гудок.
Свой путь уступая трехтонке,
права понимая свои,
она оглядит жеребенка
и трудно свернет с колеи.
Мне праздника лучшего нету,
когда во дворе дотемна
я смутно работницу эту
увижу зимой из окна.
Я выйду из душной конторки,
заранее радуясь сам,
и вынесу хлебные корки,
и сахар последний отдам.
Стою с неумелой заботой,
осклабив улыбкою рот,
и глупо шепчу ей чего-то,
пока она мирно жует.
1956
107. ПЕРВЫЙ БАЛ
Позабыты шахматы и стирка,
брошены вязанье и журнал.
Наша взбудоражена квартирка:
Галя собирается на бал.
В именинной этой атмосфере,
в этой бескорыстной суете
хлопают стремительные двери,
утюги пылают на плите.
В пиджаках и кофтах Москвошвея,
критикуя и хваля наряд,
добрые волшебники и феи
в комнатенке Галиной шумят.
Счетовод районного Совета
и немолодая травести —
все хотят хоть маленькую лепту
в это дело общее внести.
Словно грешник посредине рая,
я с улыбкой смутною стою,
медленно – сквозь шум – припоминая
молодость суровую свою.
Девушки в лицованных жакетках,
юноши с лопатами в руках —
на площадках первой пятилетки
мы и не слыхали о балах.
Разве что под старую трехрядку,
упираясь пальцами в бока,
кто-нибудь на площади вприсядку
в праздники отхватит трепака.
Или, обтянув косоворотку,
в клубе у Кропоткинских ворот
«Яблочко» матросское с охоткой
вузовец на сцене оторвет.
Наши невзыскательные души
были заворожены тогда
музыкой ликующего туша,
маршами ударного труда.
Но, однако, те воспоминанья,
бесконечно дорогие нам,
я ни на какое осмеянье
никому сегодня не отдам.
И в иносказаниях туманных,
старичку брюзгливому под стать,
нынешнюю молодость не стану
в чем-нибудь корить и упрекать.
Собирайся, Галя, поскорее,
над прической меньше хлопочи —
там уже, вытягивая шеи,
первый вальс играют трубачи.
И давно стоят молодцевато
на парадной лестнице большой
с красными повязками ребята
в ожиданье сверстницы одной.
…Вновь под нашей кровлею помалу
жизнь обыкновенная идет:
старые листаются журналы,
пешки продвигаются вперед.
А вдали, как в комсомольской сказке,
за повитым инеем окном
русская девчонка в полумаске
кружится с вьетнамским пареньком.
1956
108. ПЕРЕУЛОК
Ничем особым не знаменит —
в домах косых и сутулых —
с утра, однако, вовсю шумит
окраинный переулок.
Его, как праздничным кумачом
и лозунгами плаката,
забили новеньким кирпичом,
засыпали силикатом.
Не хмурясь сумрачно, а смеясь,
прохожие, как подростки,
с азартом вешнюю топчут грязь,
смешанную с известкой.
Лишь изредка чистенький пешеход,
кошачьи зажмуря глазки,
бочком строительство обойдет
с расчетливою опаской.
Весь день, бездельникам вопреки,
врезаются в грунт лопаты,
гудят свирепо грузовики,
трудится экскаватор.
Конечно, это совсем не тот,
что где-нибудь на каналах
в отверстый зев полгоры берет
и грузит на самосвалы.
Но этот тоже пыхтит не зря,
недаром живет на свете —
младший братишка богатыря,
известного всей планете.
Вздымая над этажом этаж,
подъемные ставя краны,
торопится переулок наш
за пятилетним планом.
Он так спешит навстречу весне,
как будто в кремлевском зале
с большими стройками наравне
судьбу его обсуждали.
Он так старается дотемна,
с такою стучит охотой,
как будто огромная вся страна
следит за его работой.
1956
109. МАГНИТКА
От сердца нашего избытка,
от доброй воли, так сказать,
мы в годы юности Магниткой
тебя привыкли называть.
И в этом – если разобраться,
припомнить и прикинуть вновь —
нет никакого панибратства,
а просто давняя любовь.
Гремят, не затихая, марши,
басов рокочущая медь.
За этот срок ты стала старше
и мы успели постареть.
О днях ушедших не жалея,
без общих фраз и пышных слов
страна справляет юбилеи
людей, заводов, городов.
Я просто счастлив тем, что помню,
как праздник славы и любви,
и очертанья первой домны,
и плавки первые твои.
Я счастлив помнить в самом деле,
что сам в твоих краях бывал
и у железной колыбели
в далекой юности стоял.
Вновь гордость старая проснулась,
припомнилось издалека,
что в пору ту меня коснулась
твоя чугунная рука.
И было то прикосновенье
под красным лозунгом труда
как словно бы благословенье
самой индустрии тогда.
Я просто счастлив тем, однако,
что помню зимний твой вокзал,
что ночевал в твоих бараках,
в твоих газетах выступал.
И, видно, я хоть что-то стою,
когда в начале всех дорог
хотя бы строчкою одною
тебе по-дружески помог.
1957
110. «Печалью дружеской согретый…»
Печалью дружеской согретый,
в обычной мирной тишине
перевожу стихи поэта,
погибшего на той войне.
Мне это радостно и грустно:
не пропуская ничего,
читать подстрочник безыскусный
и перекладывать его.
Я отдаю весь малый опыт,
чтоб перевод мой повторял
то, что в землянках и окопах
солдат Татарии писал.
Опять поет стихотворенье
певца, убитого давно,
как будто право воскрешенья
в какой-то мере мне дано.
Я удивляться молча буду,
едва ли не лишаясь сил,
как будто маленькое чудо
я в этот вечер совершил.
Как будто тот певец солдатский,
что под большим холмом зарыт,
сегодня из могилы братской
со всей Россией говорит.
1957
111. ЗЕМЛЯНИКА
Средь слабых луж и предвечерних бликов,
на станции, запомнившейся мне,
две девочки с лукошком земляники
застенчиво стояли в стороне.
В своих платьишках, стираных и старых,
они не зазывали никого,
два маленькие ангела базара,
не тронутые лапами его.
Они об этом думали едва ли,
хозяечки светающих полян,
когда с недетским тщаньем продавали
ту ягоду по два рубля стакан.
Земли зеленой тоненькие дочки,
сестренки перелесков и криниц,
и эти их некрепкие кулечки
из свернутых тетрадочных страниц,
где тихая работа семилетки,
свидетельства побед и неудач
и педагога красные отметки
под кляксами диктантов и задач…
Проехав чуть не половину мира,
держа рублевки смятые в руках,
шли прямо к их лукошку пассажиры
в своих пижамах, майках, пиджаках.
Не побывав на маленьком вокзале,
к себе кулечки бережно прижав,
они, заметно подобрев, влезали
в уже готовый тронуться состав.
На этот раз, не поддаваясь качке,
на полку забираться я не стал —
ел ягоды. И хитрые задачки
по многу раз пристрастно проверял.
1957 Иркутск
112. УГОЛЬ
На какой – не запомнилось – стройке
года три иль четыре назад
мне попался, исполненный бойко,
безымянной халтуры плакат.
Без любви и, видать, без опаски
некий автор, довольный собой,
написал его розовой краской
и добавил еще голубой.
На бумаге, от сладости липкой,
возвышался, сияя, копер,
и конфетной сусальной улыбкой
улыбался пасхальный шахтер.
Ах, напрасно поставил он точку!
Не хватало еще в уголке
херувимчика иль ангелочка
с обязательством, что ли, в руке…
Ничего от тебя не скрывая,
заявляю торжественно я,
что нисколько она не такая,
горняков и шахтеров земля.
Не найдешь в ней цветов изобилья,
не найдешь и садов неземных —
дымный ветер, замешенный пылью,
да огни терриконов ночных.
Только тем, кто подружится с нею,
станет близкой ее красота.
И суровей она, и сильнее,
чем подделка дешевая та.
Поважнее красот ширпотреба,
хоть и эти красоты нужны,
по заслугам приравненный к хлебу
черный уголь рабочей страны.
Удивишься на первых порах ты,
как всесильность его велика.
Белый снег, окружающий шахту,
потемнел от того уголька.
Здесь на всем, от дворцов до палаток,
что придется тебе повстречать,
ты увидишь его отпечаток
и его обнаружишь печать.
Но находится он в подчиненье,
но и он покоряется сам
человечьим уму и уменью,
человеческим сильным рукам.
Перед ним в подземельной темнице
на колени случается стать,
но не с тем, чтоб ему поклониться,
а затем, что способнее брать.
Ничего не хочу обещать я,
украшать не хочу ничего,
но машины и люди, как братья,
не оставят тебя одного.
И придет, хоть не сразу, по праву
с орденами в ладони своей
всесоюзная гордая слава
в общежитье бригады твоей.
1957
113. ШЕСТИДЮЙМОВКА «АВРОРЫ»
Зимним утром, неспешно и праздно,
и не весел, и вроде не зол,
размышляя о мелочи разной,
я вдоль невского берега шел.
И как раз в эту самую пору —
я узнал ее всем существом! —
мне впервые явилась «Аврора»
в неподвижном величье своем.
По-граждански нескладно одетый,
замирая от счастья тайком,
шел я тихо по палубе этой,
запорошенной мирным снежком.
И потом, оглянувшись неловко,
в тишине, словно мальчик какой,
легендарной той шестидюймовки
я несмело коснулся рукой.
Сразу пальцы недвижными стали,
я не смог их тогда развести.
Ощущение бури и стали
я унес осторожно в горсти.
Что мне мелкое счастье и горе,
что с того, что сутулиться стал,
если я на самой на «Авроре»
озаренный и бледный стоял!
И меня через долы и горы
вместе с русским народом ведет
указующий палец «Авроры»,
устремленный – всё время! – вперед.
1957 Ленинград
114. СПУТНИК
Мы утром пока еще смутно
увидеть сегодня могли,
как движется маленький спутник —
товарищ огромной земли.
Хоть он и действительно малый,
но нашею жизнью живет.
Он нам посылает сигналы,
и их принимает народ.
Эпоха дерзаний и странствий,
ты стала сильнее с тех пор,
когда в межпланетном пространстве
душевный пошел разговор.
Победа советского строя,
путь в дальнее небо открыт —
об этом звезда со звездою
по-русски сейчас говорит.
1957
115. ДАЕШЬ!
Купив на попутном вокзале
все краски, что были, подряд,
два друга всю ночь рисовали,
пристроясь на полке, плакат.
И сами потом восхищенно,
как знамя пути своего,
снаружи на стенке вагона
приладили молча его.
Плакат удался в самом деле,
мне были как раз по нутру
на фоне тайги и метели
два слова: «Даешь Ангару!»
Пускай, у вагона помешкав,
всего не умея постичь,
зеваки глазеют с усмешкой
на этот пронзительный клич.
Ведь это ж не им на потеху
по дальним дорогам страны
сюда докатилось, как эхо,
словечко гражданской войны.
Мне смысл его дорог ядреный,
желанна его красота.
От этого слова бароны
бежали, как черт от креста.
Ты сильно его понимала,
тридцатых годов молодежь,
когда беззаветно орала
на митингах наших: «Даешь!»
Винтовка, кумач и лопата
живут в этом слове большом.
Ну что ж, что оно грубовато, —
мы в грубое время живем.
Я против словечек соленых,
но рад побрататься с таким:
ведь мы-то совсем не в салонах
историю нашу творим.
Ведь мы и доныне, однако,
живем, ни черта не боясь.
Под тем восклицательным знаком
Советская власть родилась!
Наш поезд всё катит и катит,
с дороги его не свернешь,
и ночью горит на плакате
воскресшее слово – «Даешь!».
1957 Поезд «Москва – Лена»
116. В ДОРОГЕ
Шел поезд чуть ли не неделю.
За этот долгий срок к нему
привыкнуть все уже успели,
как к общежитью своему.
Уже опрятные хозяйки,
освоясь с поездом сполна,
стирали в раковинах майки
и вышивали у окна.
Уже, как важная примета
организации своей,
была прибита стенгазета
в простенке около дверей.
Своя мораль, свои словечки,
свой немудреный обиход.
И, словно где-то на крылечке,
толпился в тамбуре народ.
Сюда ребята выходили
вести солидный разговор
о том, что видели, как жили,
да жечь нещадно «Беломор».
Здесь пели плотные подружки,
держась за поручни с бочков,
самозабвенные частушки
под дробь высоких каблучков.
Конечно, это вам не в зале,
где трубы медные ревут:
они не очень-то плясали,
а лишь приплясывали тут.
Видать, еще не раз с тоскою
парнишкам в праздничные дни
в фабричном клубе под Москвою
со вздохом вспомнятся они.
…Как раз вот тут-то между нами,
весь в угле с головы до ног,
блестя огромными белками,
возник внезапно паренек.
Словечко вставлено не зря же —
я к оговоркам не привык,—
он не вошел, не влез и даже
не появился, а возник.
И потеснился робко в угол.
Как надо думать, оттого,
что в толчее мельчайший уголь
с одежки сыпался его.
Через минуту, к общей чести,
все угадали без труда:
он тоже ехал с нами вместе
на Ангару, в Сибирь, туда.
Но только в виде подготовки
бесед отнюдь не посещал
и никакой такой путевки
ни от кого не получал.
И на разубранном вокзале,
сквозь полусвет и полутьму,
его друзья не целовали
и туша не было ему.
Какой уж разговор об этом!
Зачем лукавить и ханжить?
Он даже дальнего билета
не мог по бедности купить.
И просто ехал верным курсом
на крыше, в угольной пыли,
то ль из орловской, то ль из курской,
мне не запомнилось, земли.
В таком пути трудов немало.
Не раз на станции большой
его милиция снимала
и отпускала: бог с тобой!
И он, чужих чураясь взглядов,
сторонкой обходя вокзал,
как будто это так и надо,
опять на крышу залезал.
И снова на железной койке
дышал осадками тепла.
Его на север жажда стройки,
как одержимого, влекла.
Одним желанием объятый,
одним движением томим…
Так снилась в юности когда-то
Магнитка сверстникам моим.
В его глазах, таких открытых,
как утром летнее окно,
ни зависти и ни обиды,
а дружелюбие одно.
И – никакого беспокойства,
и от расчета – ничего.
Лишь ожидание геройства
и обещание его.
1957 Поезд «Москва – Лена»
117. В АЛМА-АТИНСКОМ САДУ
Вот в этот сад зеленовязый,
что мягким солнцем освещен,
когда-то, верится не сразу,
был вход казахам воспрещен.
Я с тихой болью представляю,
как вдоль ограды городской
они, свои глаза сужая,
шли молчаливо стороной.
На черной жести объявленье
торчало возле входа в сад.
Но в этом давнем униженье
я и чуть-чуть не виноват…
Сквозь золотящуюся дымку,
как братья – равные во всем, —
с казахским юношей в обнимку
по саду этому идем.
Мы дружим вовсе не для виду,
взаимной нежности полны;
нет у него ко мне обиды,
а у меня пред ним – вины.
Без лести и без снисхождения —
они претят душе моей —
мы с ним друзья по уваженью,
по убежденности своей.
И это ведь не так-то мало.
Недаром, не жалея сил,
нас власть Советская сбратала,
Ильич навеки подружил.
1957 Казахстан
118. ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА
Как золотящаяся тучка,
какую сроду не поймать,
мне утром первая получка
сегодня вспомнилась опять.
Опять настойчиво и плавно
стучат машины за стеной,
а я, фабзавучник недавний,
стою у кассы заводской.
И мне из тесного оконца
за честный и нелегкий труд
еще те первые червонцы
с улыбкой дружеской дают.
Мне это вроде бы обычно,
и я, поставя росчерк свой,
с лицом, насильно безразличным,
ликуя, их несу домой.
С тех пор не раз, – уж так случилось,
тут вроде нечего скрывать, —
мне в разных кассах приходилось
за песни деньги получать.
Я их писал не то чтоб кровью,
но всё же времени черты
изображал без суесловья
и без дешевой суеты.
Так почему же нету снова
в день гонорара моего
не только счастья заводского,
но и достоинства того?
Как будто занят пустяками
средь дел суровых и больших,
и вроде стыдно жить стихами,
и жить уже нельзя без них.
1957
119. НАСТОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Совсем недавно это было:
моя подруга, как и встарь,
мне зимним утром подарила
настольный малый календарь.
И я, пока еще не зная,
как дальше сложатся они,
уже сейчас перебираю
неспешно будущие дни.
И нахожу небезучастно
средь предстоящих многих дат
и праздники расцветки красной,
и дни рождений и утрат.
Сосредоточась, брови сдвинув,
уйдя в раздумия свои,
страны листаю годовщины,
как будто праздники семьи.
Редактора́ немало знали, —
они подкованный народ, —
однако же не угадали,
что год грядущий принесет.
Страна, где жил и умер Ленин,
союз науки и труда,
внесет, конечно, добавленья
в наш год, как в прошлые года.
Весь устремись к свершеньям дальним,
еще никак не знаменит,
уже в какой-нибудь читальне
ученый юноша сидит.
Сощурившись подслеповато,
вокруг не слыша ничего,
он для страны готовит дату
еще открытья одного.
Победы новые пророча
в краю заоблачных высот,
уже садится где-то летчик
в пока безвестный самолет.
Строители, работой жаркой
встречая блещущий январь,
внесут, как в комнату подарки,
свои поправки в календарь.
Уже, в своем великолепье,
свободной радости полна,
рвет перержавленные цепи
колониальная страна.
Отнюдь не праздный соглядатай,
морозным утром, на заре,
я эти будущие даты
уже нашел в календаре.
Я в них всей силой сердца верю,
наполнен ими воздух весь.
Они уже стучатся в двери,
они уже почти что здесь.
1957
120. СТОЛОВАЯ НА ОКРАИНЕ
Люблю рабочие столовки,
весь их бесхитростный уют,
где руки сильные неловко
из пиджака или спецовки
рубли и трешки достают.
Люблю войти вечерним часом
в мирок, набитый жизнью, тот,
где у окна стеклянной кассы
теснится правильный народ.
Здесь стены вовсе не богаты,
на них ни фресок, ни ковров —
лишь розы плоские в квадратах
полуискусных маляров.
Несут в тарелках борщ горячий,
лапша колышется, как зной,
и пляшут гривенники сдачи
перед буфетчицей одной.
Тут, взяв, что надо, из окошка,
отнюдь не кушают – едят,
и гнутся слабенькие ложки
в руках окраинных девчат.
Здесь, обратя друг к дружке лица,
нехитрый пробуя салат,
из магазина продавщицы
в халатах синеньких сидят.
Сюда войдет походкой спорой,
самим собой гордясь в душе,
в таком костюмчике, который
под стать любому атташе,
в унтах, подвернутых как надо,
с румянцем крупным про запас,
рабочий парень из бригады,
что всюду славится сейчас.
Сюда торопятся подростки,
от нетерпенья трепеща,
здесь пахнет хлебом и известкой,
здесь дух металла и борща.
Здесь всё открыто и понятно,
здесь всё отмечено трудом,
мне все близки и все приятны,
и я не лишний за столом.
1958








