Стихотворения и поэмы
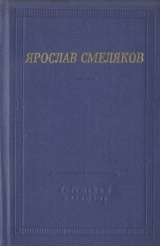
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
16. ЛЮБКА
Посредине лета
высыхают губы.
Отойдем в сторонку,
сядем на диван.
Вспомним, погорюем,
сядем, моя Люба.
Сядем посмеемся,
Любка Фейгельман!
Гражданин Вертинский
вертится. Спокойно
девочки танцуют
английский фокстрот.
Я не понимаю,
что это такое,
как это такое
за сердце берет?
Я хочу смеяться
над его искусством,
я могу заплакать
над его тоской.
Ты мне не расскажешь,
отчего нам грустно,
почему нам, Любка,
весело с тобой?
Только мне обидно
за своих поэтов.
Я своих поэтов
знаю наизусть.
Как же это вышло,
что июньским летом
слушают ребята
импортную грусть?
Вспомним, дорогая,
осень или зиму,
синие вагоны,
ветер в сентябре,
как мы целовались,
проезжая мимо,
что мы говорили
на твоем дворе.
Затоскуем, вспомним
пушкинские травы,
дачную платформу,
пятизвездный лед,
как мы целовались
у твоей заставы,
рядом с телеграфом,
около ворот.
Как я от райкома
ехал к лесорубам.
И на третьей полке,
занавесив свет:
«Здравствуй, моя Любка»,
«До свиданья, Люба!» —
подпевал ночами
пасмурный сосед.
И в кафе на Трубной
золотые трубы, —
только мы входили, —
обращались к нам:
«Здравствуйте,
пожалуйста,
заходите, Люба!
Оставайтесь с нами,
Любка Фейгельман!»
Или ты забыла
кресло бельэтажа,
оперу «Русалка»,
пьесу «Ревизор»,
гладкие дорожки
сада «Эрмитажа»,
долгий несерьезный
тихий разговор?
Ночи до рассвета,
до моих трамваев.
Что это случилось?
Как это поймешь?
Почему сегодня
ты стоишь другая?
Почему с другими
ходишь и поешь?
Мне передавали,
что ты загуляла —
лаковые туфли,
брошка, перманент.
Что с тобой гуляет
розовый, бывалый,
двадцатитрехлетний
транспортный студент.
Я еще не видел,
чтоб ты так ходила —
в кенгуровой шляпе,
в кофте голубой.
Чтоб ты провалилась,
если всё забыла,
если ты смеешься
нынче надо мной!
Вспомни, как с тобою
выбрали обои,
меховую шубу,
кожаный диван.
До свиданья, Люба!
До свиданья, что ли?
Всё ты потопила,
Любка Фейгельман.
Я уеду лучше,
поступлю учиться,
выправлю костюмы,
буду кофий пить.
На другой девчонке
я могу жениться,
только ту девчонку
так мне не любить.
Только с той девчонкой
я не буду прежним.
Отошли вагоны,
отцвела трава.
Что ж ты обманула
все мои надежды,
что ж ты осмеяла
лучшие слова?
Стираная юбка,
глаженая юбка,
шелковая юбка
нас ввела в обман.
До свиданья, Любка,
до свиданья, Любка!
Слышишь?
До свиданья,
Любка Фейгельман!
<1934>
17. ПРО ТОВАРИЩА
1
Как бывало – с полуслова,
с полуголоса поймешь.
2
Мимо города Тамбова,
мимо города другого
от товарища Боброва
с поручением идешь.
Мы с тобой друзьями были
восемь месяцев назад,
до рассвета говорили,
улыбались невпопад.
А теперь гремят колеса,
конь мотает головой.
Мой товарищ с папиросой
возвращается домой.
Мост качается.
И снова
по бревенчатым мостам,
по дорогам,
по ковровым,
отцветающим
и снова
зацветающим цветам.
Он идет неколебимо
и смеется сам с собой,
мимо дома,
мимо дыма
над кирпичною трубой.
Над мальчишками летает
настоящий самолет.
Мой товарищ объясняет,
что летает, как летает,
и по-прежнему идет.
Через реки,
через горы…
Пожелавшим говорить
подмигнет
и с разговором
разрешает прикурить.
И, вдыхая ветер падкий,
через северную рожь
мимо жнейки,
мимо жатки,
мимо женщины идешь.
Посреди шершавой мяты,
посреди полдневных снов,
мимо будки,
мимо хаты,
мимо мокрого халата
и развешанных штанов.
Он идет, шутя беспечно.
Встретится ветеринар.
Для колхозника сердечно
раскрывает портсигар.
Мимо едут на подводах,
сбоку кирпичи везут.
Цилиндрическую воду
к рукомойникам несут.
Дожидаясь у колодца,
судомойка подмигнет.
Мой товарищ спотыкнется,
покраснеет, улыбнется,
не ответит.
И пойдет,
вспоминая про подругу,
через полдень,
через день,
мимо проса,
мимо луга —
по растянутому кругу
черноземных деревень.
Мимо окон окосевших
он упрямо держит путь.
Мимо девочки, присевшей
на минутку отдохнуть.
Мимо разных публикаций,
мимо тына,
мимо тени,
мимо запаха акаций
и обломанной сирени.
Он идет,
высокий, грузный,
и глядит в жилые стекла,
мимо репы и капусты,
сбоку клевера и свеклы,
мимо дуба,
мимо клена.
И шуршат у каблуков
горсти белых
и зеленых,
красных,
черных,
наклоненных,
желтых,
голубых,
каленых
перевернутых цветов.
Так, включившийся в движенье,
некрасивый и рябой,
ты проходишь с наслажденьем
мир,
во всех его явленьях
понимаемый тобой.
3
Ты идешь, не зная скуки,
под тобой скрипит трава.
Над тобой худые руки
простирают дерева.
Ты идешь, как победитель,
вдоль овса и ячменя,
мой ровесник и учитель,
забывающий меня.
По тропинке,
по ухабам,
мимо яров,
сбоку ям.
Соловьи поют.
И бабы
подпевают соловьям.
4
Снова речка,
снова версты,
конь с резиновой губой.
Только небо, только звезды
над тяжелой головой.
Ты идешь
и напеваешь
про сады и про луну.
Ты поешь и вспоминаешь
Аграфену Ильину.
Не она ль в селе Завьялы,
от предчувствия бледна,
тихо ставни открывала
и сидела у окна?
Не она ль, витую косу
распуская для красы,
сторожила у откоса
золотую папиросу
и колючие усы?
Тихое перемещенье
звезд от дома до реки.
Груню в легкое смущенье
приводили светляки.
Ей и спится и не спится.
«Неужели ты отвык?
Не просохли половицы,
не стоптался половик.
Неужели позабудешь,
как дышала чесноком?
Нешто голову остудишь
полотняным рушником?
Ты войди ко мне, как раньше,
дергая больным плечом,
громыхая сапогами
и брезентовым плащом.
Для тебя постель стелила,
приготовила кровать.
Вымойся. Скажи, что видел.
Оставайся ночевать.
Где ж ты ходишь, беспокойный?
С кем гуторишь?
Что поешь?»
5
Мимо озера большого
ты по августу идешь.
Как с тобой в одной бригаде
мы ходили, славя труд,
как в Тамбове на параде
отделенные идут.
Ты идешь.
И ты не слышишь,
как проходят впереди,
как на ясенях, на крышах
начинаются дожди.
Ты не думаешь, не знаешь,
что, заслышавши тебя,
два врага одновременно
подымают два ружья.
Что один из них степенно
наблюдает свет звезды,
а другой из них считает
увезенные пуды.
Что другой оглох от страха,
ты не понял.
На тебя
двое сволочей с размаху
подымают два ружья.
Ты уже не видишь света,
ты уже не слышишь слов…
Два удара.
Два букета
незавязанных цветов.
Два железных поцелуя,
две последние черты.
Упадешь ты, негодуя,
в придорожные цветы.
Упадешь,
костистый, белый,
руку грузную подмяв,
дел последних не доделав,
слов прощальных не сказав.
Дернувшись,
принявши пули,
ты, как буря, упадешь.
Все устали, все уснули,
слушая сухую рожь.
Слышен запах крови сладкий.
Смерть.
Заря.
И, наконец,
под одним из них вприсядку
пляшет рыжий жеребец.
6
Дождь стоит у переправы,
затянувшийся, косой.
Утро.
Областные травы
пересыпаны росой.
Утро.
Бьется теплый аист
у поверженной земли.
Над тобою, задыхаясь,
прошумели журавли.
Прыгает железный ворон
и косится на тебя,
да проходит эскадрилья,
нагибаясь и гудя.
Ты лежишь, откинув руку,
посреди цветов,
пока
около тебя не станет
колесо грузовика.
Ты лежишь в гробу дубовом,
неподвижен и угрюм.
Не к лицу тебе, товарищ,
сшитый плотником костюм.
Рядом с гробом девка бьется
непокрытой головой.
Опустив глаза, клянемся
выдержать тяжелый бой.
Мы подымемся и выйдем
и проходим темноту.
Опустив глаза, мы видим
нашу честную мечту.
От совхоза и завода,
под звездою и дождем.
Стань, земля!
Под непогодой
мы по осени идем.
<1934>
18. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДИМИТРОВА ПОСЛЕ ЛЕЙПЦИГСКОГО ПРОЦЕССА
Так мне кажется —
сердце тише,
придавив
неокрепший лед,
над высокой
немецкой крышей
подымается
самолет.
Восемь парней,
глазам не веря,
зубы сжав,
говорят:
«Пока!»
Из окна кабинета
Геринг
злобно смотрит
на облака.
…Между зимними облаками
он летит,
величав и прост,
над заводом
и над лесами,
у еще
непогасших звезд.
Он летит,
приминая тучи,
он крыло над Москвой
простер.
И ребята с улыбкой лучшей
слышат тихий его мотор.
Вечер. Ночь.
Через ветер черный
прямо в руки мои
идет
трехмоторный,
пятимоторный
потрясающий самолет.
Тяжело
подымая брови,
улыбаясь
моей стране,
прямо с неба
идут герои,
похудевшие в тишине.
И под небом
Москвы отверстым,
на тебя
устремивши взгляд,
краснопресненские
оркестры
задыхаются
и молчат.
Мы встречаем тебя
снегами,
мы приносим тебе
цветы.
Мы гордимся тобой,
и нами,
вероятно,
гордишься ты.
Снег летит
под больные ноги.
Стань прямей,
посмотри кругом —
мы тебе отдаем
дороги
и сады свои
отдаем.
Стали химики
и хлеборобы.
Что сказать,
если вы дошли
через тюрем
глухую злобу
до прекрасной
Большой земли?
Что сказать мне
к такому часу,
чем похвастать?
Прости меня,
если нету в моих
запасах
слов,
достойных такого дня.
Если я,
рассуждая здраво,
мир почувствовал
в тишине.
Это счастье мое.
И, право,
счастья этого хватит мне.
1934
19. ПРОЩАНЬЕ
Надо тише.
Вино допито.
Бьют часы.
Через два часа
мы уедем.
Стучат копыта.
Парни трогают пояса.
Рассветает.
Идет по кругу
ветер прямо через сады.
Я за яблочный ветер с юга
подымаю стакан воды.
Пододвинь-ка поближе чайник.
Я и чаю, и пиву рад.
Ну, товарищи,
на прощанье,
за разлуку, как говорят!
Пусть худые дела и свары
не коснутся твоей руки.
За работу твою. Амбары.
И отбойные молотки.
Я стою среди вас нездешний
и не в силах про вас забыть.
За бухгалтера?
Мне, конечно,
за бухгалтера надо пить.
Только где ты, улыбка девья?
Спи, Наташа.
Здесь люди пьют
за деревья.
Пускай деревья,
чуть подрагивая, растут.
Пусть поется песня простая
про железо в твоей печи.
Это каменщики, играя,
ставят легкие кирпичи.
Это кровельщики слезают
с крыши, темные от жары.
Это плотники подымают
годовалые топоры.
И стоят посреди заката,
крыты грохотом, как грома,
невысокие, но богато
окантованные дома.
А у двери, как победитель,
зубы сжав, ко всему готов,
в полосатых штанах строитель
первых в области городов.
Перед ним пролетают птахи,
отражаясь в его очках.
Он стоит в голубой рубахе,
в горпарткомовских сапогах.
Он стоит. Потолки готовы.
Окна сбиты. Белить пора.
Я бы выпил за Иванова,
тихорецкого маляра.
Верно, можно сказать и лучше:
вставить лозунг, крикнуть: «Вперед!»
Сбоку почты большая туча,
как большая беда, идет.
Мы уедем.
Сквозь полдень пылкий,
через осень и снегопад.
Посмотри —
на моей бутылке
звезды утренние стоят.
Пусть тебя не коснется лихо.
До свиданья!
Глазом косым
я смотрю на часы.
И тихо
останавливаются часы.
Всё стоит. Все сидят, как боги,
и сомненье их не берет.
Ветер стал посреди дороги
и не хочет идти вперед.
Тихо скрипнув, замолкли ставни.
Лошадь стала. Сучок упал.
Ну а поезд?
Он и подавно,
не вздохнув и не дрогнув, встал.
Это действует черная сила.
Дым стоит.
Чуть правей моста
птица дернулась
и застыла,
крылья желтые распластав.
И октябрьские, едва ли
не достигнув моей земли,
как воронежский поезд, стали
и не двигаются дожди.
Так запомню я день вчерашний.
Сердце стало. Молчит земля.
Что я сделал?!
Вставай. Мне страшно.
Подымайтесь, мои друзья!
Поезд двинется.
Тихо, криво
поезд тронется.
Через час
поезд тронется.
Выпьем пива,
выпьем пива в последний раз.
Выбегают к составу дети.
Через тонкий осенний лед
поезд тронется.
На рассвете
поезд двинется и пойдет.
Прогремит он неколебимо,
спотыкаясь.
Вздымая прах.
Оставляя букеты дыма
на девичьих худых руках.
Простучит.
Задыхаясь. Воя.
Расшатавшийся. Кривой.
Между звездами и землею,
между осенью и зимой,
между Горловкой и Москвой.
Прогремит.
Как я рад увидеть
реки, мост.
По хребтам мостов
он стучит.
Предлагаю выпить
за движение поездов.
За окраску вагонов спальных,
против нажитого угла.
За дожди в сентябре.
За дальний,
неизвестный полет щегла.
Я глядел на тебя часами,
я вот пью за твои глаза,
за дорогу с горы,
за сани,
за колеса и тормоза.
Пусть быки опускают выи,
вместо низкого потолка
пусть над нами идут большие
украинские облака.
Как собаки, за нами версты
пусть бегут.
Разбивая чад,
надо мной боевые звезды
подымаются и стучат.
Поворачиваются колеса.
Ходят воды.
Идет отряд.
Пляшет девочка.
Папиросы
зажигаются и горят.
Да огонь, подымаясь, печи
раскаляет.
Идут года.
До свиданья!
До новой встречи
на строительстве.
Навсегда.
1934
20. СЛАВА
Он стоит под апрельским ветром,
мой высокий московский дом.
Тихо.
Тысячи километров
начинаются за окном.
Приминая песок и травы,
через села и города
продвигается наша слава,
нерушимая никогда.
Вот на севере пламенеет.
Вот проходит без лишних слов.
Гитлер кашляет и бледнеет
От тяжелых ее шагов.
Слева вишни стоят.
А справа
льды проходят у берегов.
Подымается наша слава
выше перистых облаков.
Продвигается наша слава
через северные снега.
Не кончается наша слава
пулей вылезшего врага.
По утрам, нарушая дрему,
раздвигаются берега.
Ледяные аэродромы,
гололедица и пурга.
Вечерами сквозь ветер сладкий
дышат стужами города.
Облицованные палатки,
замерзающая вода
да собаки, с тоски худые.
Как ты сумрачна и темна!
Не над нами ли ледяные
руки подняла тишина?
И не нами ли бревна вбиты,
и не мы ли стоим сейчас,
как пред совестью, перед Шмидтом,
выполняя его приказ?
И не мы ли – опять – залетный
слышим дым?
Небеса поют.
Наши летчики самолеты
над холодной водой ведут.
Наши летчики через беды
проходили. И до земли
всех челюскинцев – как победу —
победители донесли.
Вот стоят, отвечая сразу
всем.
Красивы и высоки,
кочегары и водолазы,
машинисты и моряки.
Нашим юношам стужи снятся,
Ледоколы, снега…
Ты спишь.
Мы ушли.
Мы придем смеяться
над тобой, снеговая тишь.
Мы дойдем до тебя
и – злую —
скрутим, свяжем, пройдем по дну,
покорившие ледяную,
ледовитую тишину.
Так как это пока начало,
так как, образно говоря:
море Белое нас качало —
мы качаем теперь моря.
1934
21. «Гаснут звезды…»
Гаснут звезды.
Молчанье.
Низом
ходит стужа,
стоит плетень.
Всё.
По-моему, словом Лиза
начинается светлый день.
Наша улица загудела.
Это значит —
она идет.
Кофта белая,
пояс белый.
Остановится! Повернет?
Нет, ей некогда.
Не затем ли
я лишился привычных слов,
чтоб страдали и пели земли
от неслышных ее шагов.
Чтобы дверь испытала муку,
постовые лишились сна,
оттого что, откинув руку,
через площадь идет она.
Застонали в чехлах гобои,
заворочались молотки.
Небо синее – в голубое
превращается от тоски.
Вот проходит.
У поворота
начинают сиять цветы.
Прямо в ноги ей самолеты
опускаются с высоты.
А подушка у изголовья
чуть примята —
скрипит кровать.
Что мне делать
с такой любовью?
Я боюсь ее рифмовать.
1934
22. ГОРОД МОСКВА
Город мой весенний,
звонкотрубый,
вижу я, как через дальний гуд,
в тишине, гнилые скаля зубы,
по мостам опричники идут.
Слышно мне,
как воск от света тает,
брага плещется на дне ковша.
Как, оставив землю, отлетает
длинная боярская душа.
Так стоит он —
темный город выжиг,
и плывет по небу пустырей
скорбный храп задрипанных ярыжек,
сытый гул церквушек и церквей.
И холопы думают сурово
грозные, жестокие слова.
Но въезжает клетка Пугачева,
разинская меркнет голова.
И стоит опять под зимним небом,
жрет без просыпу
и спит без снов
город ханжества, тоски, молебнов,
старых девок, царских кабаков…
А с иконы бог,
усталый, кроткий,
смотрит на разбитые мечты,
на тряпье и стужу,
на чахотку,
на хребты и руки нищеты.
И, прельстившись мукой человечьей,
услыхав стенанья и хулу,
он благословляет
снег и вечер,
потное ярмо и кабалу.
Но встает —
опять, еще и снова,
оплатив давнишние счета,
город мой – помолодевший, новый,
город мой – звучащая мечта.
И шумит крылами ветер горький,
северный,
идущий от морей.
Над заводом АМО,
над Трехгоркой
и над типографией моей.
И, улыбкой освещая лица,
радостные, знающие труд,
в шубах, в шапках, в жарких рукавицах,
по вечерним улицам столицы
верные хозяева идут.
Город мой, вещающий ученый,
на пороге солнечных времен,
опоясан тополем и кленом,
белыми снегами озарен.
Каменный, железный и стеклянный,
над тобой созвездия горят.
Про тебя за синим океаном
старики и дети говорят.
1934
23. «Вот женщина…»
Вот женщина,
которая, в то время
как я забыл про горести свои,
легко несет недюжинное бремя
моей печали и моей любви.
Играет ветер кофтой золотистой.
Но как она степенна и стройна,
какою целомудренной и чистой
мне кажется теперь моя жена!
Рукой небрежной волосы отбросив,
не опуская ясные глаза,
она идет по улице,
как осень,
как летняя внезапная гроза.
Как стыдно мне,
что, живший долго рядом,
в сумятице своих негромких дел
я заспанным, нелюбопытным взглядом
еще тогда ее не разглядел!
Прости меня за жалкие упреки,
за вспышки безрассудного огня,
за эти непридуманные строки,
далекая красавица моя.
Между 1935 и 1937
24. Я ВСПОМИНАЮ…
Я вспоминаю в государстве льдов,
в далеком царстве вечной мерзлоты,
как вспоминают первую любовь,
родной земли весенние цветы.
Я вижу в тишине, издалека,
вечерние созвездья табака,
черемухи воздушное теченье.
Я вижу город – улицы бегут,
и ветви счастья с ветками сирени
на перекрестках бабы продают.
А мы с тобой всегда цветы любили.
Еще весной, волнуясь и спеша,
подснежники под снегом находили
и ландыши сбирали, не дыша.
Мы шли и шли по перекатам белым,
средь колокольчиков, цветов степных,
и вся округа, всё окрест звенело,
когда усталый ветерок, в несмелом
своем кружении, касался их.
А мы вдвоем, смешные человечки,
всё шли и шли: блаженные, без слов,
по полю, розоватому от гречки
и красному от розовых цветов.
А мы всё шли, сплетая васильки,
не зная жалоб,
позабыв печали,
и круглые холодные венки
обветренные головы венчали.
Передо мною, как в старинной сказке,
коса речная и твоя коса,
анютины бестрепетные глазки
и женщины прозрачные глаза.
Широким взмахом лето устилало
тот путь, которым вместе мы прошли,
И долго ты передо мной стояла,
облокотившись благостно, устало, —
в пыльце цветочной, в земляной пыли.
Между 1935 и 1937
25. МАЙСКИЙ ВЕЧЕР
Солнечный свет. Перекличка птичья.
Черемуха – вот она, невдалеке.
Сирень у дороги. Сирень в петличке.
Ветки сирени в твоей руке.
Чего ж, сероглазая, ты смеешься?
Неужто опять над любовью моей?
То глянешь украдкой. То отвернешься.
То щуришься из-под широких бровей.
И кажется: вот еще два мгновенья,
и я в этой нежности растворюсь, —
стану закатом или сиренью,
а может, и в облако превращусь.
Но только, наверное, будет скушно
не строить, не радоваться, не любить —
расти на поляне иль равнодушно,
меняя свои очертания, плыть.
Не лучше ль под нашими небесами
жить и работать для счастья людей,
строить дворцы, управлять облаками,
стать командиром грозы и дождей?
Не веселее ли, в самом деле,
взрастить возле северных городов
такие сады, чтобы птицы пели
на тонких ветвях про нашу любовь?
Чтоб люди, устав от железа и пыли,
с букетами, с венчиками в глазах,
как пьяные между кустов ходили
и спали на полевых цветах.
1937
26. «Вечерами, листву колыша…»
Вечерами, листву колыша,
я следил у истоков реки,
как один за другим, неслышно,
зажигаются светляки.
Горожанин в пыли дорожной,
отрешившись от всяких дел,
я, не двигаясь, осторожно,
как на счастье, на них глядел.
Куст светил, и пенек светился,
в отдаленье мерцал листок.
Ночью сказочным становился
редкий вырубленный лесок.
У меня на руке дымится
то ли капля холодной воды,
то ли синенькая крупица,
улетевшая от звезды.
И стою я, врагов прощая,
оттого лишь, что тот огонь
так таинственно освещает
человеческую ладонь.
Но недолго он пламенеет,
этот узенький самоцвет:
всё печальнее, всё бледнее,
всё тревожнее слабый свет.
Он теперь уже светит глухо,
он совсем уже не горит.
То ли куколка, то ли муха
на ладони моей лежит…
Нет, не в шутку и не напрасно
я, целуя твои глаза,
всё тревожусь —
как бы не сгасла,
не померкла твоя краса.
1937 (?)
27. МАМА
Добра моя мать. Добра, сердечна.
Приди к ней – увенчанный и увечный —
делиться удачей, печаль скрывать —
чайник согреет, обед поставит,
выслушает, ночевать оставит:
сама – на сундук, а гостям – кровать.
Старенькая. Ведь видала виды,
знала обманы, хулу, обиды.
Но не пошло ей ученье впрок.
Окна погасли. Фонарь погашен.
Только до позднего в комнате нашей
теплится радостный огонек.
Это она над письмом склонилась.
Не позабыла, не поленилась —
пишет ответы во все края:
кого – пожалеет, кого – поздравит,
кого – подбодрит, а кого – поправит.
Совесть людская. Мама моя.
Долго сидит она над тетрадкой,
отодвигая седую прядку
(дельная – рано ей на покой),
глаз утомленных не закрывая,
ближних и дальних обогревая
своею лучистою добротой.
Всех бы приветила, всех сдружила,
всех бы знакомых переженила.
Всех бы людей за столом собрать,
а самой оказаться – как будто! – лишней,
сесть в уголок и оттуда неслышно
за шумным праздником наблюдать.
Мне бы с тобою всё время ладить,
все бы морщины твои разгладить.
Может, затем и стихи пишу,
что, сознавая мужскую силу,
так, как у сердца меня носила,
в сердце своем я тебя ношу.
1938
28. УЧЕНИК ДЖАМБУЛА
Среди писателей Москвы сутулых
сидел свободно, как в степи сидят,
сын Казахстана, ученик Джамбула,
плечистый, пламенный, широкоскулый,
коричневый от солнца азиат.
Глядеть нам на него – не наглядеться.
Так только может мужество на детство —
глаза в глаза – с надеждою глядеть.
А он смотрел с любовью, виновато —
так смотрит мальчик на старшо́го брата,
успевшего в разлуке поседеть.
Как не запеть?
И в маленькой гостиной,
среди цветов и мебели старинной,
запела тонким голоском струна.
И, вторя ей, звучит запев акына,
как строки думы, как напев былины,
как медленно шумящая волна.
И вдруг томленье переходит в бурю.
Певец сидит, косые очи щуря,
рукою темною по струнам бьет.
Что может быть на свете вдохновенней,
чем возрожденного народа гений,
освобожденной музыки полет?
Струна замолкла, и строка уснула,
сидит устало ученик Джамбула,
свой инструмент к колену прислоня.
Лишь крупный рот от радости смеется
лишь сердце переполненное бьется,
и лишь глаза исполнены огня.
1938








