Стихотворения и поэмы
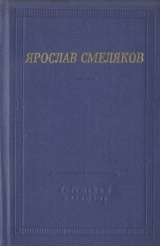
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
С АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
Расул РзаОсман Сарывелли
Без особых забот —
будто нету задания проще —
мягко сел вертолет
на железную площадь.
Вдалеке от земли,
над каспийской колеблемой бездной,
неподвижно стоит
этот остров железный.
Поразило меня
то, что в царстве конструкций и стали
нас цветами живыми —
живыми цветами! – встречали.
Я видал не однажды
цветы на коврах и диванах,
и на клумбах цветы,
и поляны весенних тюльпанов.
Почему же тогда
немудреные ваши букеты
осенили меня,
как открытие новой планеты?
Как негаданно тут,
на расчетливо сжатой площадке,
вы растете, цветы,
словно бы в колыбели нешаткой.
Надо думать, тогда,
в те прошедшие годы, наверно,
не стояла вода
в этих влажных огромных цистернах.
Здесь нефтяник, в тот срок
без воды задыхавшийся тяжко,
получал, как паек,
может, даже неполную чашку.
Этой нормой дневной
привозной родниковой водицы,
обделяя себя,
успевал он с цветами делиться.
Он отсчитывал их
осторожно, с улыбкою хмурой,
капли этой воды —
словно капли целебной микстуры.
И, наверно, потом те ростки,
что пробились наружу,
он своим же платком
заслонял от жары и от стужи.
Пожилой человек,
удивленно, как будто парнишка,
я отсюда гляжу
на сквозные окружные вышки.
Над моей головой,
там, где облачко белое тает,
высоко-далеко
непоспешно орлы пролетают.
У меня на груди
(аромат ваш нестроен, но тонок)
вы уснули, цветы,
как доверчивый тихий ягненок.
Я с цветами стою,
попирая подножье стальное.
…Пушкин как-то сказал
величаво: «Кавказ подо мною».
Мне случалось не раз
(вроде не к чему тут запираться),
многоглавый Кавказ,
на вершины твои забираться.
Мне случалось видать,
как, пространство тревогой наполнив,
не вверху, а внизу
трепетало сверкание молний.
И о том еще речь —
это тоже со мною бывало! —
что и радуга с плеч
широко, как халат, ниспадала.
Но какой же поэт —
расскажите мне, все остальные,—
строфы песни слагал,
попирая опоры стальные!
Вдалеке от земли,
до отказа меня переполнив,
эти строки пошли,
догоняя друг друга, как волны.
Словно в творческом сне,
подчинившийся силе рабочей,
это Каспий во мне
усмиренно, но сильно клокочет.
<1962>
Черное море сегодня тьмы первозданной черней.
Черная буря взыграла – страшная буря морей.
Штормом подъятые снизу,
выше скалистых громад,
пенные черные волны
в самое небо летят.
Это подводные тайны
с вечного дна поднялись
и с угрожающим ревом
ринулись в темную высь.
С дикой энергией молний —
недалеко до беды —
бьют о прибрежные скалы
снежные горы воды.
…Только лишь море взыграет, только сорвется волна,
словно сорвавшийся с места дикий разбег табуна,—
в бухты спешат пароходы,
в гнезда летят соловьи
и рыбаки выбирают влажные сети свои.
Чайки над самой водою мечутся, мчатся, кричат,
и у деревьев приморских смутно вершины шумят.
Вдруг небеса посветлели.
Средь затуманенных круч
первой вершина Ай-Петри
резко выходит из туч.
Ветер утих беспокойный.
Мирно рокочет волна,
и в успокоенном небе
тихо сияет луна.
Льет она в теплую воду
мелкий серебряный свет,
берег морской засыпая
сотнями новых монет.
…Здесь, на твоем побережье, в сказочном этом краю,
я бы хотел поселиться, жизнь подытожить свою.
Здесь, на твоем побережье,
воздух вдыхая морской,
славлю я мощное море,
ярость его и покой.
И, как орел одинокий,
сидя на гребне скалы,
слушаю пенье морское,
волны его и валы.
С шумной могучей стихией чувствуя дальнюю связь,
думаю я, что от моря жизнь на земле началась.
Долго любуюсь я морем, молча гляжусь в его гладь,
молча брожу побережьем, всё примечая вдали.
Жизни своей не жалея, рад бы ее я отдать
ради вот этой прекрасной, влажной приморской земли.
<1959>
С ЛИТОВСКОГО
Юстинас Марцинкявичус
Отчетливо и сосредоточенно
я произношу одно слово: солнце.
И сразу же светлеют перелески и нивы, улицы и переулки.
Спросонья человек на кровати
почесывает свою волосатую грудь и сладко зевает.
Вот он промывает водой глаза,
чтобы глядеть на солнце,
и тщательно моет большие руки,
готовясь ими обнять землю.
А солнце уже трепещет в оконных стеклах,
и дымящаяся на столе миска
полна до краев солнечным супом.
Садись, человек, и неторопливо
ешь это солнце из круглой миски —
ведь тебе самому надо
целый день светить и светиться.
Вот дровосек берет пилу и топор.
Вот пахарь, начиная борозду, понукает лошадь.
Вот машинист влезает в кабину портального крана.
Вот токарь подходит к своему станку,
и горняки, пересмеиваясь, опускаются в шахту.
А вот каменщик, весело посвистывая,
кладет кирпичную стену;
вместе со стеной он поднимается выше и выше
и наконец заслоняет солнце.
Я не вижу тебя, небесное светило,
я вижу работающего человека
и утверждаю, что сейчас он больше солнца!
…Ты помнишь, солнце, как Маяковский
однажды пригласил тебя попить чаю
и ты добрый час проболтало с поэтом?
Если каменщик во время перерыва,
вымыв запачканные раствором руки,
пригласит тебя, солнце, с ним пообедать,
не гордись и не чванься – спускайся на землю.
Ведь у нас почти что все люди – поэты.
И каменщик этот самый уже построил
большую поэму домов и улиц.
Отпробуй его честного хлеба,
поговори с ним о стройке и свете.
Я уже вижу, как вы оба сидите на кирпичах,
с аппетитом едите хлеб
и запиваете его холодной водою.
Гляжу я на вас и не могу ответить:
кто из двоих светлее и ярче —
солнце или человек работы?
<1960>
С МОЛДАВСКОГО
Петру Заднипру
Босое детство на селе
всё чаще видится и снится;
хочу в те дни и к той земле
хотя бы на день возвратиться.
Я был бы так по-детски рад
услышать снова в мирный вечер,
как колокольчики бренчат
на шеях медленных овечьих.
Я б удивиться снова мог,
в сторонке стоя осторожно,
что луч вечерний, как клинок,
уходит в сумрачные ножны.
И, глядя вверх на звездный путь,
и потаенный и знакомый,
вновь на завалинке уснуть
родного маленького дома.
Я сладко спал бы второпях
под тихим небом всей вселенной,
зипун устроив в головах,
дыша прохладою и сеном.
И встал бы снова побыстрей,
когда едва лишь засветлело
и на раките соловей
свой голос пробует несмело.
Необходимо мне сейчас,
все опровергнув возраженья,
в том роднике, как в первый раз,
свое увидеть отраженье.
Пройти бы снова для красы
по полю зябкому умело,
когда все капельки росы
поют, как сельская капелла.
Мне б одного хватило дня,
когда я жил порою вешней
и в школу бабушка меня
гнала с заманчивой черешни.
…Никто меня не держит тут,
я полной пользуюсь свободой, —
вернуться в детство не дают
мне только собственные годы.
<1968>
Целый день она шагает,
и ночами ей не спится.
Время вышло, дорогая,
отдохнуть, угомониться.
По тропинке и дороге,
по жнивью да по пригорку
поспешают эти ноги
от прополки на уборку.
Но они уже устали
и одна другой – по слуху —
ночью жаловаться стали
на азартную старуху.
«Нету отдыха нам сроду,
мы ж теперь не в прежней силе,
и в тепло и в непогоду
сколько верст мы измесили!
Поднимаясь до рассвета,
дотемна ходя полями,
не однажды всю планету
мы промеряли шагами…»
Но старуха непрестанно
всё идет, шепча невнятно,
как волна по океану,
то туда, а то обратно.
Этот путь и эти сроки,
эти тихие деянья
не похожи ли на строки
легендарного сказанья!
<1969>
С ЛАТЫШСКОГО
Ояр Вациетис
Армии еще есть
и, наверное, будут,
но у ракет
нет
и не будет
жесткого и трепетного
живого хвоста,
и у танков
не вырастут
конские гривы.
Кавалерия!
ты отслужила свой срок.
Но нельзя же
расстаться с тобою безмолвно
и позволить, чтоб ты незаметно
ушла.
На гремящих тачанках
везла ты грядущее наше,
на клинках беспощадных
ты ветер свободы несла.
Кони, павшие в битвах,
простите своих конармейцев,
тех, что, руки раскинув,
валились из седел ничком.
Кони, павшие в сечах,
простите героев за то, что
не всегда они
сено умели для вас находить.
Кони! Павшие кони!
Простите нам то, что от пастбищ
в дни войны
вам пришлось
на фашистские танки идти.
Ваши всадники
сами
летели навстречу металлу;
в исторических седлах
вы красные души несли.
Впрочем, вряд ли известно вам,
кони,
что такое душа.
Мы простились.
Уходит со сцены
кавалерия наша,
королева гражданской войны.
Мы простились с тобой.
Но ты врублена шашкой навеки
в нашу память и книги
и в блещущий вечный гранит.
По весенним ночам
оживают бумага и камень,
со страниц и кладбищ
воскрешенное ржанье звучит.
Бьют копытами кони,
почуяв отталую землю,
рвутся в поле…
Им хочется
мирную землю пахать.
<1960>
С КИРГИЗСКОГО
Темиркул УметалиевКубанычбек Маликов
Навеки проклят королевский строй,
нет красоты в короне золотой, —
зачем же ты в своем стихотворенье
сравнил Аркыт с короной, сверстник мой?
Зеленый шум его ветвистых крон
живей и чище всяческих корон.
Мой милый край, наш край высокогорный
из соловьев и листьев сотворен.
И ханы, и цари, и короли
в небытие бесславное ушли,
а ты опять цветешь, благоухая,
лесная сказка неба и земли.
Ты словно свадьба вешняя, Аркыт,
ты всем, прекрасен и для всех открыт.
Трель соловьев твоих, не умолкая,
в моей душе магически звучит.
Мне по сердцу твой лиственный наряд,
естественней, чем он, – найдешь навряд.
Чужды тебе и золото, и пурпур,
продажный блеск покоев и палат.
Твой утренний стремительный ручей
журчит, как песня, в памяти моей.
Я не отдам одной зеленой ветки
за одеянья ханов и царей.
<1962>
Не за бумагой и столом —
Я лириком в то время стал,
Когда взрывчаткой и кайлом
В горах дорогу пробивал.
Пусть о влюбленных день и ночь
Поэты-лирики поют,
А для меня в любом труде
Любовь и лирика живут.
Живи же, лирика моя,
Не угасай, не умирай
И вечным пламенем своим
Сердца и души согревай.
<1962>
С ТАДЖИКСКОГО
Мирзо Турсун-задеАбдумалик Бахори
Могучий дуб, ты прожил семь веков
под сенью проходящих облаков.
Но до сих пор, как в ранние года,
твоя листва шумна и молода.
Случилось мне войти в счастливый день
под эту историческую тень.
Шумит его былинная листва,
как будто бы старинные слова,
и прошлые событья наяву
мне светятся сквозь вечную листву.
Я слушаю его рассказ о том,
как он служил Хмельницкому шатром,
как мчались в битву, выдернув клинки,
чубатые казацкие полки.
Семи столетий ты свидетель был
и ничего на свете не забыл.
Недвижный сторож неба и земли,
перед тобой столетья протекли.
Осталось семь столетий позади
с тех пор, как жил великий Саади.
Здесь расстилался утренний туман,
а там в те дни писался «Гулистан».
Могучий дуб, свидетель тех времен,
ты в будущее время устремлен.
Семьсот метельных приднепровских зим,
и всё же ты остался молодым.
Живи, шуми. И этот братский край
своим зеленым шумом украшай!
<1962>
Шохмузаффар Едгори
Давным-давно, в какой-то прошлый век,
жил одинокий старый человек.
Он жил тихонько в хижине своей
под мирной сенью ивовых ветвей.
Однажды утром, покорясь судьбе,
он срезал посох ивовый себе.
И посох тот лишившемуся сил —
хотя б отчасти – юность возвратил.
Вот почему уже на склоне дней
решил старик проведать сыновей.
И тотчас же – про посох не забудь! —
отправился в благословенный путь.
Вот он уже – а путь неближним был —
на землю Вахша медленно вступил.
Вот он уже, не сразу, а с трудом,
нашел сыновний неприметный дом.
И у калитки – прям, а не сутул —
свой посох в землю вахшскую воткнул.
Гостя в кругу внимательно-родном,
он вспомнил вдруг о посохе своем.
А посох тот, хоть малый срок прошел,
за этот срок едва ли не расцвел.
Из почвы щедрой набираясь сил,
он прямо в недра корни пропустил…
Я вам изустный дедовский рассказ
переложил, как слышал, без прикрас.
Теперь пора о том повествовать,
что самому случилось увидать.
Как тот старик, не в шутку, а всерьез
затосковал я по Долине роз.
И в тот же день, собравшись поскорей,
поехал в гости к родине своей.
В краю освобожденного труда
кипела урожайная страда.
Его народ – а он совсем не мал —
на картах хлопка хлопок собирал.
Трудились тут едва ли не с зари
и героини и богатыри.
Тебя, мой край, в советский этот век
преобразил советский человек.
Отсюдова, как на осенний пир,
везут гранаты и везут инжир.
Из тех траншей, что выкопаны тут,
лимоны золотистые цветут.
Течет отсюда белая мука
и белые потоки молока.
Попробуй-ка исчислить без труда
всё, что дает привахшская страда.
Наверно, нету ни в одной из стран
такой долины, мой Таджикистан.
Она лежит на утренней земле,
как дастархан на праздничном столе.
<1962>
Шествуют куда-то напрямик
оба-два – старуха и старик.
Шествуют бок о бок, не спеша,
как одна взаимная душа.
То ли он наперсницу забот
под руку внимательно ведет;
то ли, понимания полна,
помогает спутнику она.
Смолоду на дворике села
их любовь, как яблонька, росла.
А теперь надежно служит
им обоюдным посохом одним.
<1962>
С ТАТАРСКОГО
Фатих Карим
Не повторяй: «Люблю, люблю»,—
признания – пустяк,
а сердце первую любовь
почувствует и так.
Оно почувствует само —
ты любишь или нет.
Оно не ожидает слов,
без слов дает ответ.
Ты даже не заметишь сам,
опомнясь лишь потом,
как губы сблизятся твои
с ее безмолвным ртом.
Коль полюбил – не разлюби.
Не любит – не тоскуй…
О, буря вешняя любви
и первый поцелуй!
<1957>
Наутро будет грозный бой.
Мне сердце говорит само,
что, может, я сейчас пишу
свое последнее письмо.
Наутро будет шквал огня.
В окошко малое сейчас
на солнце красное гляжу
я, может быть, в последний раз.
Я буду сокрушать врага
и как поэт и как солдат.
А коль погибну – жизнь мою
мои детишки повторят.
Останется весь вешний мир —
благоуханные сады,
и на полянах меж цветов
мои останутся следы.
Не надо плакать надо мной…
Ведь это словно песню спеть —
за счастье Родины своей
на поле боя умереть.
<1968>
Беспросветно дождь осенний
моросит и моросит.
Милый друг раскинул руки,
губы стиснул и молчит.
Что погибнет мой товарищ,
я не думал, не гадал.
От немецкой вражьей пули
на разведке он упал.
От дождя намокли спины.
Все товарищи молчат.
Только скорбные лопаты
в яме глинистой стучат.
Эта страшная работа
нам куда как нелегка:
под молоденькой сосенкой
мы хороним паренька.
Молча мы могилу роем,
ветер стонет и свистит,
да осенний мелкий дождик
моросит и моросит.
<1968>
Сибгат Хаким
С любовью гляжу из окопа
на небо отчизны своей.
Летит высоко надо мною
весенняя стая гусей.
Они возвращаются с юга,
из стран, где зимою живут,
к озерам родным, на которых
тихонько кувшинки цветут.
Эй, гусь, опустись-ка пониже
и сделай, коль можешь, добро:
пошли мне оттуда в подарок
одно снеговое перо.
Я б этим пером поднебесным
сейчас любоваться не стал,
а сразу бы новую песню
народу, любя, написал.
Ведь сам я в боях и атаках
лишь тем и живу и дышу,
что жаркое сердце народа
в груди, словно солнце, ношу.
И, может быть, в подвигах ратных,
в борьбе за народную власть
мне выпадет горькая доля
на землю родную упасть.
Ты, песня, и звонкую радость
и горе мое повторишь…
По озеру плавают гуси,
шумит, не стихая, камыш.
<1968>
Почти что год, как он покинул дом,
уехал из родимой стороны,
но до сих пор, скитаясь по тылам,
еще не нюхал истинной войны.
Я с ним солдатским опытом делюсь —
ох, нелегко он доставался мне:
война на праздник не похожа ведь
и всякое бывает на войне.
«Как хорошо, что я теперь с тобой», —
услышал я его глубокий вздох.
Он торопливо просит: «Объясни,
как ты себя от смерти уберег».
«Сперва прилежно каску я таскал —
и в жаркую погоду и в мороз.
Спасибо, что какой-то весельчак
ее забросил лихо под откос.
Я много верст с винтовкой прошагал,
узнал войну не по страницам книг
и видел столько крови и смертей,
что удивляться этому отвык.
Как выжил я? Не знаю, право, сам:
быть может, мой черед не наступил.
Но до сих пор ни бога, ни горздрав
я о спасенье жизни не молил.
Почетна смерть на поле боевом —
рази врага и умереть не трусь!
Но от тебя мне не к чему скрывать,
что плена я действительно боюсь.
Откуда знать, что будет впереди?
Ведь я тебе еще не рассказал,
что прошлым летом, потеряв своих,
я окруженья чудом избежал.
Вокруг меня сгустилась темнота,
последний луч безжалостно погас.
Подумал я, что он уже настал,
мой смертный срок и мой последний час.
Друг Гарафи, кто спас меня в ту ночь?
Я и теперь не приложу ума:
настойчивость, счастливая судьба
или, быть может, родина сама…»
<1957>
Это было декабрьской порой
на просторе казанских широт.
Завершается двадцать второй,
двадцать третий навстречу идет.
Ветер голода грозно метет
по замолкшим дворам деревень,
с крыш солома ободрана вся,
и разобран на топку плетень.
Серебрящимся светом луна
освещает измученный край,
над Кокушкином молча стоит
и блестит над тобой, Апакай.
Две подруги, две бедных сестры —
две деревни моей стороны,
вам бы только до солнца дожить,
дотянуть до зеленой весны.
Забирает всё круче зима,
всё сильней пробирает мороз…
Отчего ж в это время сюда
вдруг дыханье весны донеслось?
Стало вроде бы сразу теплей,
с окон словно бы стронулся лед,
и, собравшись в просторной избе,
оживился ослабший народ.
Здесь когда-то Владимир Ильич
жил в начале пути своего,
и в историю века вошла
эта первая ссылка его.
Не забыли об этой поре
деревенской земли старики,
ветви зимних склонившихся ив,
берега занесенной реки.
Да, наверно, он помнит и сам,—
быть не может, чтоб он позабыл, —
как с народом тогда толковал,
как по нашим тропинкам ходил.
Хорошо бы добраться к нему,
побеседовать с глазу на глаз:
ты свободу и землю нам дал,
помоги же нам снова сейчас.
Объявился охотный ходок,
собирается в путь второпях,
жаль, гостинца нельзя прихватить —
только ветер один в закромах.
И надежен бывалый ходок,
и дорога как раз хороша,
но в карманах крестьянских пустых
не нашлось для него ни гроша.
Приуныли сперва старики,
но потом, пораскинув умом,
рассудили – хоть в общем письме
рассказать Ильичу обо всем.
…Мы полки чужеземных врагов
разгромили оружьем своим,
и на нашу советскую жизнь
мы твоими глазами глядим.
По широкой дороге твоей
мы сознательно сами идем,
без приказа свое кулачье
осудили бедняцким судом.
(Без чинов, а по-свойски на «ты»
говорили они с Ильичем:
ведь за месяцы ссылки его
стал он вроде бы их земляком.)
В этот черный засушливый год
не видали мы вовсе дождей:
вместо хлеба и вместо овса
на полях лебеда и пырей.
Сладить с горькою этой бедой
нам одними руками невмочь —
только лошадь, лишь лошадь одна
может вызволить нас и помочь.
Слух прошел, что Советская власть
хочет в долг продавать лошадей.
Посодействуй, Владимир Ильич,
всей крестьянской земле порадей…
Наклонились над низким столом
старики в белых шапках седин.
Уважительно держит перо
грамотей деревенский один.
Вот они разошлись по домам
в ожидании лучших времен…
Мне известно, что в двух деревнях
снился им одинаковый сон:
От полян, где цветы и трава
вешним солнцем прогреты насквозь,
лошадиное ржанье сперва
еле слышно сюда донеслось.
Вот уже и дорога кипит,
кони тесно идут табуном,
вот от топота сотен копыт
вся окрестность пошла ходуном.
Вот они вереницей стоят,
красотой поражая своей,
и на утреннем солнце блестят
разномастные крупы коней.
Сам Ильич под уздцы их берет
и заводит их сам во дворы…
Сбылся сон твой, крестьянский народ,
дожил ты до великой поры.
Не воротятся те времена,
горе горькое скрылось вдали.
Широко ты шагаешь, страна,
воплотившая счастье земли!
<1962>
С ЧУВАШСКОГО
Яков Ухсай1
Солнца веселого утренний жар
темные тучи прогнал с небосвода.
Погреб открыт и распахнут амбар —
в нашу Уфу на колхозный базар
осень свои снаряжает подводы.
…Видел не раз я глазами юнца
дни отошедшие, время другое.
Злобою наши кипели сердца
в час, когда, славя богатство купца,
пел колокольчик под алой дугою.
Поле в пастушеских ярких кострах.
Мы окружали огонь осторожно,
а конокрады на наших конях,
нагло свистя, гарцевали впотьмах,
словно тузы из колоды картежной.
Стаею волчьей они налетят,
как на отару, уснувшую в поле,
целятся в лоб, кистенями грозят, —
всё у них есть, а у наших ребят
только батрацкие горсти мозолей.
Слушая ржанье своих лошадей,
мы на базаре скрипели зубами,
а конокрады оравою всей
наших при нас продавали коней,
громко божась и махая руками.
Помню базарных рядов ералаш,
пение нищих и пьяную свару,
сотни покупок и тысячи краж.
Щеки надув, оренбургский торгаш
Важно стоит посредине базара.
Глазки торговца товар стерегут;
утром и в полдень, в тумане и мраке
золото ищут, уснуть не дают, —
так за лисой золотою бегут,
пасти раскрыв, две худые собаки.
Солнце базар заливает дневной.
Жаждет торговец – такая натура! —
солнце продать и разжиться деньгой,
наши глаза напоить темнотой.
Сам ты ослепни, торговая шкура!
Деньги откуда возьмут батраки?
Мы и рубля не видали ни разу:
лапти плели и на те медяки
белые приобретали платки
и подносили своим черноглазым.
2
Деньги на грязных прилавках звенят,
полдень наполнен жарою и смрадом,
ржут жеребцы, поросята визжат.
Без передышки торговки кричат:
«Эй, покупайте – кому чего надо!»
Дяде бы лесу на избу купить,
всю бы родню пригласить на веселье.
Мне бы рубаху для праздника сшить,
брагу у дяди стаканами пить,
петь и плясать на его новоселье.
Вырос на дядину долю лесок —
срезали рощу помещичьи пилы.
Желудь, тяни свой зеленый росток, —
жаль, что, пока зашумишь ты, дубок,
дядя умолкнет под сводом могилы.
Я – для рубахи – не так чтоб давно —
семя в кармане нашарил льняное.
Рад, что нашарил, а жаль, что – одно,
жаль, что, пока разрастется оно,
сам я усну под могильной землею.
Сруба, мой дядя, тебе не видать,
не приглашать всю родню на веселье,
новой рубахи мне не надевать,
и не придется мне петь и плясать
целую ночь на твоем новоселье.
Я, поневоле замедлив шаги,
жарко дышу в человеческой давке,
вижу товары, гляжу на торги.
До смерти рад бы купить сапоги —
те, что блистают на этом прилавке.
Завтра же утром обул бы я их,
волосы щедро намазал бы салом,—
чем не красавец и чем не жених?
Плакала б ты, покидая родных,
под подвенечным своим покрывалом.
Брату купить воротник не легко,
денег на мех у него не хватает.
В зимнем сибирском лесу – далеко —
прыгают белки по веткам легко,
лисы хвостами следы заметают.
Нас, молодых сыновей, старики,
словно орлов, из гнезда отпустили;
дали нам званье свое – батраки,
дали в наследство нам по две руки,
солнцем и звездами нас наградили.
3
Солнца веселого утренний жар
темные тучи прогнал с небосвода.
Погреб открыт и распахнут амбар —
в нашу Уфу на колхозный базар
осень свои отправляет подводы.
Вот на базар из селений родных
стайкой спешат молодые подруги.
Радостно жить им в лучах золотых.
Выгнуты черные брови у них,
как бугульминские гнутые дуги.
Юным невестам привет и хвала!
Вы на полях потрудились немало.
Яркий румянец не зря отдала,
словно подарок, подругам села
красная вишня отрогов Урала.
Вот я иду, замедляя свой шаг.
Всем меня радует ярмарка эта:
щедростью наших полей на возах,
правдой в речах и весельем в глазах,
встречей с колхозником Кара-Ахметом.
«Здравствуй, умелый садовник Ахмет!»
Дружбы прекрасны старинные узы.
Это отлично – сомнения нет,—
если с читателем вместе поэт
дружно сидят, наслаждаясь арбузом.
Гордо хожу я меж яблочных гор,
между прилавками шелка и ситца.
Время богатое радует взор.
«Дай-ка, товарищ, мне этот ковер!
Сколько платить мне за эту лисицу?».
<1966>








