Стихотворения и поэмы
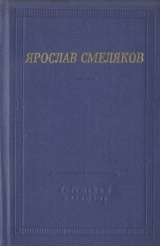
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
329–335. ФРАГМЕНТЫ ИЗ ВТОРОЙ ЧАСТИ ПОВЕСТИ В СТИХАХ «СТРОГАЯ ЛЮБОВЬ»
<1>ПРОХОДНАЯ
<2>
В час предутренний под Москвой
на заставе заиндевелой
двери маленькой проходной
открываются то и дело.
И спешат наперегонки
через тот теремок дощатый
строголицые пареньки,
озабоченные девчата.
Нас набатный ночной сигнал
не будил на барачной койке,
не бежали мы на аврал
на какой-нибудь громкой стройке.
На гиганты эпохи той
не везли в сундучках пожитки,
не бетонили Днепрострой,
не закладывали Магнитку.
Но тогда уже до конца
мы, подростки и малолетки,
без остатка свои сердца
первой отдали пятилетке.
И, об этом узнав, она,
не раздумывая нимало,
полудетские имена
в книгу кадров своих вписала.
Так попали в цеха труда
и к станкам индустрии встали
фабзайчата – нас так тогда
с доброй грубостью называли…
БУФЕТ
<3>
Спиралью крутясь постоянной,
ступеньки сбегают в буфет.
Кисель пламенеет в стаканах,
и в мисках блестит винегрет.
Мы лучшего вовсе не ищем:
как время велит молодым,
мы нашу нехитрую пищу
с веселою страстью едим.
За столиком шумно и тесно,
и хлопает ветер дверьми.
Ты только холодным и пресным,
буфетчица, нас не корми.
Еда, исходящая паром,
у нашего брата в чести.
Давай ее, с пылу и с жару,
покруче соли и сласти.
…Сверкают глаза отовсюду,
звенит и стучит тяжело
луженая наша посуда,
граненое наше стекло.
Под лампочкою стосвечовой
ни тени похожего нет
на тихий порядок столовой,
на сдержанный званый обед.
Не склонен народ к укоризне:
окончился чай – не беда.
Была ты под стать нашей жизни,
тогдашняя наша еда.
Наверно, поэтому властно
на много запомнились лет
кисель тот, отчаянно красный,
и красный, как флаг, винегрет.
ТАТУИРОВКА
<4>
Яшка, весь из костей и жил,
весь из принципов непреложных,
при бесстрастии внешнем, жил
увлекательно и тревожно.
Под тельняшкой его морской
сердце таяло и страдало.
Но, однако, любви такой Яшке
все-таки было мало.
Было мало ему давно
получать от нее, ревнуя,
после клуба или кино
торопливые поцелуи.
Непреклонен, мятежен, смел,
недовольные брови хмуря,
он от этой любви хотел
фейерверка, прибоя, бури.
Но она вопреки весне
и всему, что ему мечталось,
от свиданий наедине
нерешительно уклонялась.
И по улице вечер весь
безмятежно шагала рядом,
словно больше того, что есть,
ничего им теперь не надо.
Не умея пассивным быть,
он отыскивал всё решенья:
как упрочить и укрепить
эти новые отношенья.
И нашел как раз старичка,
что художничал по старинке,
в жажде стопки и табачка
околачиваясь на рынке.
(Жизнь свою доживал упрямо
тот гонимый судьбой талант,
в чем свидетельствовали панама
и закапанный пивом бант.)
И ловец одиноких душ,
приступая к работе с толком,
у оконца поставил тушь
и привычно связал иголки.
И, усердствуя как умел,
наколол на его запястье
буквы верности «Я» и «Л» —
обоюдные знаки счастья.
По решению двух сторон
без дискуссий и проволочки
вензель этот был заключен
в сердцевидную оболочку.
Старичок, обнаружив прыть,
не угасшую от запоя,
сердце сразу хотел пронзить
символическою стрелою.
Но, традициям вопреки,
Яшка грубо его заставил
боевые скрестить клинки
синеватого блеска стали.
И, однако же, те года
выражал бы рисунок мало,
если б маленькая звезда
на верху его не мерцала.
Отразилось как раз на ней,
усложнило ее созданье
столкновение двух идей,
двух характеров состязанье.
Из штрихов, как из облаков,
возникали, враждуя, части
беспартийной звезды волхвов
и звезды пролетарской власти.
В результате дня через два,
помещенная очень ловко,
из-под черного рукава
чуть виднелась татуировка.
Вместе с Лизкой идя в кино,
он поглядывал то и дело
на таинственное пятно,
что на коже его синело.
Но, любима и влюблена,
освещенная солнцем алым,
от неопытности она
тех усилий не замечала…
ПРОГУЛКА
<5>
Не на митинг у проходной,
не с заметкой в многотиражку —
просто, празднуя выходной,
шли по городу Лизка с Яшкой.
Шли, не помню сейчас когда, —
в мае, может, или в апреле? —
не куда-то, а никуда,
не зачем-нибудь, а без цели.
Шли сквозь выкрики и галдеж,
дым бензина и звон трамвая,
хоть и сдерживаясь, но всё ж
свет влюбленности излучая.
Вдоль утихшей уже давно
темной церковки обветшалой,
треска маленького кино
и гудения трех вокзалов.
Средь свершений и неудач,
столкновенья идей и стилей,
обреченно трусящих кляч
и ревущих автомобилей.
Шли меж вывесок и афиш,
многократных до одуренья,
сквозь скопление стен и крыш
и людское столпотворенье.
Шли неспешно, невторопях,
как положено на прогулке,
средь цветочниц на площадях
и ларечников в переулках.
Но парнишки тех давних лет,
обольщенные блеском стали,
ни букетиков, ни конфет
для подружек не покупали.
Меж гражданских живя высот
и общественных идеалов,
всяких сладостей и красот
наша юность не признавала.
Были вовсе нам не с руки,
одногодкам костистым Яшки,
эти – как их там? – мотыльки,
одуванчики и букашки.
Независимы и бледны,
как заправские дети улиц,
мы с природой своей страны
много позже уже столкнулись.
<6>
От подружек и от друзей,
об усмешках заботясь мало,
беззаветной любви своей
Лизка храбрая не скрывала.
Да и можно ли было скрыть
от взыскательного участья
упоенную жажду жить,
золотое жужжанье счастья?
В молодые недели те,
отдаваясь друзьям на милость,
словно лампочка в темноте,
Лизка радостью вся светилась.
В этот самый заветный срок
солнца и головокруженья
стал нежней ее голосок,
стали женственными движенья.
Средь блаженнейшей маеты
с неожиданно острой силой
сквозь знакомые всем черты
прелесть новая проступила.
Это было не то совсем,
что укладывалось привычно
в разнарядку плакатных схем
и обложек фотографичных.
Но для свадебных этих глаз,
для девического томленья
в комсомольский словарь у нас
не попали определенья.
Так, открыта и весела,
будто праздничное событье,
этим маем любовь пришла
в наше шумное общежитье.
Ни насмешечек, ни острот.
Или, может быть, в самом деле
мы за этот последний год
посерьезнели, повзрослели?
И, пожалуй, в те дни как раз
догадались смущенно сами,
что такая напасть и нас
ожидает не за горами.
Словом, – как бы точней сказать? —
их волшебное состоянье
мы старались оберегать,
будто общее достоянье.
ТРАКТОР
<7>
…Это шел вдоль людской стены,
оставляя на камне метки,
трактор бедной еще страны,
шумный первенец пятилетки.
В сталинградских цехах одет,
отмечает он день рожденья,
наполняя весь белый свет
торжествующим тарахтеньем.
Он распашет наверняка
половину степей планеты,
младший братец броневика,
утвердившего власть Советов.
Он всю землю перевернет,
сотрясая поля и хаты,
агитатор железный тот,
тот посланец пролетарьята.
И Москва улыбнулась чуть,
поправляя свои седины,
словно мать, что в нелегкий путь
собирает родного сына.
МАЯКОВСКИЙ
Из поэтовой мастерской,
не теряясь в толпе московской,
шел по улице по Тверской
с толстой палкою Маяковский.
Говорлива и широка,
ровно плещет волна народа
за бортом его пиджака,
словно за бортом парохода.
Высока его высота,
глаз рассерженный смотрит косо,
и зажата в скульптуре рта
грубо смятая папироса.
Всей столице издалека
очень памятна эта лепка:
чисто выбритая щека,
всероссийская эта кепка.
Счастлив я, что его застал
и, стихи заучив до корки,
на его вечерах стоял,
шею вытянув, на галерке.
Площадь зимняя вся в огнях,
дверь подъезда берется с бою,
и милиция на конях
над покачивающейся толпою.
меня ни копейки нет,
я забыл о монетном звоне,
но рублевый зажат билет —
всё богатство мое – в ладони.
Счастлив я, что сквозь зимний дым
после вечера от Музея
в отдалении шел за ним,
не по-детски благоговея.
Как ты нужен стране сейчас,
клубу, площади и газетам,
революции трубный бас,
голос истинного поэта!
1953–1956
336. МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
(Комсомольская поэма)
Посвящается 50-летию ВЛКСМ
ЛЕТОПИСЕЦ ПИМЕН
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
С тогдашним временем взаимен,
разя бумагу наповал,
я в общежитии, как Пимен,
твою Историю писал.
И эти смятые скрижали,
сказанья тех ушедших дней,
пока до времени лежали
в спецовке старенькой моей.
И вот сейчас, в начале мая,
не позабыв свою любовь,
я их оттуда вынимаю
и перелистываю вновь.
Я и тогда в каморке душной,
перо сжимая тяжело,
писал никак не равнодушно
своей страны добро и зло.
И сам на утреннем помосте,
с руки не вытерев чернил,
под гул гудков, с веселой злостью
добротно стены становил.
Я юность прожил в комсомоле
средь непреклонной прямоты.
Мы всюду шли по доброй воле,
но без особой доброты.
Мы жили все, как было надо,
как ждали русские края.
…Стол освещая до надсады,
не так смиренно, как лампада,
горела лампочка моя.
Пускай теперь страницы эти
и – если выйдет – новый срок
мерцаньем трепетным осветит
тот отдаленный огонек.
ГУБЕРНСКАЯ РЯЗАНЬ
Средь почты медленной и малой,
когда дороги замело,
однажды книжица попала
к нам в белорусское село.
Там на обложечке весенней,
лицом прекрасен и влюблен,
поэт страны Сергей Есенин
был бережно изображен.
Лишь я один во всей округе,
уйдя от мира, тих и мал,
под зимний свист последней вьюги
ее пред печкою читал.
Поленья, красные вначале,
нагревши пламенем жилье,
чудесным блеском освещали
страницы белые ее.
Я сам тогда, кусая руку
и глядя с ужасом назад,
визжал, как та визжала сука,
когда несли ее щенят.
Я сам, оставив эти долы,
как отоснившиеся сны,
задрав штаны, за комсомолом
бежал по улицам страны.
И, озираясь удивленно,
всё слушал, как в неранний час
дышали рыхлые драчены,
ходил в корчаге хлебный квас.
КЛАССИЧЕСКАЯ БОРЬБА
В начале самом жизни ранней,
в краю зеленом, голубом,
я жил как раз в самой Рязани,
губернском городе большом.
Тогда мне было лет пятнадцать,
но я о многом понимал.
Мне до сих пор те стогны снятся,
хоть я как будто старым стал.
Непритязательно одетый,
я жил тобой без суеты,
о «Деревенская газета»,
юдоль крестьянской бедноты!
Мне жизнь была такая впору.
В закутке, бедном и сыром,
заметки страшные селькоров
я обрабатывал пером.
В дни социальных потрясений,
листая книгу и журнал,
я позабыл тебя, Есенин,
и на Демьяна променял.
Мы блеска тут не наводили,
нам было всем не до красот.
В село отряды уходили
без барабанов в этот год.
Под солнцем, смутным и невнятным,
они из схваток боевых
везли на розвальнях обратно
тела товарищей своих.
Платя за всё предельной мерой,
упрятав боль в больших глазах,
мы хоронили их на скверах
и на недвижных площадях.
Я помню марево печали,
и черный снег, и скорбный гул.
Шли митинги в промерзшем зале,
молчал почетный караул.
ЧУХНОВСКИЙ
Неподалеку, у заставы,
как переменная судьба,
в заезжем цирке для забавы
идет вечерняя борьба.
Как в освещенной круглой сказке,
там, под галеркой, далеко
потеют мускулы и маски,
трещит последнее трико.
Борцов гастрольные повадки
все в электрической жаре.
Лежат могучие лопатки
на старой Персии ковре.
Сдавай свой номер, словно бирку,
бери потертое пальто.
Уже брезент сдирают с цирка,
поедет дальше «шапито».
А в поле снежном, за заставой,
стучит ружейная пальба,
блестит клинок в ладони правой,
иная действует борьба.
С врагов сорвав победно маски,
на кобылицах без подков
из карабинчиков подпаски
в кулацких целятся сынков.
Бранясь и сплевывая смачно,
не замечаючи мороз,
идет кровавый бой кулачный,
не для потехи, а всерьез.
Уже рассвет, а битва длится,
стук мерзлых сабель не затих.
Ржут и стенают кобылицы,
жалея всадников своих.
И по дороге той России,
через притихший снеговей
устало едут верховые,
гоня кулацких сыновей.
КОМСОМОЛЬСКАЯ ШКОЛА
Побыв в сумятице московской
среди звонков и телеграмм,
отправлен быстро был Чухновский
по весям и по городам.
По Совнаркома директивам,
чуть огорошен и устал,
он выступал перед активом
и к пионерам приезжал.
Прошли года чредою длинной,
но и сейчас передо мной
на всю Рязань – одна машина,
и в ней Чухновский молодой.
Она победно громыхала,
и, слыша срочный рокот тот,
Рязань, откинув одеяла,
к своим окошкам припадала
и выбегала из ворот.
Чухновский молод и прекрасен,
хоть невелик совсем на вид.
Но где-то там, как символ, «Красин»
за ним у полюса стоит.
И перед сценой в главном зале,
как бронепоезд на парах,
мы вместе с ним опять спасали
тебя, «Италия», во льдах.
Ведь меж торосов и обвалов,
в тисках ледовых батарей
он заложил тогда начало
всех наших общих эпопей.
Так эта сдержанная сила
свою нам протянула длань
и к громкой славе приобщила
тогда губернскую Рязань.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
Москва сзывала в этот год
в свои училища и вузы
один трудящийся народ —
хозяев истинных Союза.
Забрав паек без праздных слов
и вынув литер на вокзале,
на третьих полках поездов
они к столице подъезжали.
Потом в азарте юных лет,
не сняв косынки и шинели,
теснились возле стенгазет,
в аудиториях шумели.
По всем углам родной земли
и после – по державам мира
они отсюдова пошли,
плотин и домен командиры.
…И мне учиться срок настал:
оставив гранки и селькоров,
я в типографию попал
по фезеушному набору.
Москва тогда еще жила
и прежним днем, и в новом стиле:
среди гудков – колокола
себе отходную звонили.
Последний нэпман продувной
шагал в домзак угрюмым рейсом,
и по булыжной мостовой
ломовики возили рельсы.
Храня республику труда,
глядели влево и направо
заставы города тогда,
как бы военные заставы.
…Я очень помню тот апрель,
тот свет и тьму, тот день московский,
когда не в ту, ошибшись, цель
отправил пулю Маяковский.
Тут не изменишь ничего,
не скажешь что-нибудь особо.
Я видел и живым его,
и шел замедленно вдоль гроба.
Снимайте шапки перед ним,
не веря всем расхожим толкам.
Он был глашатаем твоим,
наш комсомол и «Комсомолка».
Я жизнь узнал на вкус и вес
и вспомню, чтоб не упрекали,
тот самый шахтинский процесс,
что шел тогда в Колонном зале.
Истории – не прекословь,
не правь исчезнувшие даты…
Об этом «Строгая любовь»
была написана когда-то.
Года уходят, как века,
необратимо и пространно,
как шли в то время облака
над Мавзолеем деревянным.
НЮРА ЕРШОВА
Я шагал по Москве
вдоль бульваров апреля,
подтянувшись,
как было положено,
впрок:
он тогда продолжался
всего две недели —
за разбитым станком
испытательный срок.
Наконец-то дождавшись
законного часа,
под предпраздничный шум
первомайских знамен
я зачислен был в списки
рабочего класса
и в реестры конторы
навечно внесен.
В тех ударных цехах
из плакатов и стали,
как намного позднее
в солдатском строю,
и погодки и дядьки
еще испытали —
на печалях и праздниках —
душу мою.
Я окопы копал
и выкладывал зданья,
исполнял
мастеров и сержантов урок.
Он еще не закончился,
срок испытанья.
Он всё дальше идет —
испытательный срок.
Были годы удач,
были месяцы боли;
мне всего доставало
под небом родным.
В общем я-то и сам —
без уверток —
доволен,
проверяя себя
испытаньем твоим.
Эту жизнь
не пришлось мне
прожить без упрека
средь станков и винтовок,
бумажек и строк…
Лишь бы он
не закончился только
до срока,
эпопеи моей
испытательный срок.
МАСТЕР
А я беру не к месту слово
и говорю опять в тщете,
что Нюра все-таки Ершова
была всегда на высоте.
Она держалась так, как надо,
в халате синеньком своем.
Станки стояли наши рядом
в одном пролете заводском.
И ежели струя металла
вдруг из котла летела вбок,
она мне взглядом разрешала
очистить тот ее станок.
И без урона по работе,
всегда спокойна и бледна,
сама по собственной охоте
шла к моему станку она.
Я провожал ее в печали,
с надеждой глядя сквозь очки.
По переулочкам стучали
без остановок каблучки.
Ни поцелуев, ни объятий,
когда фонарь уже зажжен.
Как сорок тысяч юных братьев,
я был тогда в нее влюблен.
Но, пряча всю любовь и муку,
в приливе нежности своей
я только пожимал ей руку
и расставался у дверей.
А может, это всё лишь было
в те вечера, на склоне дня,
из-за того, что не любила
Ершова гордая меня?..
«ОГОНЕК»
В моей покамест это власти:
прославить в собственных стихах
тебя, мой самый первый мастер,
учитель в кепке и в очках.
Среди мятущихся подростков,
свой соблюдая идеал,
ты был взыскательным и жестким,
но комсомольцев уважал.
Прельщала твой уклад старинный,
когда в сторонке ты сидел,
не то чтоб наша дисциплина,
а наша жажда трудных дел.
Лишь я один твое ученье,
которым крайне дорожил,
для радостей стихосложенья
так опрометчиво забыл.
Прости, наставник мой, прости,
что я по утренней пороше
не смог, приладившись, нести
две сразу сладостные ноши.
Там, где другая есть земля,
где зыбкой славой брезжут дали,
иных наук учителя,
иные мрежи ожидали.
БАЛЛАДА 30-ГО ГОДА
Зимой или в начале мая
я в жажде стихотворных строк
спешил с работы на трамвае
туда, в заветный «Огонек».
Там двери – все – не запирались,
там в час, когда сгущалась мгла,
на праздник песни собирались
мальчишки круглого стола.
Мы все друг дружку уважали
за наши сладкие грехи,
и голоса у всех дрожали,
читая новые стихи.
Там, плечи жирные сутуля,
нерукотворно, как во сне,
руководил Ефим Зозуля
в своем внимательном пенсне.
Там, в кольцах дыма голубого,
всё понимая наперед,
витала молча тень Кольцова,
благословляя наш народ.
Мы были очень молодые,
хоть это малая вина.
Теперь едва не всей России
известны наши имена.
Еженедельник тонколицый,
для нас любимейший журнал,
нам отдавал свои страницы
и нас наружу выпускал.
Мы бурно вырвались на волю,
раздвинув ширь своих орбит.
В могилах братских в чистом поле
немало тех ребят лежит.
Я был влюблен, как те поэты,
в дымящем трубами краю
не в Дездемону, не в Джульетту —
в страну прекрасную свою.
Еще пока хватает силы,
могу открыть любую дверь, —
любовь нисколько не остыла,
лишь стала сдержанней теперь.
АСФАЛЬТИТОВЫЙ РУДНИК
Как предложил рабочий класс,
собрав портянки и рубашку,
в недальний утренний Мосбасс
от нас зимой поехал Пашка.
В один из тех метельных дней
его почетно провожала
толпа подружек и друзей
до Павелецкого вокзала.
Нестройной маленькой семьей,
толкаясь между пассажиров,
еще не знали мы с тобой,
что Пашка станет дезертиром.
Лишь Мира, обойдя сугроб,
по-женски скорбно и устало
ему глядела прямо в лоб,
как будто пулю там искала.
Известно было, что она —
об этом не могло быть спора —
была несчастно влюблена
в великолепного позера.
Мы попрощались с ним без слез,
куря отважно папиросы.
Гудит прощально паровоз,
неверно движутся колеса.
По рельсам, как по паре строк,
уходит поезд от погони.
И только красный огонек
на дальнем светится вагоне.
Сугроб оставив у крыльца,
прошла зима с морозом вместе,
но нет оттуда письмеца
иль хоть случайного известья.
Но вот, без розысков, само,
из шахты угольной от Пашки
пришло ужасное письмо
в редакцию многотиражки.
Суров и труден тот Мосбасс;
там темный снег не скоро тает;
он черным хлебом кормит нас,
раз белых булок не хватает.
В глубокой шахте с потолка
всю смену тягостно струится
заместо струйки молока
земли остылая водица.
Там, исполняя нагло роль
рабочей хватки человека,
кулацкая босая голь
вразвалку шляется по штреку.
В краю суглинистой земли
у Пашки жлобы без печали
бушлат матросский увели,
в очко до нитки обобрали.
И он, хоть нашу меру знал,
от жизни этакой сломился,
из шахты ночью убежал
и возле мамы очутился.
Ячейка грозная не спит,
не ест конфет, не греет чая,
а за столом всю ночь сидит,
признанье это изучая.
Стыдом наполнен каждый взор.
Отмщенья требуем, отмщенья!
Недлинным будет приговор,
безжалостным постановленье.
Одернув кожанку рывком,
по общей воле комсомола
та Мира самая в райком
несет страничку протокола.
Идет-гудет тридцатый год,
в свой штаб идет, бледнея, Мира
и орготделу отдает
судьбу родного дезертира.
А мы с тобой, ему в ответ,
апрельской ночью, перед маем,
на самом склоне юных лет
на новый рудник уезжаем.
ЛЕСОПИЛКА
Как заштатный сотрудник,
купаясь в таежной реке,
асфальтитовый рудник
стоит от столиц вдалеке.
Ходят в петлях ворота,
натужно скрипит ворото́к,
днем и ночью работа,
трехсменный нелегкий урок.
Под звездою туманной,
как словно свое торжество,
я кручу непрестанно
железную ручку его.
Летним утром и в стужу,
затратив немало труда,
эту землю наружу
в бадье мы таскали тогда.
Нам велела эпоха,
чтоб слабою рохлей не стать,
как по пропуску, в грохот
лопатой ее пропускать.
На обгон, на подначку
под солнцем твоих небеси
мне толкать эту тачку
способней, чем ехать в такси.
Жить в тайге интересно,
и всем холуям на беду
я в разведку отвесно
под черную землю иду.
Не лирический томик,
не фетовский ваш соловей —
гнется слабенький ломик
под страшной кувалдой моей.
Я прошел бы, пожалуй,
вселенную эту насквозь,
если б мне не мешала
земная проклятая ось.
ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Красиво мускулы ходили,
пила визжала, как экспресс,
когда с тобою мы пилили
на доски весь сосновый лес.
На этой спорой лесопилке,
скорее двигаться веля,
бесшумно сыпались опилки,
росли, как избы, штабеля.
И день и ночь, опять и снова.
Сегодня то же, что вчера.
И пахнут свежестью сосновой
мои ладони до утра.
И снова, словно бы в сказанье,
я вижу, выправив билет,
Дом Красной Армии в Рязани
второй зимы тридцатых лет.
Его чугунная ограда
снежком прикрыта голубым.
Народ идет сюда, как надо,
привычным шагом строевым.
На этот праздник небогатый,
прикинув так и так сперва,
своих прислала делегатов
литературная Москва.
Себя талантами считая,—
ведь есть у каждого грехи, —
мы нашей армии читаем
свои поэмы и стихи.
Нет, мы совсем не монументы,
мы не срываемся едва,
от грохота аплодисментов
у нас кружится голова.
Как всадник истинный, вразвалку,
в военной форме прежних дней
пошел к трибуне Матэ Залка,
остановился рядом с ней.
Он говорит, расставив бурки,
и не совсем без юморка,
как на привале у печурки
иль за столом у земляка.
Еще в буфете, сверх программы,
вдаль устремив влюбленный взгляд,
пьют пиво взводные, их дамы
свое пирожное едят.
Еще до поезда немало,
еще далеко до Кремля,
и мы выходим неустало
под снег и звезды февраля.
А сбоку, словно в зимней сказке,
движеньем обольщая всех,
летят за санками салазки
вдоль по оврагу – прямо в снег.
Не долго думая, туда-то,
враз потеряв достойный вид,
возглавив нас, прекрасный Матэ,
пыхтя от радости, бежит.
Не щелкопер салонов дамских —
на санках вместе с мелюзгой
скользит герой войны гражданской,
участник первой мировой.
За ним по пропасти вдогонку,
как в глубь твою, ночная Русь,
с шальною школьною девчонкой
я в упоении несусь.
Ее метельные косицы,
всем наставленьям вопреки,
в роскошных ленточках из ситца
моей касаются щеки.
…Я ночью зажигаю спички,
в свое окно гляжу зимой,
и снова снежные косички
опять летят передо мной.








