Стихотворения и поэмы
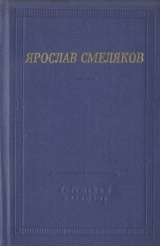
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
АРКАДИЙ ГАЙДАР
От гаубиц трясется балка,
блестят охранные штыки.
Сидят Кольцов и Матэ Залка
и шумно жарят шашлыки.
Как будто бы им дела мало
там, на своей большой земле.
Лежит фуражка генерала
на приготовленном столе.
От них еще покамест скрыто,
что впереди испанцев ждет
паденье грозного Мадрида
и в лагерь Франции исход.
Они еще не знают оба,
что ожидают их двоих
салют Испании над гробом,
воспоминания о них.
Мешать их празднику не надо,
пусть будет эта ночь светла.
Теки в стакан, вино Гренады,
благоухайте, вертела!
Мне и завидно им, и жалко:
живут же, хоть свершился срок,
улыбка радостная Залки,
Кольцова мрачный хохоток.
ЗОЯ
Я рад тому, что в жизни старой,
средь легендарной суеты
сам знал Аркадия Гайдара,—
мы даже были с ним на «ты».
В то время он, уже вне армий,
блюдя призвание свое,
как бы в отсеке иль казарме
имел спартанское жилье.
Быть может, я скажу напрасно,
но мне приятен признак тот:
как часовой, он жил у Красных,
а не каких-нибудь ворот.
Не из хвальбы, а в самом деле
ходил товарищ старший мой
в кавалерийской всё шинели
и в гимнастерке фронтовой.
Он жил без важности и страха,
верша немалые дела.
Как вся земля, его папаха
была огромна и кругла.
Когда пошли на нас фашисты,
он был – отважен и силен, —
из войск уволенный по чистой,
по той же чистой возвращен.
И если рота отступала
и час последний наступал,
ее он всю не одеялом,
а пулеметом прикрывал.
Так на полях страны Советской,
свершив последний подвиг свой,
он и погиб, писатель детский
с красноармейскою душой.
СМОЛЕНСК
В городах неприметна природа,
в фонарях не рассмотришь звезду.
В майский дождь сорок первого года
я по улице поздней иду.
И в окне, как сквозь смутные дали,
различая всё сразу едва ль,
в школьном зале, в предутреннем зале,
вижу я приглушенный рояль.
Под померкшею лампой недальней —
там когда-то и я бушевал —
и веселый, и всё же печальный
выпускной завершается бал.
Я стою под окном запотелым,
вдоль него неумело хожу,
словно бы в потаенное дело,
на ушедшую юность гляжу.
Парень девушку кружит в объятьях
в первый раз на недолгом веку,
пролетает прощальное платье,
прикасаясь к его пиджаку.
И не знает она, хорошея,
то, что ей суждены впереди
воровская веревка на шее,
золотая звезда на груди.
КОМСОМОЛЬЦЫ САМОЙ РОССИИ
Давайте вспомним о Смоленске.
Он в списке городов других —
как тихий житель деревенский —
среди рабочих разбитных.
Тебя я, пусть немного, знаю,
гляжусь в тебя издалека,
столица русская льняная,
юдоль лопаты и штыка.
Там, где шумят леса глухие,
полей и перелесков тишь,
валы насыпав земляные,
ты пол-России сторожишь.
Его холмы стоят, как надо,
всю ночь горят его огни.
Пускай тут вовсе нету кладов,
а только кладбища одни.
Он славных подвигов предтеча,
ему история мила.
Когда идет поодаль сеча,
его гудят колокола.
Он неторопко дело знает,
без похвальбы и без хулы.
И перья медные роняют
над ним залетные орлы.
ДАВНИХ ДНЕЙ ГЕРОИНИ
Я приятности нахожу
в том, что, словно бы голубица,
с легким шелестом прохожу
через таможни и границы.
Ведь во время войны не так, —
без улыбочек, без идиллий,
развивая огонь атак,
в эти местности мы входили.
Знают Со́фия и Белград,
помнят люди немолодые,
где под камнем могильным спят
комсомольцы самой России.
На войну уходя сперва,
не успели они жениться;
их единственная вдова —
наша северная столица.
Гул тогдашней войны затих,
но она всё, как подобает,
обручальных колец своих
с пальцев каменных не снимает.
ТИПОГРАФИЯ
Где вы ходите ныне?
Потерялся ваш след,
давних дней героини,
слава старых газет.
Помню вас на плакатах
в красном мареве слов
тех далеких тридцатых,
переломных годов.
На делянках артели,
на трибунах больших
вы свое отзвенели,
голоса звеньевых.
Сделав главное дело,
дочки нашей земли
из высоких пределов
незаметно сошли.
Возвратились беглянки
из всеобщей любви
на свои полустанки,
в сельсоветы свои.
И негромко, неслышно
снова служат стране
под родительской вишней,
от столиц в стороне.
Их недолгую славу
и тогдашний почет
смутно помнит держава
средь новейших забот.
Но, однако ж, бывает,
что под праздник она,
засветясь, называет
тех подруг имена.
ПРИЗЫВНИК
Без промедленья и опаски,
как в марте трепетный апрель,
я слышу запах типографский
хотя б за тридевять земель.
Я чую мокрые страницы
ночного позднего труда,
как словно старая волчица
овечьи мирные стада.
Неповторимо и повторно
навеки обожаю я
цех типографии наборный
и стук вечернего литья.
Недавно ездя по Востоку,
куда отправил нас журнал,
я свет увидел одинокий
и в типографию попал.
Здесь набирала буквы с толком,
от удовольствия шепча,
широкоскулая монголка
в халате с братского плеча.
Халат как раз такой окраски —
он лучше выглядеть не стал —
я в той бригаде типографской
в туманной юности таскал.
Как будто здесь, в степи прогоркшей,
его я скинул сгоряча
и отдал ей, как шуба Орше
дарилась с царского плеча.
УТРЕННЯЯ ГЛАВА
Под пристани гомон прощальный
в селе, где обрыв да песок,
на наш теплоходик недальний
с вещичками сел паренек.
Он весел, видать, и обижен,
доволен и вроде как нет, —
уже под машинку острижен,
еще по-граждански одет.
По этой-то воинской стрижке,
по блеску сердитому глаз
мы в крепком сибирском парнишке
солдата признали сейчас.
Стоял он на палубе сиро
и думал, как видно, что он
от прочих речных пассажиров
незримо уже отделен.
Он был одинок и печален
среди интересов чужих:
от жизни привычной отчалил,
а новой еще не достиг.
Не знал он, когда между нами
стоял с узелочком своим,
что армии красное знамя
уже распростерлось над ним.
Себя отделив и принизив,
не знал он, однако, того,
что слава сибирских дивизий
уже осенила его.
Он вовсе не думал, парнишка,
что в штатской одежке у нас
военные красные книжки
тихонько лежат про запас.
Еще понимать ему рано,
что связаны службой одной
великой войны ветераны
и он, призывник молодой.
Поэтому, хоть небогато —
нам не с чего тут пировать,—
мы, словно бы младшего брата,
решили его провожать.
Решили хоть чуть, да отметить,
хоть что, но поставить ему.
А что мы там пили в буфете,
сейчас вспоминать ни к чему.
Но можно ли, коль без притворства,
а как это есть говорить,
каким-нибудь клюквенным морсом
солдатскую дружбу скрепить?
МОНТАЖНИКИ
Я увидал на той неделе,
как по-солдатски наравне
четыре сверстника в шинелях
копали землю в стороне.
Был так приятен спозаранку
румянец этих лиц живых,
слегка примятые ушанки,
четыре звездочки на них.
Я вспомнил пристально и зорко
сквозь развидневшийся туман
ту легендарную четверку
и возмущенный океан.
С каким геройством непрестанным
от человечества вдали
солдаты эти с океаном
борьбу неравную вели!
С неиссякаемым упорством,
не позабытым до сих пор,
свершалось то единоборство,
не прекращался тяжкий спор.
Мы сразу их назвали сами,
как разумели и могли,
титанами, богатырями
и чуть не в тоги облекли.
Но вскоре нам понятно стало,
что, обольщавшие сперва,
звучат неверно, стоят мало
высокопарные слова.
И нам случилось удивиться,
увидевши в один из дней
не лики строгие, а лица
своих измученных детей,
обычных мальчиков державы,
сумевших в долгом том пути
жестокий труд и бремя славы
с таким достоинством нести.
ШТОРЫ ИЗ ВЬЕТНАМА
В своих пристрастьях крайне стойкий,
не покидая главный класс,
я побывал на Братской стройке
и даже, помнится, не раз.
На эстакаде, без подначки,
стоял я, сын других времен,
как землекоп с дощатой тачкой
меж металлических колонн.
И как-то сдуру – между нами —
совсем не к месту позабыл,
что этой станции фундамент
я сам с друзьями заложил.
Но всё равно, потом и сразу,
среди чудес и пустяков,
меня прельстили верхолазы
в разводьях вешних облаков.
Они, ходя обыкновенно,
не упуская ничего,
вели второй монтаж вселенной
не плоше бога самого.
Им на земле уже неловко,
они обвыклись в небесах,
и звенья цепи для страховки
висят у них на поясах,—
той цепи, что при царской власти,
чтоб и бунтарь бессильным был,
и на ногах и на запястьях
устало каторжник носил;
той цепи, что в туманной дали,
власть отнимая и беря,
отцы и деды разорвали
осенней ночью Октября.
С НЕБА ПАДАЕТ СНЕГ ЗИМЫ
Не на окне,
а посредине прямо,
близ подмосковных
веток и ветвей
бамбуковые шторы
из Вьетнама
стучат,
колеблясь,
в комнате моей.
По вечерам
и рано на рассвете,
среди моих
идиллий и забот,
колышет их
военный дальний ветер,
сюда идущий
из других широт.
Не далеко,
а чуть не на пороге,
зовя в свой край
отмщения и мук,
он всё стучит,
как барабан тревоги,
в моем жилье,
оттудова бамбук.
О, эти шторы,
зыбкие скрижали!
Я не могу
и не хочу их снять.
Их сколько бы
рукой ни раздвигали,
они всегда
смыкаются опять.
С неба падает снег зимы.
Осторожно, благоговея,
приближаемся тихо мы —
вдоль по площади – к Мавзолею.
Белым снегом освещена
и насыщена красным блеском
на молчанье твоем, стена,
революции нашей фреска.
Тут который уж год подряд
по желанию всей России
у гранитных дверей стоят
неподвижные часовые.
Хоть январский мороз дерет
и от холода саднит скулы,
ни один из них не уйдет
из почетного караула.
Как они у державных плит,
для тебя, седина и детство,
вся страна день и ночь хранит
правду ленинского наследства.
Ливень хлещет, метель метет,
в небе молния проблеснула —
ни один из нас не уйдет
из почетного караула.
1968
ПЕРЕВОДЫ
С УКРАИНСКОГО
Максим РыльскийПервый голос
В эти дни космической ракеты
и автоматических станков
позабудьте, выбросьте, поэты,
допотопных ваших соловьев!
Всё искусство, вместе с жалким сором,
вынесьте и выкиньте за тын:
тот, кто разбирается в моторах,
выше толкователей картин.
Второй голос
Этот спор, что не затих поныне,
начат был еще в далекий век…
Быть лишь добавлением к машине —
для тебя не много, человек!
Как же ты живешь, ответь на это, —
с беспокойством спрашиваю я,—
если в дни космической ракеты
ты не слышишь пенья соловья?
<1960>
Должно быть, старость стукнула в ворота:
на мемуары тянет день за днем.
Я дядюшку Тодося вспомнил что-то,
мне захотелось рассказать о нем.
Припомнились очки в оправе старой,
обмотанные ниткой так и сяк
(подробность украшает мемуары),
а на плечах – не свитка, не пиджак,
а вроде бы сюртук великопанский,
разодранный с плеча и до плеча
(когда-то дивный мастер Саксаганский
играл в такой одежде Копача),
и теплый дух живицы, вместе с воском
замешенной в садовом черепке,
и свернутую крупно папироску,
горящую в натруженной руке.
Всем россказням его неимоверным,
одна другой занятней и хитрей,
могли бы позавидовать и Стерны,
и чудаки наиновейших дней.
Бывал Тодось в Сибири и Китае,
невиданных ловил зверей и птиц.
И я, мальчонка, слушал, замирая,
хитросплетенья длинных небылиц
о редкостных событьях и удачах,
каких еще не видел этот свет:
о том, как с Чемберленом он рыбачил,
как ел себя спокойно самоед;
про хитрого и злобного хунхуза,
и про ханжу – китайский самогон…
Какая только нашептала муза
ту смесь брехни и правды!.. Ведь и он
своим рассказам верил чуть не свято,
не отличая правды от брехни.
Вот почему к нему я бегал в хату
и проводил там сказочные дни,
как бы готовясь к званию поэта…
Таких фигур, запомни, молодежь,
не так-то много есть по белу свету,
в литературе больше их найдешь.
Но если б просто был он трафаретом,
повествовать не стал бы я о нем.
В его избе (сказал мне под секретом
мой друг Ясько), в году известном том,
когда из черной глубины Цусимы
набат проклятый глухо прозвучал
и перед всем народом – полузримо —
грядущий день забрезжил, заблистал,
ну, словом, – без излишних аллегорий, —
когда потряс всю землю пятый год,
в избе Тодося, богачам на горе,
сходился забастовочный народ.
Избе убогой дядюшки Тодося —
он сам ее по бревнышку сложил —
не раз в то время слышать довелося
речей наивных неуемный пыл.
Бывал под этой кровлей «Дядя Ваня»
(Ясько мне тихо объявил: эсдек!)
и те предтечи, что в туманной рани
провозглашали новой жизни век.
Нагаек свист, тоска тюремной доли
вас не страшили. Утром досветла
вы рассевали на широком поле
весну – она не скоро расцвела.
Мне кой-кого из них встречать пришлося
средь генералов современных лет;
одно упоминание Тодося
в глазах их добрый зажигает свет.
Седой боец, как мальчик, улыбался,
но, услыхав про смерть его, стихал.
…Сам дядюшка не очень разбирался
в премудростях ученых. Мне сказал
барчук из просвещенных шалопутов
(его не назову я даже вкось),
что Карла Маркса с петербургским путал
издателем наивнейший Тодось.
Я, как наездник, память обращаю
из этих дней – в ушедшие назад:
мне кажется, что снова я вбегаю
в давно отцветший стариковский сад.
Себя сравнить я с Пушкиным не смею,
и мой Тодось не Энгельгардт ничуть,
но сад его был мне как сад лицея,
в котором Пушкин начинал свой путь.
Он новшеств не любил в садовом деле,
но был привержен этому труду,
и по старинке, в марте и апреле,
прививки делал в собственном саду.
Недвижно стоя около ранета,
пока окулировку делал он,
я к немудреным дедовским секретам
был все-таки, отчасти, приобщен.
Жаль до сих пор, что тех приемов тонких
не перенял я, ученик тупой,
из-за того, что в детской головенке
уже толпились рифмы вразнобой.
Я и теперь, проснувшись спозаранку
иль сидя у раскрытого окна,
двух стариков – Мичурина, Бербанка —
шепчу благоговейно имена.
Не опасаюсь я признаться даже,
что их делам завидовать готов.
Пусть человек для человека вяжет
гирлянды из невиданных плодов.
Пусть по канве земли он вышивает
не виданные ранее цветы
и пусть в природу вечную вливает
свои живые мысли и мечты.
Нет, мой Тодось, скажу об этом смело,
был мало на Мичурина похож,
но все-таки свое вершили дело
его лопатка и садовый нож.
Тот майский сад, в котором он годами
возился ввечеру и на заре,
все ветви, отягченные плодами,
склонял к земле в янтарном октябре.
О молодежь, поднявшаяся ныне,
подобная лучащейся весне,
родился в тьме я, вырос я в пустыне,
но сад и солнце вечно снились мне.
Цветет наш сад, шумят вовсю колосья,
открыта даль под небом голубым.
Хочу, чтоб все вы вспомнили Тодося
со мною словом тихим и не злым.
<1962>
Андрей Малышко
Тебя не раз при мне хвалили, Киев,
восторг всеобщий вызываешь ты!
Совсем не лесть признания такие,
а только подтвержденье красоты.
Асфальт прикрыт листвою желто-ржавой,
но сквозь нее темнеет и блестит.
Уже рыжеют на газонах травы
и дождь упорно день и ночь стучит.
И, распрощавшись с нашими краями,
летят в края чужие птицы, те,
каких зовут ученые стрижами, —
я ласточками звал их в простоте.
Но полыхают огненные канны
и георгины душу веселят…
Пришла пора работы долгожданной,
а не пора печалей и утрат.
Рачительная осень, как хозяйка,
в амбар ссыпает урожай златой,
и раскрывает дали без утайки,
и озимью блистает молодой.
Как счастлив я, что Киев наш осенний,
наш древний Киев радостен и нов
в большом труде, в горении, в движенье,
в строительстве заводов и домов.
<1962>
Я в поля звено водила в это лето.
За водою я ходила в час рассвета
К той кринице, где водица
Как умытая зарница
В час рассвета.
К ней дороги не травою, не росою,
Исколола свои ноги я стернею.
По жнивью да буеракам
Три версты с немалым гаком
Всё стернею.
А по правде – не волнуясь, без тревоги,
Можно б дольше походить по той дороге,
Да водой холодной, чистой
Напоить бы тракториста
По дороге.
Пусть он встанет, пусть он глянет прямо в очи,
Что на сердце, угадает, если хочет.
Пусть шагает у криницы,
Ожидает и томится
До полночи.
<1949>
<1>
Ах, если б стать мне явором в поле,
тем, что Тарасу снился в неволе.
Явор твой белый. Зимние ночки.
Сны о свободе в той одиночке.
Но не хочу быть камнем лежалым —
тем, на котором песни писал он.
Твои скрижали, твои печали —
горючий камень на Кос-Арале.
Пусть этот явор из лихолетья
шелест доносит в наше столетье.
Чтоб не воскресла, не возвратилась
этого камня горькая милость.
Поэта сердце – не мертвый камень,
оно, как явор, шумит веками.
<2>
Ой, пришел бы ты к нам, бессмертный, через ночи и через горы
удивляться и любоваться нашим космосом и простором.
Нивы общие колосятся, смехом славится наша хата.
Мы богаты степною ширью, широтою души богаты.
Не в краю твоей Катерины, не под нашим советским солнцем,
а в далеких заморских странах рассевают коварный стронций.
Фарисеи на ассамблеях зашумели бы бестолково,
если взял бы Тарас Шевченко – делегат Украины – слово.
Слово гневное за кордоном! Вдалеке от родного дома.
Я от имени коммунистов низко кланяюсь крепостному
за его золотые строки, за святые его страницы,
что не выцвели, не истлели, а раскинулись, как зарницы.
<1961>
С БЕЛОРУССКОГО
Аркадий Кулешов
343. БАЛЛАДА О ПРАВДЕ344. НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
Задержанный клял свою долю,
в немецкий попавши острог.
Он весть об измене на волю
хотел передать, да не смог.
В ту пущу, что весть ожидала,
он с правдой хотел убежать,
да стража его задержала:
минуты до смерти считать.
Они вместе с правдой считали
шаги за острожной стеной,
его вместе с нею сжигали
в печи полуночной порой.
Предатель в усы усмехался,
он видел – известная вещь, —
как правду, какой он боялся,
эсэсовцы кинули в печь.
Когда бы умели – сказали
нам правду бы пепел с золой,
но молча их люди смешали
на пашне с молчащей землей.
Острог рассказал бы, да сгинул
острог от огня, от войны.
Виднеются только руины,
обломок тюремной стены.
По горам, лесам и долинам
давно отгремела война.
Как память, стоит на руинах
острожная эта стена.
И полночь за полночью снова
предателю снится во сне:
начертана – слово за словом —
вся правда о нем на стене.
Никто еще слов тех не знает,
и прежде, чем час тот пробьет,—
при молнии дождь их читает
и слезы осенние льет.
Предатель тюремную стену
среди пустырей отыскал.
Изменник слова про измену,
как свой приговор, прочитал.
Ах, зря он в усы усмехался,
случилась нежданная вещь:
ту правду, какой он боялся,
не взяли ни время, ни печь.
Никто не развеял по полю
ее, словно пепел седой.
Явилась та правда на волю
открытой всем взорам стеной.
Ее на острожных страницах
сам узник писал перед тем,
как в пепел ему превратиться,
как смолкнуть ему насовсем.
Писал он, чтоб ведали люди,
что правда не сгинет нигде,
чтоб ей предоставили судьи
свидетелем быть на суде.
<1948>
345. КОММУНИСТЫ
Мальчик по зимнему полю
бежал из неволи.
Брел он в снегу по колено
от немца из плена.
Ночью от мамки отбился,
в лесу очутился.
После смертельной тревоги
не движутся ноги.
Лег на сугроб, как под свод,
под еловые ветви.
А в этот час Новый год
начинался на свете.
Чем пареньку
плохо под елью косматой?
Снег на еловом суку
как блестящая вата.
Звезд голубые огни
блещут на елках.
Ниткой они
привязаны к хвойным иголкам.
Заметь, снижаясь с высот,
как конфетти, зашуршала.
Так до сих пор Новый год
никогда не встречал он.
В хвойную глушь занесен
снегом-метелью,
смертный нашел его сон
под новогодней елью.
Снежный сугроб простоял
до весны на поляне.
С белой постели не встал
тот мальчуган и не встанет.
Это ведь вовсе не сказка —
правда суровая,
а если даже и сказка —
не старая, новая.
Сказка Великой войны
и метельной полянки.
Не королевич заснул там,
а сын партизанки.
Сын партизанки!
Хоть белою снежной пургою
был ты засыпан,
но смерть не властна над тобою.
Песней спилю я
эту большую
елину.
Посеребренный
трепет зеленый
на плечи вскину.
И понесу над собой
снежные ветки
от пятилетки одной
до другой пятилетки.
Из года в год
по отчизне Советов свободной
будет она хоровод
украшать новогодний.
В том она будет дворце
нашей Отчизны,
что возведут, славя труд,
сыновья коммунизма.
В те она будет года
в праздничном зале,
сны воплотятся когда
и исчезнут печали.
Люди на ель поглядят
и в строгом молчанье
вспомнят о мальчике том,
что замерз на поляне.
Память о нем
не в лесу будет жить,
а в народе —
праздничным днем
в новогоднем кружить
хороводе.
<1948>
Коммунисты – это слово крепче стали,
коммунисты – это слово как набат.
Маркс и Энгельс нам такое имя дали
в год рожденья наш – сто лет тому назад.
И хотя сто лет назад нас было мало,
вышли мы на первый бой, на смертный бой.
Мы копаем с песней яму капиталу,
пусть стучит земля по крышке гробовой.
Нет, не верим мы ни в бога, ни в молитвы.
И не знаем мы иных священных слов,
кроме лозунгов, сзывающих на битвы,
кроме песен, от каких вскипает кровь.
Поднялись мы в высоту, полны отваги.
Коммунизма даль, к тебе сердца летят!
Крылья наши – это огненные флаги,
гнезда наши – это камни баррикад.
Коммунисты никогда еще в бессилье
не роняли красных флагов боевых;
если падал кто, сейчас же флаги-крылья
поднимались за плечами у живых.
Стяг крылатый от сраженья до сраженья
по земле нас вел сквозь бурю, сквозь пургу.
Коммунисты! Это слово без волненья
я не мог произнести и не могу.
Коммунисты – это люди грозной силы,
поколенье бесконечное борцов.
Закалили в революции горниле
Ленин, Партия для боя, для веков.
Мы бессмертны, революции солдаты;
павшим в битвах снятся будущего сны,
у кронштадтских стен, в руинах Сталинграда,
обняв землю, спят земли своей сыны.
В грозных битвах мы не дрогнем от ударов,
до конца за наше дело постоим,
знамя красное бессмертных коммунаров
для полета нашей смене отдадим.
Так и я отдам в наследство – дар заветный —
жар борьбы, который в сердце берегу.
Коммунисты!.. Этот клич на бой победный
без волненья повторять я не могу.
Этим словом, самым верным, самым чистым,
самых близких называю не один.
Я хочу, чтоб назывался коммунистом
сын родной мой и родного сына сын.
С каждым годом всё сильнее над планетой
наше солнце разгорается во мгле.
Скоро будут называться – знаю это —
коммунистами все люди на земле.
<1948>








