Стихотворения и поэмы
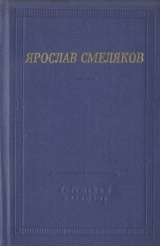
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
227. ПОСТОЯНСТВО
Средь новых звезд на небосводе
и праздноблещущих утех
я, без сомненья, старомоден
и постоянен, как на грех.
Да мне и не к чему меняться,
не обязательно с утра
по телефону ухмыляться
над тем, что сделано вчера.
Кому – на смех, кому – на зависть,
я утверждать не побоюсь,
что в самом главном повторяюсь
и – бог поможет – повторюсь.
И даже муза дальних странствий,
дав мне простора своего,
не расшатала постоянство,
а лишь упрочила его.
1966
228. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Я знал, проживая в столице,
в двухкомнатном теплом раю,
что мне не дано возвратиться
в прекрасную юность мою.
Я знал хорошо напоследки,
под стук беспощадных минут,
что лозунги той пятилетки
обратно ко мне не придут.
Я выучил до отвращенья,
хоть я человек занятой,
что давнее то ощущенье
навеки утрачено мной.
Зачем же, скажите на милость,
от этого маяться мне?
И всё ж таки чудо случилось
в одной сопредельной стране.
Все сложности выдержав стойко,
познав путешествий размах,
мы ночью очнулись на стройке
в бескрайних монгольских степях.
А утром без всякой натяжки
явилась нам средь пустырей
редакция многотиражки
и цех типографский при ней.
Рабочей газеты изнанка —
ах, как она мне по душе:
шпагатом затянуты гранки,
набиты на доску клише.
Мне эти известны порядки:
строка примыкает к строке,
и вновь тяжелеет верстатка
в моей ослабевшей руке.
Исполненный милого такта,
прекрасен на взгляд и на слух,
в костюмчике сером редактор —
недавний монгольский пастух.
Он сам, очевидно, не знает
за версткой газетки своей,
что в этих степях повторяет
историю русских степей.
Распахнуты двери и ставни,
шумит ветерок удалой,
и лозунги юности давней
трепещут опять надо мной.
1966
229. МОРЕ ПОД ОКНОМ
Успокоительно, как горе,
всю ночь, и вечером, и днем
полуустало плещет море
и у дверей, и под окном.
Оно меня, как мать ребенка,
и до отбоя и в отбой
купает, словно бы в пеленках,
в своей купели голубой.
Ну что ж? Усну, моя отрада,
раз нянька старая велит.
Но рано утром – так уж надо! —
мальчишка снова закричит…
1966
230. ЕНИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ
Берегов не отыщете шире
и воды не найдете сильней —
по тайге и по тундре Сибири
величаво летит Енисей.
Не догонит никто торопливо
посредине крутых берегов
голубые и синие гривы
полудиких его табунов.
Забавляться ему надоело
бесшабашною силой своей —
настоящего русского дела
захотел для себя Енисей.
Мы ему подарили плотину,
он взялся за работу в ответ —
и на тундру вечернюю хлынул
проливной электрический свет.
Для того чтобы жить без печали
в снеговом Красноярском краю,
мы не зря у тебя переняли
молодецкую удаль твою.
Для могучей твоей красотищи,
для мятежной твоей быстроты
мы такие работы отыщем,
о каких и не слыхивал ты.
Мы не станем дремать на покое,
мы тебя не оставим, река.
Это только начало такое,
это только запевка пока.
1966
231. СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ПСКОВСКОЙ ГОСТИНИЦЕ
С тех самых пор, как был допущен
в ряды словесности самой,
я всё мечтал к тебе, как Пущин,
приехать утром и зимой.
И по дороге возле Пскова —
чтоб всё, как было, повторить,—
мне так хотелось ночью снова
тебе шампанского купить.
И чтоб опять на самом деле,
пока окрестность глухо спит,
полозья бешено скрипели
и снег стучал из-под копыт.
Всё получилось по-иному:
день щебетал, жужжал и цвел,
когда я к пушкинскому дому
нетерпеливо подошел.
Но из-под той заветной крыши
на то крылечко без перил
ты сам не выбежал, не вышел
и даже дверь не отворил.
…И, сидя над своей страницей,
я понял снова и опять,
что жизнь не может повториться,
ее не надо повторять.
А надо лишь с благоговеньем,
чтоб дальше действовать и быть,
те отошедшие виденья
в душе и памяти хранить.
1967
232. МИХАИЛ СВЕТЛОВ
Всё совершается, как надо,
хоть и не сразу, не сполна.
Но горсть земли из-под Гренады
была в Москву привезена.
Ее везли не без опаски
через границы вдалеке,
как будто в старой русской сказке,
в полукрестьянском узелке.
Ей красоты недоставало,
оттенков сизо-золотых, —
она из пыли состояла
и мелких камешков нагих.
Но несмотря на это, всё же
она на свой особый лад
была для нас куда дороже
и украшений, и наград.
И мы ее, чтоб легче было
тебе лежать от всех вдали,
на тихий холм твоей могилы,
как надлежало, принесли.
Ведь есть естественность прямая
в том, что сегодня над тобой
земля Испании сухая
смешалась с русскою землей.
1967
233. ПЕЙЗАЖ
Сегодня в утреннюю пору,
когда обычно даль темна,
я отодвинул набок штору
и молча замер у окна.
Небес сияющая сила
без суеты и без труда
сосняк и ельник просквозила,
да так, как будто навсегда.
Мне – как награда без привычки —
вся освещенная земля
и дробный стрекот электрички,
как шов, сшивающий поля.
Я плотью чувствую и слышу,
что с этим зимним утром слит,
и жизнь моя, как снег на крыше,
в спокойном золоте блестит.
Еще покроют небо тучи,
еще во двор заглянет зло.
Но все-таки насколько лучше,
когда за окнами светло!
1967
234. НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Куда подевалась, Россия,
поэзия тройки твоей,
глаза твоих женщин косые,
копыта твоих лошадей?!
Куда вы исчезли из вьюги,
полозья рязанских саней,
звучащие черные дуги
и красные розы ноздрей?!
В какой утаились округе,
уйдя от грохочущих дней,
бубенчики, вожжи, подпруги,
медвяные губы подруги
и снежные дуги бровей?!
Но вот я взволнованно вижу,
как Красная площадь кипит.
С минутою каждою ближе
ликующий топот копыт.
Куда ты спешишь? Погоди же!
Но конница мимо летит.
Где двигались медленно танки,
вдоль красных стены и ворот
стучит на колесах тачанки
уже одуревший в гражданке
гражданской войны пулемет.
Стремительно катится лава.
Прорублена в проблеск клинка
посмертная Блюхера слава
и мертвая жизнь Колчака.
Ах, сколько их, тех генералов,
и в штабах своих, и во сне
по площади этой мечтало
на белом проехать коне!
Но все они сгибли, однако,
позорно закончив бои.
Со мной на трибунах рубака
глаза утирает свои.
Испита бесславная чаша,
и выпита чаша побед.
Идет кавалерия наша
на уровне наших ракет.
Зачем же ты плачешь, папаша?
Ведь снег пропусков и ромашек
еще не замел ее след.
Уже через Балчуг на Пресню
устало уходят полки,
и, словно бы красные песни,
за ними летят башлыки.
1967
235. МАЙОР
Прошел неясный разговор,
как по стеклу радара,
что где-то там погиб майор
Эрнесто Че Гевара.
Шел этот слух издалека,
мерцая красным светом,
как будто Марс сквозь облака
над кровлями планеты.
И на газетные листы
с отчетливою силой,
как кровь сквозь новые бинты,
депеша проступила.
Он был ответственным лицом
отчизны небогатой,
министр с апостольским лицом
и бородой пирата.
Ни в чем ему покоя нет,
невесел этот опыт.
Он запер – к черту! – кабинет
и сам ушел в окопы.
Спускаясь с партизанских гор,
дыша полночным жаром,
в чужой стране
погиб майор
Эрнесто Че Гевара.
Любовь была и смерть была
недолгой и взаимной,
как клекот горного орла
весной
в ущелье дымном.
Так на полях
иной страны
сражались без упрека
рязанских пажитей сыны
в Испании далекой.
Друзья мои!
Не всё равно ль —
признаюсь перед вами,—
где я свою сыграю роль
в глобальной грозной драме!
Куда важней задача та,
чтоб мне сыграть предвзято
не палача и не шута,
а красного солдата.
1967
236. ЮГОСЛАВСКАЯ СВЕЧА
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Борис Пастернак
Кругом тревожно и темно,
но по оплошке
светилось малое окно
в ночной сторожке.
Бессветно было на земле,
но всё же смело
свеча горела на столе,
свеча горела.
Вязала что-то там свое,
склонившись глухо,
не то жилет, не то белье,
одна старуха.
От оккупации устав,
в простенке малом
больной старик тревожно спал
под одеялом.
Вдруг прогремел дымящий ад
гудящим басом.
Взорвали партизаны склад
боеприпасов.
И на окраине села
ночная стежка
собак немецких привела
к окну сторожки.
Гестапо шло навеселе,
и в ночь расстрела,
как в ночь венчанья, на столе
свеча горела.
Под утро чуждая рука
неспешно, сухо
похоронила старика
с его старухой.
С тех пор во тьме большой ночи
с двойною силой
всегда горели две свечи
на двух могилах.
Кто их в ту пору зажигал,
узнать не силюсь,
но сам слыхал и сам видал:
они светились.
Не сомневайся, помолчи —
ведь в самом деле
всю ночь горели две свечи,
всю жизнь горели.
1967
237. ЦЫГАНСКАЯ РАПСОДИЯ
Нет в песне цыганского склада,
романса не выкроишь тут.
Давно уж вблизи от Белграда
оседло цыгане живут.
По ранней росе спозаранку,
как водится, из году в год,
цыгане идут и цыганки
работать на местный завод.
И весело, словно галчата,
с утра и до ночи, подряд,
на задних дворах цыганята,
как им подобает, галдят.
В фуражках, украшенных кантом,
под гул канонады вдали
с железным крестом оккупанты
сюда из Берлина пришли.
И сразу же, как и в России
ушел в партизаны народ.
Умолкли гудки заводские,
командовать стал пулемет.
Не кормят ни мамка, ни тато
похлебкой родимой земли.
Собравшись гуртом, цыганята
работать на площадь пошли.
С утра и до вечера четко
с веселым отчаяньем там
летают их черные щетки
по кожаным тем сапогам.
Работа идет без помарки,
как будто «Цыган» черновик.
И падают мятые марки
в ладони проворные их.
Когда над гестаповской крышей
небесные звезды блестят,
застукали тех ребятишек,
отчаянных тех цыганят.
И сразу под мрачным конвоем,
всё выполнив в заданный срок,
их всех обреченной толпою
в недальний погнали лесок.
Какие тут слухи и речи?
Закрыт по-могильному рот.
Зато деловито навстречу
уже застучал пулемет.
Идя на предсмертную муку,
на плац счетверенный огня,
своим удивительным стуком
ответила вдруг ребятня.
На смертном рассвете туманном
у всех сыновей и внучат
по ящикам их деревянным
сапожные щетки стучат.
Над родиной непокоренной,
над сонмом мятущихся душ
звучит этот марш похоронный,
как словно бы праздничный туш:
«Эх, загулял, загулял, загулял
парень молодой, молодой,
в красной рубашоночке,
хорошенький такой!..»
Набитые спесью и жиром,
от стен заводских невдали,
не дрогнули те конвоиры
и фюрер немецкой земли.
Сработано намертво дело,
рыдает наутро семья.
Не бодрым стишком, а расстрелом
кончается песня моя.
1967
238. ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ СНИМОК
На свете снимка лучше нету,
чем тот, что вечером и днем
и от заката до рассвета
стоит на столике моем.
Отображен на снимке этом,
как бы случайно, второпях,
Ильич с сегодняшней газетой
в своих отчетливых руках.
Мне, сыну нынешней России,
дороже славы проходной
те две чернильницы большие
и календарь перекидной.
Мы рано без того остались
(хоть не в сиротстве, не одни),
кем мира целого листались
и перекладывались дни.
Всю сложность судеб человечьих
он сам зимой, в январский час,
переложил на наши плечи,
на души каждого из нас.
Ведь всё же будет вся планета
кружиться вместе и одна
в блистанье утреннего света,
идущем, как на снимке этом,
из заснеженного окна.
1967
239. СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Я был, понятно, счастлив тоже,
когда влюблялся и любил
или у шумной молодежи
свое признанье находил.
Ты, счастье, мне еще являлось,
когда не сразу, неспроста
перед мальчишкой открывалась
лесов и пашен красота.
Я также счастлив был довольно
не каждый день, но каждый год,
когда на празднествах застольных,
как колокол на колокольне,
гудел торжественно народ.
Но это только лишь вступленье,
вернее, присказка одна.
Вот был ли счастлив в жизни Ленин,
без оговорок и сполна?
Конечно, был.
И не отчасти,
а грозной волей главаря,
когда вокруг кипело счастье
штыков и флагов Октября.
Да, был, хотя и без идиллий,
когда опять, примкнув штыки,
на фронт без песен уходили
Москвы и Питера полки.
Он счастлив был, смеясь по-детски,
когда, знамена пронося,
впервые праздник свой советский
Россия праздновала вся.
Он, кстати, счастлив был и дома,
в лесу, когда еще темно…
Но это счастье всем знакомо,
а то – не каждому дано.
1967
240. ПО ПОВОДУ ГОЛУБЕЙ
Пока, увязнувши на треть,
скрипит планеты колесо,
она успела постареть,
твоя голубка, Пикассо.
Когда на улице светло,
любому мальчику видать:
с набитым зобом тяжело
ей подниматься и летать.
Нет блеска сокола в очах,
и нет бесстрашия орла.
Так приживалка на харчах
у благодетельниц жила.
Немало раз породу их,
когда идет киножурнал,
во фраках сизо-голубых
на ассамблеях я видал.
Не призываю воевать,
не обижаю прочих птиц, —
мне хоть бы только развенчать
ясновельможных голубиц.
1967
241. ПИСЬМО В РАЙОННЫЙ ГОРОД
Пишет Вам неизвестная личность, не знавшая Вас во времена жизни моего сына Бори Корнилова, который, как мне известно, был близким Вам другом.
Из письма Т. М. Корниловой
Где-то там, среди холмов дубравных,
в тех краях, где соловьев не счесть,
в городе Семенове неславном
улица Учительская есть.
Там-то вот, как ей и подобает,
с пенсией, как мать и как жена,
век свой одиноко коротает
бедная старушечка одна.
Вечером, небрежно и устало,
я открыл оттуда письмецо,
и опять, как в детстве, запылало
бледное недоброе лицо.
Кровь моя опять заговорила,
будто старый узник под замком.
Был ты мне, товарищ мой Корнилов
чуть ли не единственным дружком.
Мир шагал навстречу двум поэтам,
распрекрасный с маковки до пят.
Впрочем, я писал уже об этом,
пусть меня читатели простят.
Получил письмо я от старушки
и теперь не знаю, как мне быть:
может быть, пальнуть из главной пушки
или заседанье отменить?
Не могу проникнуть в эту тайну,
не владею почерком своим.
Как мне объяснить ей, что случайно
мы местами обменялись с ним?
Поменялись как, не знаем сами,
виноватить в этом нас нельзя —
так же, как нательными крестами
пьяные меняются друзья.
Он бы стал сейчас лауреатом,
я б лежал в могилке без наград.
Я-то перед ним не виноватый,
он-то предо мной не виноват.
1967
242. ЖАНТИЛ ИЗ БРАЗИЛИИ
Не жалуясь нисколечко,
душой и телом чист,
лежит себе на коечке
бразильский коммунист.
Ему побриться недосуг,
о красоте забыл
мой юный брат и верный друг.
Виват тебе, Жантил!
Не ландыши и лилии
у друга на уме.
Компартия Бразилии
в подполье и тюрьме.
Поговорить в охотку нам,
хочу, чтоб рассказал,
как он в больницу Боткина
нечаянно попал.
Беседуем, как химики:
понятней и скорей
на пальцах да на мимике,
без всяких словарей.
Беседу однотемную
уж мне ли позабыть —
решеточку тюремную
легко изобразить.
Свою понурив голову,
не позабыл Жантил
дубиночки тяжелые
напудренных горилл.
Он сам, как было велено,
не посчитал за труд
приехать в школу Ленина,
в Марксистский институт.
С тобой шагаем об руку,
не остерегшись их —
ресниц святого отрока
и родинок больших.
Ведь кудри непокорные
спадают на глаза,
молниеносно-черные,
как поздняя гроза.
В том, что изобразили мы,
есть свой и смысл, и лад.
Компартия Бразилии,
виват тебе, виват!
1967
243. СЛЕПЕЦ
Идет слепец по коридору,
тая секрет какой-то свой,
как шел тогда, в иную пору,
армейским посланный дозором,
по территории чужой.
Зияют смутные глазницы
лица военного того.
Как лунной ночью у волчицы,
туда, где лампочка теснится,
лицо протянуто его.
Он слышит ночь, как мать – ребенка,
хоть миновал военный срок
и хоть дежурная сестренка,
охально зыркая в сторонку,
его ведет под локоток.
Идет слепец с лицом радара,
беззвучно, так же как живет,
как будто нового удара
из темноты далекой ждет.
1967
244. ДЕКАБРЬСКОЕ ВОССТАНИЕ
Я не о той когорте братской,
нельзя какую позабыть
и что на площади Сенатской
пыталась ложу учредить.
Я не о тех лихих рубаках,
красе и гордости земли,
что шли в тюрьму, как шли в атаку,
и как потом в мундирных фраках
стремглав на виселицу шли.
Я о декабрьской Красной Пресне,
о той, где ты, Советов власть,
подобно первым строкам песни,
в пеленках красных родилась.
О той, скуластой и сутулой
(ее давно покинул бог),
что поднялась с недобрым гулом
и прах державный отряхнула
с отцовских шапок и сапог.
О той, что развернула знамя
в том белоснежном декабре
в краю Трех гор и Трех восстаний,
на перекрестке жизни ранней,
на раннеутренней заре.
1967
245. ТИХИЙ, ИЛИ ВЕЛИКИЙ
Внук полевой России
(ива, изба, Иван),
я увидал впервые
с палубы океан.
Это ведь не эстетство,
если она впервой,
синяя сказка детства,
движется под тобой.
Это не скрипки бала,
если тебя штормят
девять и десять баллов
целую ночь подряд.
Бахают волны сбоку,
теша тоску свою.
С жадностью одинокой
перед тобой стою.
Может быть, я не вправе
вровень с тобою жить.
Но не хочу ославить —
хочется разъяснить.
Вовсе не для присловья
с флагом над головой
мы умывались кровью,
собственной и чужой.
Там, на советской суше,
выйдя на свет из тьмы,
реквиемы и туши
перемежали мы.
Небо уже беззвездно,
вроде бы стих прибой.
Слишком, пожалуй, поздно
встретились мы с тобой.
Было б, конечно, лучше,
если б Девятый вал,
сбив, как папаху, тучи,
зыбку мою качал.
Возгласы, посвист, крики!..
Как ты там ни ори,
Тихий да и Великий
были у нас цари.
Отменены недавно
Библия и Коран.
Будем шуметь на равных,
оба в ролях заглавных,
Тихий мой океан.
1967
246. СВАДЬБА
Уместно теперь рассказать бы,
вернувшись с поездки домой,
как в маленьком городе свадьба
по утренней шла мостовой.
Рожденный средь местных талантов,
цветы укрепив на груди,
оркестрик из трех музыкантов
усердно шагал впереди.
И слушали люди с улыбкой,
как слушают милый обман,
печальную женскую скрипку
и воинский тот барабан.
По всем провожающим видно,
что тут, как положено быть,
поставлено дело солидно
и нечего вовсе таить.
Для храбрости выцедив кружку,
но всё же приличен и тих,
вчерашним бедовым подружкам
украдкой мигает жених.
Уходит он в дали иные,
в семейный хорошенький рай.
Прощайте, балы и пивные,
вся жизнь холостая, прощай!
По общему честному мненью,
что лезет в лицо и белье,
невеста – одно загляденье.
Да поздно глядеть на нее!
Был праздник сердечка и сердца
отмечен и тем, что сполна
пронзительно-сладостным
перцем в тот день торговала страна.
Не зря ведь сегодня болгары,
хозяева этой земли,
в кошелках с воскресных базаров
пылающий перец несли.
Повсюду, как словно бы в сказке,
на стенах кирпичных подряд
одни только красные связки
венчального перца висят.
1967
247. ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ
Сам я знаю, что горечь есть
в улыбке моей.
Здравствуй, Павел Григорьич,
древнерусский еврей.
Вот и встретились снова
утром зимнего дня, —
в нашей клубной столовой
ты окликнул меня.
Вас за столиком двое:
весела и бледна,
сидя рядом с тобою,
быстро курит жена.
Эти бабы России
возле нас, там и тут,
службу, как часовые,
не сменяясь, несут.
Не от шалого счастья,
не от глупых услад,
а от бед и напастей
нас они хоронят.
Много верст я промерил,
много выложил сил,
а в твоих подмастерьях
никогда не ходил.
Но в жестоком движенье,
не сдаваясь судьбе,
я хранил уваженье
и пристрастье к тебе.
Средь болот ненадежных
и незыблемых скал
неприютно и нежно
я тебя вспоминал.
Средь приветствий и тушей
и тебе, может быть,
было детскую душу
нелегко сохранить.
Но она не пропала,
не осталась одна,
а как дернем по малой —
сквозь сорочку видна.
Вся она повторила
наше время и век,
золотой и постылый.
Здравствуй, дядька наш милый,
дорогой человек.
1967
248. ЭТАЖЕРКА
Я нынче проснулся с охотой,
веселый и добрый с утра:
наверно, прелестное что-то
случилось со мною вчера.
И то и другое прикинув,
я вспомнил весь день прожитой:
девчушка из недр магазина
несла этажерку домой.
Всё было не просто, однако,
ведь та этажерка была
покрыта сияющим лаком,
блистательным, как зеркала.
И в ней, задержавшись на малость,
от вешнего люда тесна,
и улица – вся – отражалась,
и вся повторялась весна.
Мне скажет какой-нибудь критик
на эти восторги в ответ:
«Подумаешь, тоже событье
нашел для потомства поэт!»
А как же! Конечно, событье.
О многом подумаешь тут,
когда в суету общежитья
свою этажерку несут.
А это уж наша забота —
такими поэтами быть,
чтоб нынче по высшему счету
стихи для нее сочинить.
Чтоб наши неглупые книжки,
когда их случится издать,
могли бы, пускай не в излишке,
на той этажерке стоять.
1967
249. БАЛЛАДА ВОЛХОВСТРОЯ
Сюда с мандатом из Москвы
приехали без проездных
в казенных кожанках волхвы
и в гимнастерках фронтовых.
А в сундучках у них лежат
пять топоров и пять лопат.
Тут без угара угоришь
и всласть напаришься без дров.
Пять топоров без топорищ
и пять лопат без черенков.
Но в эти годы сущий клад
пять топоров и пять лопат.
Так утверждался новый рай,
а начинался он с того,
что люди ставили сарай
для инструмента своего.
И в нем работники хранят
пять топоров и пять лопат.
Когда Ильич в больших снегах
ушел туда, где света нет,
и свет померк в его очах —
отсюда хлынул общий свет.
Я слышу, как они стучат, —
пять топоров и пять лопат.
1967
250. ВИШНИ ЯПОНИИ
Я в долгу… перед вишнями Японии…
Владимир Маяковский
Сразу все, согласно и неслышно,
словно кто-то дал команду тут,
белые и розовые вишни
надо всей Японией цветут.
Нам-то, русским жителям, не ново
услыхать с любовью и тоской
этот дух и этот цвет вишневый
в утреннем поселке под Москвой.
Но они в Японии сильнее
и нежнее как-то, чем у нас:
то ли небо дальнее синее,
то ли дымка застилает глаз.
Из отеля выйдя на рассвете,
невдали на горке некрутой
я ее нашел.
И эти ветви
бережно придерживал рукой.
Всё стоял я, осененный светом,
и держал вишневый цвет в горсти,
чтобы после ощущенье это
до своей России довезти.
1967
251. ПЛАЧУЩАЯ ЛАПША
Ночью под модной крышей,
где размещен отель,
я сквозь окно услышал
плачущую свирель.
Было ее звучанье
в яркости голубой
словно бы обещанье,
связанное с мольбой.
С вышки многоэтажной —
нету важнее дел —
через заслон бумажный
я ее разглядел.
Двигаясь с явным толком
в блеске ночных теней,
медленно шла двуколка
ниже ночных огней.
В темной какой-то робе
сгорбленный старичок
шел меж ее оглобель,
словно бы ишачок.
И, украшая дело,
словно луга апрель,
с жалким призывом пела
нищенская свирель.
Город оповещая,
ехала не спеша,
знающих обольщая,
плачущая лапша.
Люди рабочей смены,
дружный ночной отряд,
севши вокруг, степенно
эту лапшу едят.
Мне до нее не близко,
но – по всему видать —
вкусно ее из миски
палочками хлебать.
Скучно мне на банкетах,
муторно для души.
Вот похлебать бы этой
запросто здесь лапши!
1967








