Стихотворения и поэмы
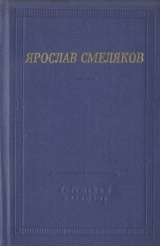
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
283. КАЛМЫЦКАЯ КОННИЦА
Твоя недюжинная сила,
от наслажденья хохоча,
за Стенькой Разиным ходила
и обожала Пугача.
Твердыни наши охраняя,
ты в черной бурке с башлыком,
с кобылы медленно свисая,
рубила недругов, блистая
своим решающим клинком.
По следу гиблому французов,
гоня туда девятый вал,
тебя угрюмо вел Кутузов,
седой российский генерал.
Во всем своем великолепье,
землей парижскою пыля,
ты принесла седло и степи
на Елисейские поля.
Вдоль по бульварам знаменитым,
между растворенных дверей
стучали мягкие копыта
верблюжьей конницы твоей.
Ты в наше время не устала,
но, тем набегам вопреки,
своих верблюдов расседлала
и в ножны вставила клинки.
Ты нынче трудишься проворно,
живешь, как пахари живут.
Но пахнут степи нефтью черной
и маки красные цветут.
1968
284. ВАСИЛИЙ КАЗИН
Василь Васильич Казин
семидесяти лет
умен, благообразен
и тщательно одет.
Он сам
своих же строчек
лирический герой:
отец – водопроводчик,
а дядюшка – портной.
Он вовсе не зазнался,
поэт наш дорогой,
что с Лениным снимался
на карточке одной.
Тем утром пролетарским
его средь запевал
заметил Луначарский,
Есенин целовал.
Ему не нужен посох,
он излучает свет,
лирический философ
своих и наших лет.
Он был все годы с теми,
кто не вилял, а вел,
его мололо время,
и он его молол.
И вышел толк немалый
из общих тех работ:
и время не пропало,
и он не пропадет.
1968
285. ОБРАЗОВАНИЕ
Я жизни сложную науку
не то чтобы в одной из школ,
а постепенно, самоукой,
одной усердностью прошел.
Весь мир, огромный и прекрасный,
скопленье книжек и степей,
теперь звучит единогласно
в усталой памяти моей.
Двадцатый век, предельно сложный,
в своем веселье и тоске
весь сопрягается надежно
на черной классовой доске.
Во мне живут покамест немо
и ожидают невдали
теории и теоремы
совместно с практикой земли.
Теперь могу я, коль случится,
чтоб молодым хоть что-то дать,
не только медленно учиться,
но и неспешно обучать.
1968
286. ЖЕЛТАЯ КОФТА
Не для трудящейся питерской Охты,
не для братвы прибалтийской морской
сшита ужасная желтая кофта
маминой слабой, неверной рукой.
Ровно прострочена крупная строчка,
намертво выстроен пуговиц ряд.
Что ж, громыхай, запятая и точка,
бейте, литавры, бесчинствуй, набат!
Важное дело исполнено вроде.
Дышит растерянно бедная мать.
Желтую кофту одернул Володя,
глянул в окно и пошел выступать.
Желтая кофта покроена ловко,
выстрочен празднично каждый стежок.
Скоро старьевщик как раз за рублевку
купит ее и засунет в мешок.
1968
287. МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ
Кому воздать? С кого мы взыщем
тут, у забвенья на краю?
Я в Пятигорске на кладбище,
сняв шапку, медленно стою.
Ах, я-то знаю, что поэта,
внушавшего любовь и страх,
давно в могиле этой нету,
лишь крест печальный в головах.
Над опустевшею могилой
остался только навсегда
тот крест, которым осенила
Россия вся себя тогда.
Его без пастырского слова,
как будто пасынка земли,
на лошадях в гробу свинцовом
сквозь пол-России провезли.
Он был источник дерзновенный
с чистейшим привкусом беды,
необходимый для вселенной
глоток живительной воды.
1968
288. БЕЛОРУСАМ
Вы родня мне по крови и вкусу,
по размаху идей и работ,
белорусы мои, белорусы,
трудовой и веселый народ.
Хоть ушел я оттуда мальчишкой
и недолго на родине жил,
но тебя изучил не по книжкам,
не по фильмам тебя полюбил.
Пусть с родной деревенькою малой
беспредельно разлука долга,
но из речи моей не пропало
белорусское мягкое «га».
Ну, а ежели все-таки надо
перед недругом родины встать,
речь моя по отцовскому складу
может сразу же твердою стать.
Испытал я несчастья и ласку,
стал потише, помедленней жить,
но во мне еще ваша закваска
не совсем перестала бродить.
Пусть сегодня простится мне лично,
что, о собственной вспомнив судьбе,
я с высокой трибуны столичной
говорю о себе да себе.
В том, как, подняв заздравные чаши,
вас встречает по-братски Москва,
есть всеобщее дружество наше,
социальная сила родства.
1968
289. НАЗЫМ
Не год, а десять с лишним лет,
то солнечных, то хмурых,
в России жил Назым Хикмет,
голубоглазый турок.
Он жил в квартире городской
Московского Совета,
как в социальной мастерской
строительства планеты.
Ни табака и ни вина,
ни трубки, ни бокала,
и только рукопись одна
без ветра трепетала.
Мы с ним не только хлеб да соль,
да прелести идиллий,
а нашу честь и нашу боль
по равенству делили.
Он обожал сильней всего,
свои уймя печали,
когда по имени его —
Назымом называли.
Чтоб этот мир единым стал,
как видится и снится,
он с упоением шагал
через его границы.
Гудит и дышит микрофон
на площади и в зале.
На всех конгрессах будет он,
на каждом фестивале.
Он так себя держал и вел
уверенно и юно,
как будто в прошлое пришел
из будущей коммуны.
И вот сейчас его рука,
как в собственном дастане,
для всех земель из пиджака
грядущее достанет.
И по стиху, и по уму,
по всей своей природе,
по назначенью своему
он был международен.
А поздней ночью всё равно
в погашенном отеле
его глаза через окно
на Турцию глядели.
На тот тишайший небосклон,
на то земное лоно,
где был за всё за это он
объявлен вне закона.
1969
290. ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ
В гудки индустрии поверя,
спав от волнения с лица,
мы вышли все из сельской двери,
сошли с крестьянского крыльца.
И нас от старого крылечка
и вдоль села, и за село,
кружась и прыгая, колечко
в далекий город увело.
Нет, это вовсе не отсталость,
что с той поры до этих дней
вся та земля, что там осталась,
осталась в памяти твоей.
Ты весь засветишься на рынке
средь повседневной тесноты,
в крестьянской ивовой корзинке
увидев сельские цветы.
Оттуда, от полян и речек,
с какой-то детскою тоской
они пришли к тебе навстречу,
бывалый житель городской.
Вези их в утреннем трамвае,
не суетясь и не спеша,
неловко к сердцу прижимая,
увялой свежестью дыша.
Тебе цветы расскажут эти,
их полевая простота,
что где-то там на белом свете,
как рожь на утреннем рассвете,
шумят родимые места;
что светит небо дорогое
и так, да и не так, как тут,
и за собою, за собою
тебя обратно позовут.
Любовь к земле на расстоянье
нехлопотлива, хоть трудна.
Но это всё не покаянье,
а только лирика одна.
Одна страна, одна Россия
взяла под собственную сень
и наши судьбы городские,
и судьбы наших деревень.
1969
291. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
С закономерностью жестокой
и ощущением вины
мы нынче тянемся к истокам
своей российской старины.
Мы заспешили сами, сами
не на экскурсии, а всласть
под нисходящими ветвями
к ручью заветному припасть.
Ну что ж! Имеет право каждый.
Обязан даже, может быть,
ту искупительную жажду
хоть запоздало утолить.
И мне торжественно невольно,
я сам растрогаться готов,
когда вдали на колокольне
раздастся звон колоколов.
Не как у зрителя и гостя
моя кружится голова,
когда увижу на бересте
умолкших прадедов слова.
Но в этих радостях искомых
не упустить бы на беду
красноармейского шелома
пятиконечную звезду.
Не позабыть бы, с обольщеньем
в соборном роясь серебре,
второе русское крещенье
осадной ночью на Днепре.
…Не оглядишь с дозорной башни
международной широты,
той, что вошла активно в наши
национальные черты.
1969
292. РАБОЧЕМУ КЛАССУ
В силу сердца и в силу традиций
я собрался – в какой уже раз! —
со стихами к тебе обратиться
с Красной площади в праздничный час.
Это здесь с увлеченьем всегдашним,
раздвигая плечом небосвод,
вековые и вечные башни
ты поставил, рабочий народ.
Сам по твердости схожий с гранитом,
не жалея старанья и сил,
Мавзолея гранитные плиты
ты печально и гордо сложил.
Ты соткал для гражданской отваги
и пронес по раздольям страны
Революции ленинской флаги
и знамена Великой войны.
По духовному смыслу и складу,
по учебникам собственных школ
ты, построив сперва баррикады,
на плотины потом перешел.
А теперь, как в привычную смену,
в межпланетную даль высоты,
на монтаж и на сварку Вселенной
не спеша собираешься ты.
И на будущем том космодроме,
где-то между Луной и Москвой,
будешь вешать свой табельный номер,
как железный мандат заводской.
Жизнь России уже утвердила,
подтвердила эпоха сама
созиданья рабочую силу,
пролетарскую силу ума.
1969
293. ЧЕТЫРЕМ ДРУЗЬЯМ
Расулу Гамзатову, Мустаю Кариму, Кайсыну Кулиеву, Давиду Кугультинову
Вы из аймаков и аулов
пришли в литературный край
все вчетвером – Кайсын с Расулом,
Давид и сдержанный Мустай.
Во всем своем великолепье
вас всех в поэзию ввели
ущелья ваши,
ваши степи,
смешенье камня и земли.
Они вручали вам с охотой,
поверив в вашу правоту,
и вашей лирики высоты,
и ваших мыслей широту.
Сквозь писк идиллий и элегий
я слышу ваши голоса.
Для поэтической телеги
нужны четыре колеса.
И, как талантливое слово,
на всю звучащее страну,
четыре звонкие подковы
необходимы скакуну.
Припомнить можно поговорку,
чтоб стих звучал повеселей:
всегда козырная четверка
бьет и тузов, и королей.
1969
294. РАЗМЫШЛЕНИЯ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
Мы кузнецы, и дух наш молод…
Ф. Шкулев
Они недаром ходят, толки,
что в Горках памятной зимой
ты был у Ленина на елке,
мой современник дорогой.
Ту елку посредине зала,
как символ неба и труда,—
не вифлеемская венчала,
а большевистская звезда.
Светились лампочки и свечки.
Водили робко хоровод
вы, небольшие человечки,
ребячий чистенький народ.
И, сидя как бы в отдаленье,
уже почти уйдя от дел,
в последний раз товарищ Ленин
на вас прищуренно глядел.
И с торопливостью усталой,
еще стройна и не стара,
для вас торжественно играла
без нот до самого финала
и снова с самого начала
раскат «Интернационала»
его любимая сестра.
И заробевшие вначале
девчурочки и сорванцы,
уже сияя, распевали:
«Мы кузнецы! Мы кузнецы!»
Да, дух ваш был и вправду молод
в те достославные года.
Они недаром, Серп и Молот,
над вами реяли тогда.
…Никто не видел в те мгновенья
его, ушедшего во мглу.
Какие отблески и тени
прошли по бледному челу!
Он размышлял, любуясь вами,
о том, как нынешний народ
в боях простреленное знамя
без командарма понесет.
Он думал, глядя в дни иные
и в нашу жизнь из тех времен,
как сложится судьба России
и всех народов и племен.
Ну что же, мы и в самом деле
с неколебимой правотой
на всю планету нашумели,
как вы в тот день на елке той.
И, глядя в прожитые дали,
отсюда, из своей земли,
давайте вспомним в звездном зале,
что мы и нынче, как вначале,
не отступились, не солгали,
не отошли, не подвели.
1969
295. АКОП САЛАХЯН
Я так люблю тебя, Акоп,
в такой счастливой мере,
что в бледный лоб и красный гроб
решительно не верю.
Попав до срока в клубный зал
речей и поминаний,
ты на цветах своих лежал,
как путник на поляне.
И я в собравшейся толпе
припомнил наудачу,
как мы с Баруздиным к тебе
заехали на дачу;
как мебель комнаты твоей,
от стула до дивана,
трещала вся от повестей,
ломилась от романов.
А из дождливой суеты,
из пасмурной печали,
склонившись, мокрые цветы
сквозь стекла проступали.
Вот в стопки льет твоя рука,
под смутную погоду,
златую струйку коньяка
армянского завода.
Но этот дружный разворот,
внезапный и невинный,
вдруг обрывает у ворот
служебная машина.
Твои поступки и дела,
проступки и деянья
и украшала, и влекла
улыбка обаянья.
Я объяснить не смею сам,
и пробовать напрасно,
весь твой азарт по пустякам,
воинственно прекрасный.
Я сам невесел оттого,
что нету веры в чудо
и в наше время волшебство
осмеяно повсюду.
Но, может быть, ведь может быть,
сумеют строки эти
тебя хоть на день воскресить
в сегодняшней газете.
1970
296. ЛЕНИНСКИЙ СВЯЗНОЙ
Под ветром осени сквозным
мне было бы довольно
работать ленинским связным
в послеоктябрьском Смольном.
Я в доме том обязан быть,
мне по сердцу и впору
с военной выправкой ходить
по грозным коридорам.
Пусть знает ночью Питер весь,
чуть видимый сквозь бурю,
что я не где-нибудь, а здесь
восторженно дежурю.
И наконец полночный час,
как жизни назиданье,
дает мне ленинский приказ,
особое заданье.
Несись по лестнице теперь,
сияя деловито.
Одним плечом – с налета! – дверь
в Историю открыта.
Душа движением полна,
как пеньем соловьиным,
и ледяные стремена
как горные стремнины.
От скачки бешеной моей,
от ярости особой
к столбам чугунных фонарей
сторонятся сугробы.
И, появившись на момент,
ссутулившись погано,
бежит враждебный элемент
от черного нагана.
Скрипит морозное седло,
кипит младая сила.
…А может, то, что быть могло,
на самом деле было?
И это в самом деле он —
по самой главной теме —
меня послал из тех времен
в сегодняшнее время.
И от повадки юной той
до красной крышки гроба
я только ленинский связной
с депешею особой.
1970
297. КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
Я много раз с друзьями рядом
под небом осени живым
на этих праздничных парадах
стоял с билетом гостевым.
Я, как и все мы, не однажды,
уйдя в тот день от прочих дел,
с духовной гордостью и жаждой
на демонстрацию глядел.
Я наших празднеств повторенье,
кипенье наших дум и сил,
как будто бы стихотворенье,
умом и сердцем затвердил.
Но рад тому, что в список этот,
и благородна, и мила,
сегодня новая примета
по-равноправному вошла.
Как сговорившись меж собою,
из парниковой тесноты
на площадь хлынули толпою
гвоздики красные цветы.
И, потрясенная дотоле
движеньем пушек и полков,
вся площадь стала красным полем
от света праздничных цветов.
Они пришли сюда недаром,
не только ради красоты,
цветы советских коммунаров —
самой Истории цветы.
Устало уходя отсюда,
чтоб силу снова обрести,
я не забуду, не забуду
цветок на память унести.
Пусть дома в чистеньком уютце
всегда хранится между строк
трех наших русских революций
неувядаемый цветок.
1970
298. БЕЗ ФАНФАР И ФЛАГОВ
Из Кремлевской Москвы на машинах крылатых
в эти дни улетают домой делегаты.
На аэровокзалах трепещут знамена.
Называем мы наших друзей поименно.
И печатают вечером наши газеты
групповые прощальные эти портреты.
Но приводит тебя почему-то в смущенье,
что о двух делегациях нет сообщенья,
что они отбывают, изъездив полсвета,
без речей и знамен, без фанфар и портретов.
Эти две делегации, как ни печально,
пребывают на этой земле нелегально.
Так сложилась – пока – их партийная доля,
что они не выходят еще из подполья.
Не смущайся, камрад! Ведь в истории дальней
наша партия тоже была нелегальной.
Не однажды она не по собственной воле
с площадей и трибун уходила в подполье.
Но, незримо собрав поредевшие силы,
из подполья наружу опять выходила.
В нашу партию тоже в далеком начале
проникали враги и жандармы стреляли.
Но дворцы штурмовались, вскрывались подвалы,
и врагов своих Партия грозно карала.
И на доски признанья с печальною силой
имена ополченцев своих заносила.
1970
299. ЕЛЬНИК
В ту самую тяжкую дату,
когда, не ослабив плеча,
из Горок несли делегаты
на станцию гроб Ильича,
когда в стороне заметенной,
когда в тишине снеговой
едва колыхались знамена,
увитые черной каймой, —
по-тихому встав до рассвета,
тулуп застегнув на груди,
в начале процессии этой
и даже чуток впереди
на розвальнях ехал морозных,
наполненных лапником впрок,
еще никакой не колхозный
окрестный один мужичок.
Он не был тогда коммунистом,
а может, и после не стал,
но бережно ельничком чистым
дорогу туда устилал.
Хотел он народному другу,
о том не умея сказать,
хоть горькую эту услугу,
хотя бы ее оказать.
Мечтал он по собственной воле
на горестном санном пути
хоть самую малую долю
в прощание это внести.
Не с тем он решил постараться,
чтоб люди заметить могли,
а чтоб в стороне не остаться
от общего горя земли.
1970
300. «Нелегкое задумав дело…»
Нелегкое задумав дело,
я поведу прямую речь:
ведь всё ж, однако, не сумела
тебя Россия уберечь.
Не сберегли на поле чистом
вседневной жизненной войны
ни меч зазубренный чекиста,
ни руки слабые жены.
Кому по силам, брови хмуря,
винтовки не снимая с плеч,
ту титаническую бурю
от бурелома уберечь?
К его помощникам высоким,
за ним уже ушедшим вдаль,
ни обвиненья, ни упрека,
а только поздняя печаль.
Нельзя каким-то словом пошлым
или научным, может быть,
в суровой правде жизни прошлой
хотя бы слово изменить.
Но есть решающее средство —
его стремительную речь
и строчку каждую наследства
от посягательств уберечь.
1970
301. ПРОЩАНИЕ С МОСКВОЙ
Опять до рассвета не спится.
Причины врачам не постичь.
По доброму гулу столицы
тоскует Владимир Ильич.
По стенам тоскует и башням,
по улочке каждой кривой,
по всей ее жизни тогдашней,
по всей толчее трудовой.
Из этого парка и сада,
роняющих мирно листву,
ему обязательно надо —
хоть на день – прорваться в Москву.
Легко ли рукою некрепкой,
завидев предместья Москвы,
свою всероссийскую кепку
замедленно снять с головы?
И с той же медлительной силой,
какою в те годы жила,
навстречу столица склонила
свои – без крестов – купола…
Оно еще станет сказаньем,
легендою станет живой
последнее это свиданье,
прощальная встреча с Москвой.
Прощание с площадью Красной,
где в шествии будущих дней
пока еще смутно, неясно
чуть брезжил его Мавзолей…
1971
302. РАБОТА
Многообразно и в охоту
нам предлагает жизнь сама
душе и мускулам работу —
работу сердца и ума.
Когда хирург кромсает тело,
что сотворил тот самый бог,
я уважаю это дело
и сам бы делал, если б мог.
Я с наслаждением нередко,
полено выровняв сперва,
тем топором рабочих предков
колю – и эхаю – дрова.
Пусть постоянный жемчуг пота
увенчивает плоть мою, —
я признаю одну работу,
ее – и только – признаю.
А если кто подумал что-то
и подмигнул навеселе,
так это тоже ведь работа,
одна из лучших на земле.
1971
303. ИЗ ПИСЬМА ПОЭТУ-СОБРАТУ
Я просто рад, что модным я не стал
и что, в отличье от иных талантов,
не сочинял стихов на эсперанто,
а лишь по-русски думал и писал.
В моих стихах – теперь, на склоне лет,
признаться самому необходимо —
и пафоса космического нет,
и мало захолустного интима.
В сиянье звезд таинственная высь…
Джульетта ждет посланья дорогого…
Без этого непросто обойтись,
но просто невозможно без другого:
я митинги могучие люблю,
где говорит оратор без бумаги,
и осеняют лозунги и флаги
трибуну, на которой я стою.
Одной тебе, действительность сама,
я посвящал листки стихотворений.
И в них не меньше сердца и ума,
чем в околичной праздной дребедени.
Пожалуй, что и эта даль, и высь,
весь мир земли, прекрасный и тревожный,
без моего пера бы обошлись.
Но мне без них – я знаю – невозможно.
1971
304. ПАВЕЛ БЕСПОЩАДНЫЙ
В начале века этого суровом,
в твоих конторских записях, Донбасс,
вписал конторщик Павла Иванова —
фамилию, нередкую у нас.
Я с точностью документальной знаю —
не по архивам личного стола, —
когда к нему фамилия вторая,
откудова и для чего пришла.
Среди имен обычных, заурядных —
как отзвук нескончаемых атак —
он выбрал имя – Павел Беспощадный,
и с этих пор подписывался так.
Фамилия безжалостная эта
уместнее была наверняка
не на стихах лирических поэта,
а на стальных бортах броневика.
Уж хорошо ли это или плохо —
она собой определяла стих.
В твоем распоряжении, эпоха,
тогда фамилий не было других.
1971 (?)
305. РАБОЧАЯ ТЕМА
Опять пришло, опять настало время,
когда во всю писательскую прыть,
винясь и каясь, о рабочей теме
мы ежедневно стали говорить.
Опять мы ждем, достойного не видя,
что из цехов уже недальних дней
появится неведомый Овидий
с тетрадкою таинственной своей.
Что ж, пусть идет – уже настали сроки,
уже готовы души и сердца,
пускай они гремят и блещут, строки
безвестного великого певца.
Ну, а пока о нем известий нету
и точного не слышно ничего,
не позабыть бы нам о тех поэтах
рабочего народа своего,
о тех певцах, что в жизни небогатой,
по честному уменью своему,
прокладывали рифмой, как лопатой,
дорогу песен гению тому.
О тех, что есть и что недавно были,
и, в поисках добра и красоты,
по сторонам дороги посадили
свои, быть может, бедные цветы.
Пускай же он, склонившись осторожно,
возьмет цветок иль, может, два цветка
из этих вот посадок придорожных
для своего тяжелого венка.
1971 (?)
306. «Не то чтоб все стихотворенья…»
Не то чтоб все стихотворенья,
что я недавно написал,
не вызывали одобренья,
или хулы, или похвал.
Не то чтоб где-нибудь в журнале
или в газетах городских
моих стихов не ожидали
и не заказывали их.
И уж конечно я не с теми, —
не дай мне боже с ними быть! —
что предлагают в наше время
искусство вовсе истребить.
Я даже и не с тем поэтом,
хоть он достаточно умен,
что при посредстве Литгазеты
отправил лирику в загон.
Но всё слабеет ощущенье, —
признаться в этом надо тут, —
что твоего стихотворенья
с таким же общим нетерпеньем,
с такою жаждой люди ждут.
<1972>
307. ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК
Звучала средь снегов
пятнадцатого года
последняя, без слов
державинская ода.
Понятно, отчего
был Пушкин благонравен
в тот день, когда его
благословил Державин.
Всесветно одинок,
ослаблый и мясистый,
свой лавровый венок
он отдал лицеисту.
При ропоте молвы
сошел венок России
с поникшей головы
на кудри молодые.
Из всех стараясь сил,
по лестницам Лицея
юнец его носил,
всерьез благоговея.
Он был ему под стать.
В нем сладостно дышалось,
но эта благодать
недолго продолжалась.
Всему приходит срок,
закату и рассвету,
и тесен стал венок
великому поэту.
Он был не так уж мал,
но с каждым новым годом
всё тягостней стеснял
души его свободу.
В один обычный день,
устав от постоянства,
он сдвинул набекрень
докучное убранство.
Шальная голова,
трибун ночных собраний
не стал из озорства
таскать его в кармане.
Венок судьбы чужой,
награду дорогую,
он снял своей рукой,
стыдясь и торжествуя.
В один и тот же миг,
единственным движеньем
и сам себя расстриг,
и принял постриженье.
И доставал на свет
в колеблемом тумане
венок ушедших лет,
печаль воспоминаний…
<1972>








