Стихотворения и поэмы
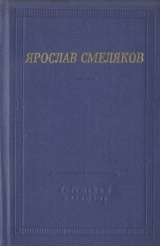
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
5. ПОСЕВНАЯ НОЧЬ В ТИПОГРАФИИ
Директор сказал: «Дело требует, двигай!
Нам дан заказ – посевная книга.
А дело важное – знаешь сам,
а срок – тридцать четыре часа».
Инструктор сказал: «Наступает весна
под галочьи крики, под всплески весла,
под ласки черемухи, зуд мандолины,
под искренность ветра,
под ветреность ливней.
Земля обварилась, набухла, вспотела,—
ну, словом, у нас посевное дело.
А дело важное – знаешь сам,
а срок – двадцать четыре часа».
Я бригадир. Я сказал: «Бригада!
Нам это заданье не тяжесть – награда.
К станкам становись, чтобы время летело.
У нас идет посевное дело.
А дело важное, ясно без слов,
а срок – семь с половиной часов…
Мне говорить о севе не надо:
вместе в клубе слыхали доклад и
вместе на этом докладе не спали
и резолюцию принимали…
А после такого, ребята, доклада
работать для сева по-новому надо.
У книжки тираж – три тысячи триста.
А это читатели-трактористы…»
И встала бригада, пять человек,
чтоб время летело упрямо, как бег,
чтоб время летело (не зря летело).
У нас идет посевное дело,
по цеху идет посевное дело,
и этому севу наш долг помочь.
Над цехом повисла громадная ночь,
над цехом, гремя, скрежеща и стеная,
громадой повисла ночь посевная.
А сверху —
трансмиссий надорванный свист.
Наборщику кажется – он тракторист,
и ветер весенний – в широкие спины,
и трактором рвутся к победе машины.
Чтоб выполнить план,
чтобы славить страну,
взрывая цементную целину,
чтоб утром в печатный:
«Набор готов!
На книгу потрачено семь часов!»
1931
6. СТРАХ
Мальчишкой я был
незаметен и рус
и с детства привык
молчать.
Паршивая, бледная кличка
«Трус»
лежит на моих
плечах.
А плечи мои —
это детские плечи
класса, который
стоял у станков;
детства, которое
глохло, калечилось
десять,
двенадцать,
пятнадцать часов;
детства,
которому говорили:
«Парень, ты мал,
худосочен, плох.
Бойся!
Читай, несмышленыш,
Библию.
Бойся!
Сидит в облаков изобилии
страшный, как штык,
всекарающий бог.
Бойся!
Сияет матерь пречистая,
она не пропустит
грехи твои даром.
Бойся!
По крышам идут трубочисты.
Бойся!
Стоят на углах жандармы.
Бойся!»
И он врывался, страх.
Вы тоже такое помните.
И как это страшно —
сидеть впотьмах
в наполненной вечером
комнате.
Он раньше врывался,
раскрашенный страх,
истертою бабой-ягой:
он путался сукой
в моих ногах,
махал костяной
ногой.
Он раньше бродил,
неизвестный страх,
рядом с каждым
конем,
когда я в ночном
сидел у костра
в обнимку с худым
огнем.
И так через все
молодые года
я твердо пронес,
как груз,
я быстро пронес,
как заслуженный дар,
бездарную кличку
«Трус».
И так сквозь мой рост,
совсем молодой,
сквозь радость,
сквозь полночь,
сквозь мрак
я быстро пронес
непонятный,
немой,
почти первобытный
страх.
А только теперь
молодеет страна
с каждым идущим
днем.
Она наливается соком.
Она
нужнейшим горит
огнем.
Никто еще так
не решался петь.
Никто еще так
не жил.
Недаром гуляет
горячая нефть
по нефтепроводам жил.
Недаром враги
за кордоном двойным
скушны и как будто
тихи.
Они, ожидая
начала войны,
прилаживают штыки.
Их песни уже
до начала допеты,
до гнусной
передовой.
Петитом и корпусом
в их газетах
набран
собачий вой.
Ну что же – а мне
восемнадцать лет.
Я буду в военной
спецовке
идти и держать
в молодой руке
начищенную винтовку.
Ну что ж – я отдам
неумелый страх
за то, чтобы твердо
и ловко
держать в молодых,
как винтовка, руках
молоденькую винтовку.
Я выбросил в небо
неграмотный страх,
который мне в верности
клялся.
Я встану,
сжимая
в надежных руках
бесстрашие
нашего
класса.
1932
7. СМЕРТЬ БРИГАДИРА
Вчера работал бригадир,
склонившись над станком.
Сегодня он лежит в гробу,
обитом кумачом.
А зубы сжаты. И глаза
закрыты навсегда.
И не раскроет их никто.
Нигде. И никогда.
И тяжело тебе лежать
в последней из квартир,
и нелегко тебе молчать,
товарищ бригадир.
Твой цех в молчанье понесет
тебя по мостовой.
В зеленый день в последний раз
пойдем мы за тобой.
Но это завтра. А пока,
молчанью вопреки,
от гула, сжатого в винтах,
качаются станки.
За типографии окном
шумит вечерний мир,
гудит и ходит без тебя,
товарищ бригадир.
Врывайся с маху в эту жизнь,
до полночи броди!
А ты не слышишь. Ты лежишь,
товарищ бригадир.
Недаром заходил в завком
сегодня плановик.
И станет за твоим станком
упрямый ученик.
Он перекрутит все винты,
все гайки развернет.
Но я ручаюсь, что станок
по-прежнему пойдет.
Ты жизнь свою не потерял,
гуляя и трубя.
Страна, машина и реал
запомнили тебя.
И ты недаром сорок лет
в цехах страны провел,
и ты недаром научил
работать комсомол.
Двенадцать парней. Молодежь.
Победа впереди.
Нет, ты не умер. Ты живешь,
товарищ бригадир.
Твоя работа и любовь
остались позади.
Но мы их дальше понесем,
товарищ бригадир.
Мы именем твоим свою
бригаду назовем.
Мы радостным путем побед
по всей земле пройдем.
Когда же подойдут года,
мы встретим смерть свою
под красным знаменем труда —
в цехах или в бою.
Но смотрят гордо города,
но вечер тих и рус.
И разве это смерть, когда
работает Союз?
Который – бой,
который – гром
за настоящий мир.
В котором мы с тобой живем,
товарищ бригадир.
1932
8. ВОР
Бывают такие бессонные ночи:
лежишь на кровати – скрипит кровать,
и ветер, конечно не много, не очень,
но всё же пытается помешать.
И дождик, невзрачный, унылый и кроткий,
падает на перезревшие ветки,
и за фанерною перегородкой
вздыхает беременная соседка.
В такую-то полночь (верьте не верьте),
потупив явно стыдливый взор
и отстранив назойливый ветер,
в форточку лезет застенчивый вор.
Мне неудобно, мне даже стыдно.
Что он возьмет – черновики?
Где ж это, братцы читатели, видно,
чтоб похитители крали стихи?
Ему же надо большие узлы,
шубы, костюмы, салфетки и шторы.
Нет у меня ничего и, увы,
будет, наверно, не скоро.
Думаю я: ну ладно, что ж,
трудно бедняге – привычка.
В правой руке – настоящий нож,
в левой руке – отмычка.
Лезет в окно, а оно гремит
джаз-бандом на вечеринке.
Фонарь зажигает – фонарь не горит
(наверно, купил на рынке).
На стул натолкнулся, порвал штаны.
Конечно, ему незнакомо…
Зажег я свет и сказал: «Гражданин,
садитесь, будьте как дома.
Уж вы извините, что я не одет,
вы ведь не предупредили,
вы ж за последние двадцать лет
даже не заходили.
Быть может, не нравится вам разговор,
но я не о вашей вине ведь.
Оно, конечно, вы опытный вор,
вам это дело виднее.
Но вам неудобно на улице – дождь,
еще, чего доброго, схватите грипп».
И вор соглашается: «Нет, отчего ж,
давайте поговорим».
Потом я мочалил над примусом спички
(«Не разжигается, стерва!»),
а вор в это время своею отмычкой
пытался открыть консервы.
И только когда колбаса подгорела
и чайник устал нагибаться,
я бухнул: «Мне кажется, устарела
ваша квалификация.
Мне кажется (в этом уверен я),
что за столом не мы,
не просто два человека сидят,
а старый и новый мир.
Один этот – новый и нужный нам,
растущий из года в год.
Один этот – наш – выдвигает план
и выполняет его.
Один этот, – я даже захлебнулся
и ложечкой помахал, —
один этот бьется горячим пульсом
в каждой строке стиха.
В одном этом мы вырастаем и любим,
в одном этом парни отвагой горят.
Один этот вас называет „люмпен“
и добавляет „пролетариат“.
И вы, представитель другого мира,
попавший к строителям невзначай,
сидите в чужой коммунальной квартире
и пьете взращенный ударником чай,
едите из этих веселых тарелок,
готовых над вами смеяться.
Она действительно устарела,
ваша квалификация.
Вы мимо труда,
пятилетки мимо
ходите мокрою ночью,
и это когда нам необходимы
профессор и чернорабочий.
Ах, в чью стенгазету,
зачем и кому
вам написать, неодетому:
„Товарищ завком, оглянись, ау!
Охрана труда, где ты?“
И знаете что? Я придумал исход:
идите, пожалуй, хоть к нам на завод.
У вас накопилась какая-то ловкость,
научитесь быстро. И скоро
вы будете в новой просторной спецовке
стоять над гудящим мотором.
Вам в руки дадут профсоюзный билет,
вам премией будет рубашка,
и мы напечатаем ваш портрет
в нашей многотиражке.
Вы нам поможете, мы проведем
пятилетку в четыре года.
Вы в комнату эту войдете и днем
и даже с парадного входа».
Рассвет начинается. Лампа горит.
По небу плывут облака.
А вор улыбается и говорит:
«Спасибо, товарищ. Пока».
1932
9. ЛЮБОВЬ
Последние звезды бродят
над опустевшим сквером.
Веселые пешеходы
стучатся в чужие двери.
А в цехе над пятилеткой
склонилась ночная смена,—
к нам в окна влетает запах
отряхивающейся сирени.
А в Бауманском районе
под ржавым железом крыши,
за смутным окном, закрытым
на восемь крючков и задвижек,
за плотной и пыльной шторой
на монументальной кровати
любимая спит. И губы
беспомощно шевелятся.
А рядом храпит мужчина,
наполненный сытой кровью.
Из губ его вылетает
хрустящий дымок здоровья.
Он здесь полновластный хозяин.
Он знает дела и деньги.
Это его кушетка
присела на четвереньки.
Он сам вечерами любит
смотреть на стенные портреты,
и зеркало это привыкло
к хозяйскому туалету.
Из этого в пианино
натянутого пространства
он сам иногда извлекает
воинственные романсы.
И женщину эту, что рядом
лежит, полыхая зноем,
он спас от голодной смерти
и сделал своею женою.
Он спеленал ее ноги
юбками и чулками.
Она не умеет двигать
шелковыми руками.
Она до его прихода
читает, скучает, плачет.
Он водит ее в рестораны
и на футбольные матчи.
А женщина спит, и губы
подрагивают бестолково,
из шороха и движенья
едва прорастает слово,
которым меня крестили
в патриархальную осень,
которое я таскаю
уже девятнадцать весен.
Я слышу. Моя бригада
склонилась над пятилеткой,
и между станками бродит
волнующий луч рассвета.
Я знаю, что молодая,
не обгоняя меня,
страна моя вырастает,
делами своими звеня.
Я слышу, не отставая
от темпа и от весны,
растет, поднимается, бьется
наличный состав страны.
И я прикрываю глаза – и
за полосой зари
я вижу, как новый город
зеленым огнем горит.
Я вижу – сквозь две пятилетки,
сквозь голубоватый дым —
на беговой дорожке
мы рядом с тобой стоим.
Лежит у меня в ладони
твоя золотая рука,
отвыкшая от перчаток,
привыкшая к турникам.
И, перегоняя ветер
и потушив дрожь,
ты в праздничной эстафете
победную ленточку рвешь.
Я вижу еще, как в брызгах,
сверкающих на руке,
мы, ветру бросая вызов,
проносимся по реке.
И сердце толкается грубо,
и, сжав подругу мою,
ее невозможные губы
под звездами узнаю…
И сердце толкается грубо.
На монументальной кровати
любимая спит. И губы
доверчиво шевелятся.
А в цехе над пятилеткой
склонилась ночная смена —
нам ноздри щекочет запах
отряхивающейся сирени.
И чтобы скорее стало
то, что почти что рядом, —
над пятилеткой стала
моя молодая бригада.
И чтобы любовь не отстала
от роста Страны Советов,
я стал над свинцом реала,
я делаю стенгазету.
Я делаюсь бригадиром
и утром, сломав колено,
стреляю в районном тире
в районного Чемберлена.
Я набираю и слышу
в качанье истертых станков,
как с каждой минутой ближе
твоя и моя любовь.
1932
10. ВЕСНА В МИЛИЦИИ
Я шел не просто —
я свистел.
И думалось о том,
что вот природа не у дел
и мокнет под дождем,
что птички песенки поют,
и речка глубока,
и флегматичные плывут
по небу облака,
и слышно, подрастает как,
шурша листвою, лес.
И под полою нес кулак
откопанный обрез,
набитый смертью.
Птичий свист
по всем кустам летел.
И на «фордзоне» тракторист
четыре дня сидел
и резал землю.
(Двадцать лет,
девчонка у ворот.)
Но заседает сельсовет
две ночи напролет.
Перебирая имена,
охрипнув, окосев,
они орут про семена,
и про весенний сев,
и про разбавленный удой,
и про свою беду.
А я тропинкою кривой
задумчиво иду.
Иду
и думаю,
что вот
природа не у дел,
что теплый ветер у ворот
немножко похудел
и расстоянье велико
от ветра и весны
до практики большевиков,
до помыслов страны.
И что товарищам порой
на звезды наплевать.
И должен все-таки герой
уметь согласовать
весну расчерченных работ
с дыханьем ветерка,
любовью у сырых ворот,
и смертью кулака,
и лесом в золотом огне.
А через две версты
стоит милиция.
В окне
милиции цветы
весенние.
И за столом
милиции допрос
того, кто вместе с кулаком
глухую злобу нес,
того, кто портит и вредит,
того, кто старый враг.
И раскулаченный сидит в
милиции кулак,
и искренне желает нам
с весною околеть.
А у начальника – весна
в стакане на столе.
И сразу понимаю я,
что этот человек
умеет планы выполнять,
валяться на траве,
ночами за столом не спать,
часами говорить.
Умеет звезды понимать
и девушек любить.
Я веселею.
Я бреду
дорожкою кривой
и сочиняю на ходу
рассказы про него.
И принимаю целиком
дыхание весны —
борьбу с раскосым кулаком
и первые цветы.
И радуюсь, когда слова,
когда моя строка
и зеленеют, как трава,
и душат кулака.
1932
11. ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Вечерело. Пахло огурцами.
Светлый пар до неба подымался,
как дымок от новой папиросы,
как твои забытые глаза.
И, обрызганный огнем заката,
пожилой и вежливый художник,
вдохновляясь, путаясь, немея,
на холсте закат изображал.
Он хватал зеленое пространство
и вооруженною рукою
укрощал. И заставлял спокойно
умирать на плоскости холста.
(Ты ловила бабочек. В коробке
их пронзали тонкие булавки.
Бабочки дрожали.
Им хотелось
так же, как закату,
улететь.)
Но художник понимал, как надо
обращаться с хаосом природы.
И, уменьшенный в своих масштабах,
шел закат по плоскости холста.
Только птицы на холсте висели,
потеряв инерцию движенья.
Только запах масла и бензина
заменял все запахи земли.
И бродил по первому пейзажу
(а художник ничего не видел),
палочкой ореховой играя,
молодой веселый человек.
После дня работы в нефтелавке
и тяжелой хватки керосина
он ходил и освещался солнцем,
сам не понимая для чего.
Он любил и понимал работу.
(По утрам, спецовку надевая,
мы летим.
И, будто на свиданье,
нам немножко страшно опоздать.)
И за это теплое уменье
он четыре раза премирован,
и фамилия его простая
на Доске почета.
И весной
он бродил по свежему пейзажу,
палочкой ореховой играя,
и увидел, как седой художник
в запахах весны не понимал.
И тогда хозяйскою походкой
он вмешался в тонкое общенье
старых кадров с новою природой
и сказал прекрасные слова:
«Гражданин!
Я вовсе не согласен
с вашим толкованием пейзажа,
Я работаю. И я обязан
против этого протестовать.
Вы увидели зеленый кустик,
вы увидели кусок водички,
кувырканье птичек на просторе,
голубой летающий дымок…
И, седые брови опустивши,
вы не увидали человека,
вы забыли о перспективе
и о том, что новая страна
изменяет тихие пейзажи,
заседает в комнатах Госплана,
осушает чахлые болота
и готовит к севу семена.
Если посмотреть вперед, то видно,
как проходит здесь мелиоратор,
как ночами люди вырубают
дерево и как корчуют пни.
Если посмотреть вперед, то видно,
как по насыпи проходит поезд,
раздувая легкие.
И песни
молодые грузчики поют.
Если посмотреть вперед, то видно,
как мучительно меняет шкуру,
как становится необходимым
вышеупомянутый пейзаж.
Через два или четыре года
вы увидите всё это сами,
и картина ваша запылится
и завянет на чужой стене.
От стакана чая оторвавшись,
вовсе безразличными глазами
на нее посмотрит безразлично
пожилой случайный человек.
Что она ему сказать сумеет
про года, про весны пятилетки,
про необычайную работу,
про мою веселую страну?»
И стоял покинутый художник,
ничего почти не понимая.
И закат, уменьшенный в размерах,
проходил по линии холста.
Я хочу, чтобы в моей работе
сочеталась бы горячка парня
с мастерством художника, который
все-таки умеет рисовать.
1932
12. РАССКАЗ О ТОМ, КАК ОДНА СТАРУХА УМИРАЛА В ДОМЕ № 31 ПО МОЛЧАНОВКЕ
В переулке доживая
дни, ты думаешь о том,
как бы туча дождевая
не ударила дождем.
Как бы лампу не задуло.
Лучше двери на засов,
чтобы смерть не заглянула
до двенадцати часов.
Смерть стоит на поворотах.
Дождь приходит за тобой.
Дождь качается в воротах
и летит над головой.
Я уйду.
А то мне страшно.
Звери дохнут, птицы мрут.
День сегодняшний вчерашним,
вероятно, назовут.
Птичка вежливо присела.
Девка вымыла лицо.
Девка тапочки надела
и выходит на крыльцо.
Перед ней гуляет старый
беспартийный инвалид.
При содействии гитары
он о страсти говорит:
мол, дозвольте
к вам несмело
обратиться. Потому
девка кофточку надела,
с девки кофточку сниму.
И она уйдет под звезды
за мечтателем,
за ним,
недостаточно серьезным
и сравнительно седым.
Ты глядишь в окно. И еле
принимаешь этот мир.
Техник тащится с портфелем,
спит усталый командир.
Мальчик бегает за кошкой.
И, не принимая мер,
над разваренной картошкой
дремлет милиционер.
Ветер дует от Ростова.
Дни над городом идут…
Листья падают —
и снова
неожиданно растут.
Что ты скажешь, умирая,
и кого ты позовешь?
Будет дождь в начале мая,
в середине мая дождь.
Будто смерть,
подходит дрема.
Первосортного литья
голубые ядра грома
над республикой летят.
Смерть.
В глазах твоих раскосых
желтые тела собак,
птицы,
девочка,
колеса,
дым,
весна.
И папироса
у шарманщика в зубах.
И рука твоя темнеет.
И ужасен синий лик.
Жизнь окончена.
Над нею
управдом и гробовщик.
А у нас иные виды
и другой порядок дней —
у меня,
у инвалида
и у девочки моей.
Мы несем любовь и злобу,
строим, ладим и идем.
Выйдет срок —
и от хворобы
на цветах и на сугробах,
на строительстве умрем.
И холодной песни вместо
перед нами проплывут
тихие шаги оркестра
имени ОГПУ.
Загремят о счастье трубы.
Критик речь произнесет.
У девчонки дрогнут губы,
но девчонка не умрет.
И останутся в поверьях
люди славы и труда,
понимавшие деревья,
строившие города,
поднимавшие железо,
лес
и звезды топоров
против черного обреза
нерасстрелянных врагов.
И другие,
сдвинув брови,
продолжают строить дом.
Мы спокойно, как герои,
как товарищи, уйдем.
Мальчики стоят за нами,
юноши идут вперед.
Нами сотканное знамя
у распахнутых ворот.
Только мы пока живые
и работаем пока.
И над нами дождевые
пролетают облака.
И над крышами Арбата,
над могилою твоей
перманентные квадраты
снега,
града и дождей.
1933
13. ОСЕНЬ
Уже замерзают лужи.
Уже из бидонов молочниц
в кастрюли и кринки
льется
хрустящее молоко.
Уже замерзают зори.
Уже на покатых крышах
лежит настоящий,
нежный
ноябрьский холодок.
Ты спишь, моя дорогая.
И книжка про радиатор,
про смазку и про дороги
валяется на ковре.
Ты спишь, поджимая губы.
Какие большие ресницы!
Какое большое солнце
барахтается в окне!
Мне грустно, что я не помню,
как ты иногда смеешься,
что я никогда не слышал,
не видел,
не знал тебя.
А может быть, мы встречались
в каком-нибудь переулке,
тряслись на одном трамвае,
сидели в одном кино.
И ты на меня смотрела
сиреневыми глазами.
И я тебя не заметил,
не вспомнил, не угадал.
Я всё понимаю.
Просто
меня увлекает зависть.
Герой мой,
он очень счастлив.
Ему девятнадцать лет.
Он думает и смеется,
работает и гуляет,
целует своих девчонок
почти что у всех ворот.
Сейчас он стоит и свищет
какую-то глупую песню.
И звезды стоят,
как будто
прикреплены к нему.
Ты спишь, моя дорогая,
работаешь в институте,
глотаешь горячий завтрак.
Ну как я тебя найду?
Мне выпало счастье – шляться
по следу моих героев,
устраивать им свиданья,
раскрашивать небеса.
Они приезжают в город
с подругами и вещами.
Толкаются на перронах,
тупеют в очередях,
робеют перед машиной.
Но я их беру в работу
и длинными вечерами
учу понимать страну.
Мне некогда. Я замучен
нагрузками и работой,
я только случайно вспомнил
про то, что забыл тебя.
Не надо,
не обижайся.
Уже замерзают зори.
Я лучше возьму папиросу,
а ты просыпайся.
Пора!
1933
14. «Ну, как мне, девочка, о том…»
Ну, как мне, девочка, о том
грустить, что ты ушла, когда
стоит по-старому мой дом,
по-прежнему течет вода,
по вечерам скрипит калитка,
сидит у керосинки мать…
За этот год
я научился
огонь и воду понимать.
Я ездил и привез с собою
на скором поезде в Москву
большие облака,
дороги, озера,
желтую траву,
мосты,
улыбки провожатых,
седую бурю,
паруса
и голубые от заката,
невероятные леса.
И вот сейчас захвачен я
и окружен железом,
пеньем,
движеньем летнего дождя,
товарных транспортов
движеньем,
круговоротом,
суетой,
снегами,
ветром,
листопадом,
переломившейся водой,
уральским пригородом,
градом,
подрагиваньем всех сердец,
степями,
стеклами,
морозом,
сухим песком
и, наконец,
тяжелым дымом паровозов.
Мне очень весело теперь
бродить и думать на просторе.
Возьму пиджак,
открою дверь —
и вижу Северное море.
И в том,
как мальчик на дворе
свистит,
я сразу отличаю
осенний ветер в сентябре
от ветра в середине мая.
Так здравствуй,
мой железный быт,
литой,
проверенный
и звонкий.
Пусть море в чайнике кипит
и Баскунчак лежит в солонке.
1933
15. «Я не знаю, много или мало…»
Я не знаю, много или мало
мне еще положено прожить,
засыпать под ветхим одеялом,
ненадежных девочек любить.
Опустив веснушчатые руки,
наблюдать, как падает звезда,
и глазами, желтыми от скуки,
провожать глухие поезда.
Тишина. Преобладают тени.
Падают на землю небеса.
Никаких таких произведений
я пока еще не написал.
Только мне невероятно мало —
открывая старые пути,
по пустым селениям журналов
грустным и задумчивым пройти.
Я стою.
Опущены постромки,
незаметно заметает след.
Принесут ехидные потомки
белые полотнища анкет.
Что я им отвечу, сочинивший
несколько посредственных стихов?
Чем я им отвечу, износивший
ящики дубовых сапогов?
Не был я ведущим или модным,
без меня дискуссия идет.
Михаил Семенович Голодный
против сложной рифмы восстает.
Супротив кого ты восставала
и кому ходила вопреки,
песнь моя?
От Юга до Урала
подымают головы враги.
Враг идет, зеленый и небритый,
на весну и на моих друзей.
Бей его штыком и динамитом,
словом золотым.
И недобитых —
словом перекошенным добей.
Я хочу усталыми руками
трогать свой незавершенный мир
полновесно (каменщики – камень),
улыбаясь – как литейщик пламя,
или как рассаду – бригадир.
И для этого – идти по лету,
по цветам, по первому песку,
позабыв фамилии поэтов,
потеряв московскую тоску.
И прийти туда, где мимо леса
пролетает звучная вода,
где почти железные черкесы
землю изучают по складам.
Там сидят, не ведая хворобы,
распивая круглые чаи,
рыжие от счастья землеробы,
сверстники тяжелые мои.
И, сухие плечи подымая,
открывая новые края,
там стоит посередине мая
женщина последняя моя.
Затянуться резаной махоркой,
чтобы дым, ленивый и кривой,
голубой и, вероятно, горький,
тихо пролетел над головой.
И сказать товарищам:
«Спасибо
за огонь, за неуютный кров,
за уроки ненависти. Ибо
я познал строение миров.
Я увидел каменные печи
и ушел, запомнив навсегда,
как поет почти по-человечьи
в чайниках сидящая вода».
И уйти под ветром, по знакомым
перекресткам, разбивая лед.
Баба, возвращаясь из райкома,
песенки нескладные поет.
Так меня носила и качала
тишина.
И в этой тишине
песни непонятное начало
глухо подымается во мне.
1933








