Стихотворения и поэмы
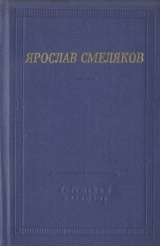
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
308. КАЛМЫК
Хоть я достаточно привык,
но снова голову теряю,
когда мне Пушкина калмык
благоговейно повторяет.
Те незабвенные слова,
как духи музыки и света,
не утеряли волшебства
от гордой тщательности этой.
Считает, видно, мой джигит
в своей простительной гордыне,
что Пушкин впрямь принадлежит
степному воздуху полыни.
Что житель русских двух столиц
не озарялся их огнями,
а жил, седлая кобылиц
или беседуя с орлами.
И с непокрытой головой,
играя на своей свирели,
шел за кибиткой кочевой
между тюльпанами апреля.
С таким я слушаю стараньем,
так тихо ахаю в ответ,
как будто полного Собранья
на полке не было и нет.
Как словно мне всё это внове
и я в Тригорском не бывал,
не пил «фетяску» в Кишиневе,
в Одессе устриц не глотал.
И с осторожностью веселой
для ожидающих веков,
пока он спал, я утром с полу
не собирал черновиков.
Как будто я из церкви тоже
не выносил на паперть прах
и гроб мучительный рогожей
не я укутывал в санях.
Читай еще, пастух степной.
Я чтенье это не нарушу.
От повседневности такой
мне перехватывает душу.
Как сердце бедное унять?
Скорей бы пушкинская сила
его наполнила опять
или совсем остановила.
Звучит средь сосен и снегов
до потрясения сознанья
то исполнение стихов,
как исполненье предсказанья.
1972
309. СТАРУХИ ОСЕТИИ
На Тереке только проездом бывая,
я все-таки вас не забыл второпях,
старухи Осетии в красных трамваях,
старухи Осетии в черных платках.
Любил я увидеть на уличной встрече,
какие нередко случаются тут,
как прямо вы держите слабые плечи,
как землю кавказскую юбки метут.
На бабушек русских вы мало похожи,
суровей глаза и надменнее рты, —
тогда почему же так близко тревожат
меня отрешенные ваши черты?
Тогда отчего же я, житель столицы,
спешу перед вами признательно встать,
чего я ищу в этих замкнутых лицах,
какую взаимность хочу отгадать?
К чему тут гаданья? С молчащею силой
в степях и ущельях победной страны
нас дважды роднили большие могилы,
сперва – революции, после – войны.
И громкая дробь пионерских отрядов,
и свадебный шелест девических лент,
вся жизнь, что мы прожили словно бы рядом
средь лозунгов этих и этих легенд.
1972
310. ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Чудится мне качанье
лодочки и волны
в самом твоем звучанье,
Набережные Челны.
Слушать тайком такую
музыку не могу:
словно бы там танцует
кто-то на берегу.
Связывают рассказы
прошлое городка
с баржею и лабазом,
с песнею бурлака.
Позже весьма полезно
действовал городок,
хлеб для страны железной
заготовляя впрок.
Слышен он был покамест
с музыкою своей
лишь по одной по Каме,
даже и не по всей.
Громче, хотя бы малость,
он и не мыслил стать.
Но и ему досталась
грозная благодать.
Чтоб не отстать от сроку,
постановил народ
ставить неподалеку
Камский автозавод.
Ливнем переполоха,
молниями страстей
в город вошла эпоха
грузов и скоростей.
Для молодцов монтажных,
для пробивных девчат
город одноэтажный
тесен и слабоват.
Утром уже бригады
выправки строевой
начали строить рядом
город отдельный свой.
Вот уже потянулись
там, где таилась тьма,
вдоль освещенных улиц
каменные дома.
Вот уже в смутной Каме
зыбко отражено
кранами и руками
сложенное кино.
Нынче поют у башен
с баками пареньки
песни не те, что ваши,
камские бурлаки.
И в полевом затишье,
в царстве сосны и ржи,
всё этажи да крыши,
крыши да этажи.
Жителей беспокоя,
думаю наперед:
имя возьмет какое
город высотный тот?
Хочется, чтоб на Каме,
словно вечерний свет,
вы сохранили память
прожитых нами лет.
Это ведь крайне важно,
чтоб в глубине страны
жили многоэтажно
Набережные Челны.
1972
311. СОТРУДНИЦЫ ЦСУ
Мы позабыли как-то без труда
и вспоминаем нехотя и редко
далекие негромкие года,
затишье перед первой пятилеткой.
Чтоб ей вперед неодолимой быть,
готовилась крестьянская Россия
на голову льняную возложить
большой венок тяжелой индустрии.
Предчувствием величия полны,
придвинув ближе счеты и чернила,
уезды и губернии страны
подсчитывали собственные силы.
Вот почему я в лирику внесу
известных мне по той эпохе дальней
молоденьких сотрудниц ЦСУ,
служительниц статистики центральной.
Я их узнал мальчишеской порой,
когда, ничуть над жизнью не печалясь,
они с моею старшею сестрой
по-девичьи восторженно общались.
Идя из школы вечером назад,
я предвкушал с блаженною отрадой,
как в комнатушке нашей шелестят
моих богинь убогие наряды.
Он до сих пор покамест не затих,
не потерял волшебного значенья,
чарующе ничтожный щебет их
над вазочкой тогдашнего печенья.
Но я тайком приглядывался сам,
я наблюдал, как властно и устало
причастность к государственным делам
на лицах их невольно проступала.
И счастлив тот ушастый школьник был,
воображая молча отчего-то,
что с женщинами этими делил
высокие гражданские заботы.
И всё же не догадывался он,
что час его предназначенья близко,
что он уже Историей внесен
в заранее составленные списки.
И что в шкафах статистики стальных
для грозного строительства хранится
средь миллионных чисел остальных
его судьбы и жизни единица.
1972
312. МЕМУАРЫ
И академик сухопарый,
и однорукий инвалид —
все нынче пишут мемуары,
как будто время им велит.
Уж хорошо там или плохо,
они ведут живую речь,
чтоб сохранить свою эпоху,
свою историю сберечь.
Они хотят, чтоб не упало
с телеги жизни прожитой
травинки даже самой малой,
последней даже запятой.
И, отойдя в тенек с дороги,
чтоб не мешаться на пути,
желает каждый сам итоги
войне и миру подвести.
Они спешат свой труд полезный
отдать в духовную казну
России, сердцу их любезной,
как говорили в старину.
И мы читаем, коль придется,
не поднимая головы,
и стиль реляций полководца,
и слог прерывистый вдовы.
Как словно нас нужда толкает
или обязанность зовет,—
пора, наверное, такая,
такой уж, видимо, народ.
1972
313. БАНКЕТ НА УРАЛЕ
Хотя нужды как будто нет
и хвастать этим толку мало —
случился первый мой банкет
в снегах промышленных Урала.
От яств его дощатый стол
в пустынном клубе не ломился, —
однако он произошел,
он, как событье, совершился.
Я был поэтом молодым
с одною книжкой за душою,
но самолюбием своим
уже считал, что что-то стою.
Не то чтоб там прославить Русь,
как гениальные поэты,
но всё же видел, что гожусь
для вечеров и для газеты.
И как бы ни было,
туда,
на том дымящемся Урале,
на это пиршество труда
меня, как равного, позвали.
Придя сюда, как на ликбез,
я, как и позже, чести ради
и в первый ряд ничуть не лез,
и не хотел тесниться сзади.
Я знал, что надо жить смелей,
но сам сидел не так, как дома,
вблизи седых богатырей
победных домн Наркомтяжпрома.
Их осеняя красоту,
на сильных лбах, блестящих тяжко,
свою оставила черту
полувоенная фуражка.
И преднамеренность одна
незримо в них существовала,
как словно марка чугуна
в структуре черного металла.
Пей чарку мутную до дна,
жми на гуляш с нещадной силой,
раз нормы славы и вина
сама эпоха утвердила.
Но я не слышал этих слов,
я плохо ел и выпил мало,
как будто мне своих хлебов
и песен собственных хватало.
Я не умел тогда молчать
и на своем стоял открыто,
как на тарелочке печать
благословенного Нарпита.
Свою обуздывая прыть,
я всё шептал стихотворенье,
чтоб на проверке заслужить
стола такого одобренье.
Хоть я не знал еще того
и только нынче понимаю,
что не себя там одного
я представлял и представляю.
1972
314. ПОЗДНЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Ты, несказанная страна
дождей и зорь, теней и света,
не сохранила имена
своих дописьменных поэтов.
Поклон им низкий до земли
за то одно, что в оны годы
они поэзию ввели
в язык обычный обихода.
Тому пора воздать хвалу,
кто без креста и без купели
дал имя грозное орлу
и имя тайное свирели.
Я, запозднясь, благодарю
того, кто был передо мною
и кто вечернюю зарю
назвал вечернею зарею.
Того, кто первый услыхал
капель апреля, визг мороза
и это дерево назвал
так упоительно – березой.
Потом уже, уже потом
сюда пришел Сергей Есенин
отогревать разбитым ртом
ее озябшие колени.
1972
315. НЕДОПЕСОК
Спеша поспеть на лапах длинных
и всё заваливаясь вбок,
февральским днем у магазина
к нам привязался кобелек.
У сына жалкого дворняжки,
как в том кругу заведено,
на грязно-белой тощей ляжке
светилось желтое пятно.
Он вовсе не втирался в гости,
как предприимчивый нахал,
а лишь угла и только кости
у человечества искал.
Не ставлю я себе в заслугу,
что, к удивленью своему,
и эту кость и этот угол
мы предоставили ему.
Весь день, не покидая места,
малыш дрожал исподтишка
и ждал от голоса и жеста
ругательства или пинка.
Но за какую-то неделю,
пройдя добрейшую из школ,
как мы старались и успели,
он постепенно отошел.
И начал вдруг, учуяв запах
и глядя в прожитое вспять,
колеблясь весь, на задних лапах
с лакейской выучкой стоять.
Но мы об этом позабудем, —
ведь понял он, пускай не вдруг,
что от него не надо людям
ни унижений, ни услуг.
Что стало радостным деяньем,
чуть не погибшее сперва,
уже само существованье
восторженного существа.
Он прикасался к нам мгновенно,
от счастья прыгал и визжал,
и этим самым всей вселенной
жить веселее помогал.
1972
316. ПЬЕРО
Земля российская гудела,
горел и рушился вокзал,
когда Пьеро в одежде белой
от Революции бежал.
Она удерживать не стала,
не позвала его назад, —
ей и без этого хватало
приобретений и утрат.
Он увозил из улиц дымных,
от площадного торжества
лишь ноты песенок интимных,
их граммофонные слова.
И всё поеживался нервно,
и удивлялся без конца,
что уберег от буйной черни
богатство жалкое певца.
Скитаясь по чужой планете,
то при аншлаге, то в беде,
полунадменно песни эти
он пел, как проклятый, везде.
Его безжалостно мотало
по городам и городкам,
по клубам и концертным залам,
по эмигрантским кабакам.
Он пел изысканно и пошло
для предводителей былых,
увядших дам, живущих прошлым,
и офицеров отставных.
У шулеров и у министров
правительств этих или тех
он пожинал легко и быстро
непродолжительный успех.
И снова с музыкой своею
спешил хоть в поезде поспать,
чтоб на полях эстрадных сеять
всё те же плевелы опять.
Но всё же, пусть не так уж скоро,
как лебедь белая шурша,
под хризантемой гастролера
проснулась русская душа.
Всю ночь в загаженном отеле,
как очищенье и хула,
дубравы русские шумели
и вьюга русская мела.
Все балериночки и гейши
тишком из песенок ушли,
и стала темою главнейшей
земля покинутой земли.
Но святотатственно звучали
на электрической заре
его российские печали
в битком набитом кабаре.
Здесь, посреди цветов и пищи,
шампанского и коньяка,
напоминала руки нищих
его простертая рука.
А он, оборотись к востоку,
не замечая никого,
не пел, а только одиноко
просил прощенья одного.
Он у ворот, где часовые,
стоял, не двигая лица,
и подобревшая Россия
к себе впустила беглеца.
Там, в пограничном отдаленье,
земля тревожней и сильней.
И стал скиталец на колени
не на нее, а перед ней.
1972
317. НАДПИСЬ НА КНИГЕ ЛИТЕРАТУРНОГО КРИТИКА
Стою я резко в стороне
от тех лирических поэтов,
какие видят только Фета
в своем лирическом окне.
Я не полезу бить в набат
и не охрипну, протестуя,—
пусть тратят перья, коль хотят,
на эту музыку пустую.
Но не хочу молчать сейчас,
когда радетели иные
и так и сяк жалеют нас,
тогдашних жителей России.
То этот мо́лодец, то тот
то в реферате, то в застолье
слезу напрасную прольет
над нашей бедною юдолью.
Мы грамотней успели стать,
терпимей стали и умнее,
но не позволим причитать
над гордой юностью своею.
Ее мы тратили не зря
на кирпичи и на лопаты,
и окупились те затраты,
служебной прозой говоря.
В предгрозовую пору ту
и на Днепре, и на Урале
мы сами нашу доброту
от мира целого скрывали.
И, как в копилке серебро,
не без трагических усилий,
свое духовное добро
для вас до времени копили.
Быть может, юность дней моих,
стянув ремень рабочий туже,
была не лучше всех других,
но уж, конечно, и не хуже.
1972
318. «Чужих талантов не воруя…»
Чужих талантов не воруя,
я потаенно не дышу,
а сам главу очередную
с похвальной робостью пишу.
В работе, выполненной мною,
как в зыбком сумраке кино,
мое лицо немолодое
неявственно отражено.
Как будто тихо причащаясь,
я сам теперь на склоне дней
в печали сладостной прощаюсь
с далекой юностью моей:
Не дай мне, боже, так случиться,
что я уйду в твои поля,
не полистав ее страницы
и недр ее не шевеля.
1972
319. ЧУВСТВО ЮМОРА
Есть и такие человеки
средь жителей любой страны,
что чувства юмора навеки
со дня рожденья лишены.
Не страшновато ль, в самом деле,
когда, глазенками блестя,
земле и солнцу в колыбели
не улыбается дитя.
Когда, оставив мир пеленок
для школы и других забот,
тот несмеющийся ребенок
сосредоточенно растет?
Усилья педантично тратя,
растет с угрюмою душой —
беда, коль мелкий бюрократик,
большое горе, коль большой.
Все запевалы и задиры
моей страны и стран иных
жить не умели без сатиры,
без шуток добрых и прямых.
Какая, к дьяволу, работа,
зачем поэтова строка
без неожиданной остроты,
без золотого юморка?!
Я рад поднять веселья кружку
за то, что сам ханжой не стал,
что заливался смехом Пушкин
и Маяковский хохотал.
За то, что в будущие годы —
позвольте так предполагать —
злодеев станут не свободы,
а чувства юмора лишать!
1972
320. «Не в парадную дверь музея…»
Не в парадную дверь музея —
черным ходом – не наслежу?—
и гордясь и благоговея,
в гости к Пушкину я вхожу.
Я намного сейчас моложе —
ни морщин, ни сединок нет,
бьется сердце мое. Похоже,
словно мне восемнадцать лет.
Будто не было жизни трудной,
поражений, побед, обид.
Вот сейчас из-за двери чудный
голос Пушкина прозвучит.
И, в своем самомненье каясь,
не решаясь ни сесть, ни встать,
от волнения заикаясь,
буду я – для него – читать.
Как бы ни было – будь что будет,
в этом вихре решаюсь я:
пусть меня он сегодня судит,
мой единственный судия.
1972
321. «Мне говорят и шепотом и громко…»
Мне говорят и шепотом и громко,
что после нас, учены и умны,
напишут доскональные потомки
историю родной моей страны.
Не нужен мне тот будущий историк,
который ни за что ведь не поймет,
как был он сладок и насколько горек —
действительный, а не архивный мед.
Отечество событьями богато:
ведь сколько раз, не сомневаясь, шли
отец – на сына, младший брат – на брата
во имя братства будущей земли.
За подвиги свои и прегрешенья,
за всё, что сделал, в сущности, народ,
без отговорок наше поколенье
лишь на себя ответственность берет.
Нам уходить отсюда не пристало,
и мы стоим сурово до конца,
от вдов седых и дочерей усталых
не пряча глаз, не отводя лица.
Без покаяний и без славословья,
а просто так, как эту жизнь берем,
всё то, что мы своей писали кровью,
напишем нашим собственным пером.
Мы это нами созданное время
сегодня же, а вовсе не потом —
и тяжкое и благостное бремя —
как грузчики, в историю внесем.
1972
322. «Что делать? Я не гениален…»
Что делать? Я не гениален,
нет у меня избытка сил,
но всё ж на главной магистрали
с понятьем собственным служил.
Поэт не слишком-то известный,
я – если говорить всерьез —
и увлекательно, и честно
ту службу маленькую нес.
Да, безусловно, в самом деле
я скромно делал подвиг свой
не возле шаткой карусели,
а на дороге боевой.
Мой поезд, ты об этом знала,
гремя среди российских сел,
от петроградского вокзала
рывком внезапно отошел.
Свисток и грохот – нет заглушки!
Свет и движенье – не свернуть!
Его не кто-нибудь, а Пушкин
отправил в этот дальний путь.
И он прибудет, он прибудет,
свистя и движась напролом,
к другому гению, что будет
стоять на станции с жезлом.
1972
323. СТАРУХА
Лишенная зренья и слуха,
справляя какой уже год,
в лиловой одежде старуха,
кренясь и колеблясь, идет.
Давно безо всякой поблажки
в сухой придорожной пыли
ее наклонились ромашки
и, всё потеряв, отцвели.
Давно отшумели в апреле
на тихо угасшей заре
те птицы, что весело пели
еще при последнем царе.
Конечно, обидно и жалко,
что целая жизнь вдалеке.
Не тоненький зонтик, а палка
в неверной, ослабшей руке.
Но, как и тогда на закате,
волшебные песни свои
в ее слуховом аппарате
не кончили те соловьи…
1972
324. КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Поднебесный шатер бережливо укрыл
всех старух и рабочих, детей и гуляк.
Колыбель человечества – так окрестил
нашу землю один гениальный чудак.
Только он позабыл по святой простоте,
поднимаясь по лестнице шаткой в жилье,
что слезами и кровью пропитаны те —
из травы и пшеницы – пеленки ее.
Может, он не видал в голубом далеке,
наблюдая в трубу планетарный туман,
что младенец сжимает в неверной руке
вместо праздной игрушки военный наган.
Вряд ли там, при свечах догорающих звезд,
ожидает пришельцев одна красота.
Свет Вселенной, наверное, так же не прост,
как пока еще жизнь на Земле не проста.
Чтоб всему человечеству праздничным быть,
чтоб сбылись утопистов наивные сны,
нам покамест приходится кровью платить
и за землю Земли, и за землю Луны.
1972
ПОЭМЫ
325. ЮНОШЕСКАЯ ПОЭМА
1
Товарищи! Мне восемнадцать лет,
радостных, твердых, упругих и ковких.
И если я называюсь поэт,
то это фабзавуч, то это спецовка,
то это года над курносым мотором,
дружба твердая, будто камни,
то это – любимая, та, о которой
я думал, когда сидел над стихами.
И вот – пока пожаром гудела
любовь в цеху, любовь на скамейках,—
в стихах моих, опытных и неумелых,
в стихах юбилейных, пафосных, прочих,
ты не найдешь о любви ни копейки,
ни вздоха, ни мысли, ни крикнувшей строчки.
И только когда горячо, неумело
(зачем это надо, кому это надо?)
любовь отошла, отцвела, отшумела,
в поэму вошла и обиженно села
любовь. Без меня. Без нужды. Без доклада.
Вы тоже, товарищ, любили. Вы
мучились ночью над этакой темой.
Так пусть на золе моей первой любви
ляжет строка моей первой поэмы.
2
День отработал. Второю сменой
вечер на город повесил табель.
В окно завкома влезает лето,
бьет по стеклу молодыми ветвями.
Я не могу. Я бросаю собранье,
которое честно и прочно завязло
в серой водице текущих вопросов.
Вечер хватает меня за руки,
льется водою в охрипшее горло,
лижет собакой глаза и уши.
Я же толкаю его обратно,
как у калиток толкают девчонки
парней любимых, но скорых на дело.
3
И вот уже далеко фабзавуч,
который я оставил на время.
(Ночью вернусь, чтоб работать ночью,
вымести клуб, повесить плакаты,
стулья расставить уютно и ровно,
чтобы включить, наконец, приемник,
выпустить свежую стенгазету.
Ведь послезавтра, товарищи, праздник,
ведь стулья должны быть готовы, чтобы
сели на них прослушать доклад и
хлопать стихам молодые ребята,
уставшие после того, как ходили
приветствовать праздник на Красную площадь.)
И вот я иду и смотрю на звезды,
и вот я иду и смотрю на клубы,
которые тихо уже зажигают
звезды, лампочки и портреты.
Может быть, это не так уж красиво,
может быть, звезды аляповаты,
только простишь им и даже захочешь
руку пожать и потрогать нежно,
так они искренни, эти звезды.
4
И вот ты идешь по широкой Проезжей,
пересекаешь холодные рельсы
и вспомнишь, как утром спешил на работу,
ругал вожатого («тоже ударник,
с таким опоздаешь и жить, и строить»),
купил газету, бежал от трамвая
и вдруг – увидел закрытый шлагбаум
и бесконечный товарный поезд,
пересекающий путь к работе.
Ты начал ругаться, но поезд мерно
шел и раскачивал в такт вагоны,
плотные, красные, на которых
было написано: «Свекла», «Картошка».
Бежали платформы с летящим лесом,
роняющим теплый задумчивый запах.
И стало радостно, просто, бодро.
Ты переждал, даже длинным взглядом
глядел на состав, уходящий к вокзалу,
и твердо, уверенно и спокойно
взглянул на часы, перевесил табель:
«Не опоздал… Хорошо живется…»
5
И вот ты идешь, пересекаешь
длинные рельсы, короткие шпалы.
Смотришь направо, смотришь налево.
Видишь, как прямо, гордясь и сверкая,
справа стоят пожилые заводы.
Увидишь, как на холодном ситце,
ползущем под валиками машины,
цветы зацветают. Такие цветы, что
сердце забьется сильнее и громче.
Посмотришь налево, увидишь домик
простой, задрипанный, домик с осколком
трубы, со ставнями и с болтами,
дом деревянный, дом двухэтажный,
домишко, окно в котором закрыто
жеманной тюлевой занавеской.
И видно, как его подоконник
гордится геранью, гордится уютом
тихой, простой, одинаковой жизни.
И если подумаешь, то увидишь
комнаты дома. Они обычны.
Они завешаны снимками мамы,
когда ей еще восемнадцать было,
когда она с папой в фате стояла,
увидишь смешные венчальные свечи,
альбомы, салфетки, ковры и чернила,
которыми пользуются очень редко.
6
И вот ты идешь, и ты видишь витрины,
и ты отбросишь тяжелым взглядом
стекло и фарфор, манжеты, подтяжки,
голые женские статуэтки.
И ты постоишь, ты посмотришь с любовью
на круглые, полные силой моторы,
на лампочки, на молчаливый приемник,
на книги, которые аппетитно
лежат и гордятся блестящей обложкой.
Увидишь, – звеня и улыбки теряя,
полные радостью и весельем,
едут раскрашенные трамваи,
напоминающие карусели.
И из раскрытого гаража
(звенящей сенсацией! гремящей надеждой!)
спешат пожарные, как на пожар,
сверкают римскою спецодеждой.
Ты видишь вечер, который приходит
к одним, засиженным, скромным, обычным,
выцветшим спором за чашкой чая,
штопкой носков, мурлыканьем кошки,
газетой, звонками по телефону
и плоским уютом истоптанных туфель.
И вечер приходит к другим, горячим,
к другим, молодым, белобрысым, бледным
улыбкой любимой. Такой улыбкой,
что сердце срывается вниз. Улыбкой
бывшей и будущей. Нашей и вечной.
И после этого в темных парадных
вечер и даже кусочек ночи
будут веселые, грустные парни
руку держать у любимой и долго,
долго и быстро, спеша и украдкой,
будут любимой показывать душу,
но будут любимую (может, шаблонно,
может, истасканно, я не спорю),
будут любимую сравнивать с морем,
будут любимую сравнивать с кленом.
И под конец – горячо и красно —
губы пойдут в наступленье на губы.
И до́ма будут с неодобреньем
смотреть глаза пресловутой мамаши,
забывшей любовь и свои поцелуи.
7
Лежит отцветающий и широкий,
лежит пожелтевший и длинный, как рельсы,
бульвар. Ну, Тверской, ну, Страстной, ну, Никитский.
Бульвар, по которому, если прямо
идти, наблюдая за всем и за всяким,
дойдешь до конца, до развязки поэмы.
Ну, в общем, бульвар, на котором весною
хрустела дешевая распродажа
ненужных книг, постаревших новинок.
Бульвар, на котором в расцвете лета
катались скучно и деловито
в колясках, верхом на подстриженных пони
розовощекие мальчуганы.
Ну, в общем, бульвар, на котором под вечер
толпою стоят молодые пары,
слушая, как духовые оркестры
играют Бетховена и Давиденко.
Бульвар, от которого даже Пушкин
немного невежливо отвернулся.
И я иду по такому бульвару.
И ветер плетется усталой собакой,
и я наблюдаю за всем и за всяким.
Я нюхаю воздух – запахло круглой,
уже подгорающей колбасою.
И это значит – вернулся хозяин
домой от усталых, служебных тягот,
увидел записку: «Ушла. Буду поздно».
Купил колбасу, неумело нарезал,
примус накачивал с яростью зверя,
ушел умываться – и поздно услышал
запах паленый. И станет неловко,
он бросит ее в мусорный ящик,
и на вопрос возвратившейся поздно
жены, уже полусонный и вялый,
скажет: «Не надо. Я же обедал».
Я вверх загляну и увижу шарик,
наглый, воздушный, беспомощный, красный,
шар, улетающий ближе к звездам.
Тогда я подумаю и увижу —
стоит продавец и, как кисть винограда,
рвется привязанная друг к другу
кучка сверкающих разных шаров.
И как своенравная девочка Анни
купит шар, и как няня отпустит
его от семьи, от товарищей – в небо!
И как другая девочка, Анька,
будет жалеть, волноваться и плакать:
шар улетел. Лучше б ей отдали,
она бы его одевала и мыла,
она бы его по утрам целовала,
наглый, воздушный, беспомощный шарик.
8
И я иду по такому бульвару.
В кармане моем одиноко и звонко
бренчат три скучающие монеты.
В кармане, как рыба, разинувши глотку
(как рыба, выброшенная на берег),
беззвучно орет и требует взносов
мой синий, засаленный и худощавый.
Конкретный. Короткий. Билет. Профсоюзный.
И вот я такой. Я иду по бульвару.
В кармане моем одиноко и звонко
бренчат три скучающие монеты.
Их сколько ни складывай, сколько ни множь их,
ни вычитай, ни дели, ни делай
давно позабытые уравненья
с двумя, и с тремя, и с одним неизвестным, —
получится ровно, получится только
пятнадцать копеек. Пятнадцать. Копеек.
На них я куплю по шестому талону
там, в булочной, ждущей в конце бульвара
(двадцать шагов от моей комнатенки),
хлеба, горячего, словно сердце.
Хлеба, прекрасного, как мечтанье.
Фунт. С меня хватит. Я думаю – хватит!
Хлеба, покрытого черствой коркой,
хлеба, который солидно дышит,
когда его рвешь молодыми зубами.
А белый – оставлю. Подумаешь – белый.
Без белого можно наесться. Еще бы!
Он ждет меня, хлеб. Он лежит на полках
уютно и тихо. И ножик. Громадный.
Нож, а не ножик. Сначала примет
теплую ванну, слегка освежится,
потом накинется (прямо и ровно),
отрежет фунт. И – девушка в белом
протянет мне хлеб и слегка улыбнется.
И я ей отвечу звенящим смехом,
махну на прощанье, и (тут же у двери)
стоит раздобревшая, словно опара,
пухлая, вялая, частная баба.
Она мне отпустит с противной улыбкой
два огурца: малосольных, ядреных,
крепких, хрустящих, наполненных соком.
Я думаю – хватит. А завтра – получка.
А завтра – фабзавучник загуляет.
И ситный, и бьющее рыжим фонтаном,
ревущее, будто обрывок моря,
ситро в зеленеющей таре бутылок.
9
И так я таскаю (веснушчатый, бледный)
себя. И смотрю за всем и за всяким.
Вот гордые, полные, пожилые
идут, проживающие в Союзе.
У них всё в порядке, товарищи. Каждый
прописан, каждый имеет
жену и портьеры. У них заплачено за телефоны,
и долг за квартиру досрочно погашен.
(Значит – спокойно. Пожара не будет.)
Они идут, и бульвар рассыпал
им – развлеченье, им – радость, им – отдых.
Завидя их, краснощеких, усатых,
стыдливые делают реверансы
весы, неспособные вешать мясо,
вешать возы с свежескошенным сеном.
Весы, которые: «Специально
для лиц, уважающих свое здоровье».
Для них эта чахлая и пустая
бездарная надпись: «Комната смеха».
И вот ты увидишь, как эти проценты
людей, проживающих в нашем Союзе,
станут у кассы и купят билетик,
и будут беззубо (сверкая зубами)
смеяться. Ведь в зеркале «комнаты смеха»
то станешь толстым гиппопотамом,
то станешь худым, как жирафа, ну, в общем, —
совсем непохожим на человека.
И людям приятно, когда они выйдут,
что галстук на месте, они не горбаты,
что нос остается таким же, обычным,
и долг за квартиру досрочно погашен.
Мне ж каждая комната – комната смеха,
в которой я совершенно бесплатно
сверкаю светящимися зубами.
10
И вот я смеюсь, я иду по бульвару,
в кармане моем одиноко и звонко
бренчат три скучающие монеты.
Сидит на холодной бульварной скамейке
прыщавый парнишка и явно небрежно,
как девочку, трогает балалайку.
Он хочет, чтобы она запела
о тихой любви, о носках в полоску,
о галстуке, ярком, как это небо.
Он хочет, чтоб робкая балалайка
заплакала скрипкой, забилась в припадке,
чтоб ручейком понеслась от скамейки
мальчишечья грусть.
Но прохожие быстро
проходят. И парень сидит и скучает.
А дальше – сидит на бульварной скамейке
парень. Простой, говорливый, в юнгштурме.
Парень сидит, и в руках гитара,
парень сидит, а кругом ребята
смеются, галдят, вытирают шеи.
И вот неожиданно – прямо к звездам
бросается песня. И двадцать глоток
ее поднимают, несут, бросают,
и сорок легких бросают песню,
как вызов, как молодость, как победу.
А песня в юнгштурмовке, словно парень,
а песня кудрявая, будто парень,
который сумел из шаблонной гитары
вылепить сердце для этой песни.
А песня широкая. В этой песне,
как в смерче, как в буре, как в урагане,
смялись, засыпались, перемешались
парень, прыщавый, как это небо,
девочка с шариком, «комната смеха»,
весы, которые: «Специально
для лиц, уважающих свое здоровье»,
я, молодой, белобрысый, бледный,
с своим представленьем о мещанстве.
И только —
как будто гудок завода,
как будто фонтан неожиданной нефти,
как выстрел, летящий в зеленое небо,
как флаг на высоком и твердом зданье —
до звезд достает коллективная песня.
Я выйду из песни. И сразу увижу,
как надо мной плакат полыхает,
как бьется летящей, растрепанной птицей
плакат, на котором понятно и ясно
написано: «Каждый» (и я и другие),
«каждый трудящийся должен» (обязан)
«уметь стрелять». И уметь ненавидеть.
И я услышу, как бьет по жести
свинец. И тогда (почему – неизвестно)
я вспомню соседа, который тихо
живет за стеною моей комнатенки.
Он каждое утро стоит и смеется,
когда я в трусиках моюсь на кухне,
когда я захлебываюсь от счастья,
как от воды (от воды, как от счастья).
Он каждое утро меня ненавидит,
он каждое утро дает мне руку,
а хочет сломать мое узкое горло,
а хочет блестящими сапогами
разбить мое сердце, сломать мне кости.
Он хочет пройти по стране, по дорогам,
сверкая погонами и наганом,
чтобы горели бедняцкие избы,
чтоб в небо бросалось горячее пламя,
чтоб разлетелись квадратные стекла
риков, райкомов. Он хочет, чтобы
кулацкие банды схватились за вилы
(еще не забывшие о навозе,
о легком шуршанье колхозного сена).
Он хочет, чтобы на тихих деревьях
висели рваные трупы партийцев.
Он хочет, чтобы гулял Семенов,
чтобы в Москву на горячих конях
въехали гладкие интервенты.
Он бы поднес им буханку хлеба,
он бы насыпал солонку солью:
«Ешьте страну, разрывайте на части,
пересыпайте соленой кровью!»
«Нет!» – говорю я.
И вижу – как птица,
взлетает плакат, на котором, как лозунг,
написано: «Каждый» (и я и другие),
«каждый трудящийся должен» (обязан)
«уметь стрелять». И уметь ненавидеть.
Тогда я смешаюсь с толпою, гудящей
счастливой кучкой причесанных парней,
увижу дощечку (плата за выстрел),
отдам, не задумываясь ни минуты,
звенящие радостью три монеты,
возьму ружье, заряжу, прицелюсь,
и…
Вдруг покраснею. Эх, воин, промазал!
Вторую тоже.
И только третья
как трахнет, как загремит по жести.
Как вдарит! В монокль. И посыплется грохот,
пойдет по бульвару, взлетит над домами,
кусочком свинцовым проедет по небу,
перелетит через все границы
и даст отголоском в чужие окна.
Да так откликнется этот выстрел,
что даже всамделишному Чемберлену
станет немножечко неприятно.
1931–1932








