Стихотворения и поэмы
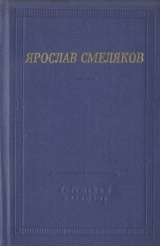
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
29. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Валентиной
Климовичи дочку назвали.
Это имя мне дорого —
символ любви.
Валентина Аркадьевна.
Валенька.
Валя.
Как поют, как сияют
твои соловьи!
Три весны
прошумели над нами,
как птицы,
три зимы
намели-накрутили снегов.
Не забыта она
и не может забыться:
всё мне видится,
помнится,
слышится,
снится,
всё зовет,
всё ведет,
всё тоскует – любовь.
Если б эту тоску
я отдал океану —
он бы волны катал,
глубиною гудел,
он стонал бы и мучился
как окаянный,
а к утру,
что усталый старик,
поседел.
Если б с лесом,
шумящим в полдневном веселье,
я бы смог поделиться
печалью своей —
корни б сжались, как пальцы,
стволы заскрипели
и осыпались
черные листья с ветвей.
Если б звонкую силу,
что даже поныне
мне любовь
вдохновенно и щедро дает,
я занес бы
в бесплодную сушу пустыни
или вынес
на мертвенный царственный лед —
расцвели бы деревья,
светясь на просторе,
и во имя моей,
Валентина,
любви
рокотало бы
теплое синее море,
пели в рощах вечерних
одни соловьи.
Как ты можешь теперь
оставаться спокойной,
между делом смеяться,
притворно зевать
и в ответ
на мучительный выкрик,
достойно
опуская большие ресницы,
скучать?
Как ты можешь казаться
чужой,
равнодушной?
Неужели
забавою было твоей
всё, что жгло мое сердце,
коверкало душу,
всё, что стало
счастливою мукой моей?
Как-никак —
а тебя развенчать не посмею.
Что ни что —
а тебя позабыть не смогу.
Я себя не жалел,
а тебя пожалею.
Я себя не сберег,
а тебя сберегу.
1938
30. ДАВНЫМ-ДАВНО
Давным-давно, еще до появленья,
я знал тебя, любил тебя и ждал.
Я выдумал тебя, мое стремленье,
моя печаль, мой верный идеал.
И ты пришла, заслышав ожиданье,
узнав, что я заранее влюблен,
как детские идут воспоминанья
из глубины покинутых времен.
Уверясь в том, что это образ мой,
что создан он мучительной тоскою,
я любовался вовсе не тобою,
а вымысла бездушною игрой.
Благодарю за смелое ученье,
за весь твой смысл, за всё —
за то, что ты
была не только рабским воплощеньем,
не только точной копией мечты:
исполнена таких духовных сил,
так далека от всякого притворства,
как наглый блеск созвездий бутафорских
далек от жизни истинных светил;
настолько чистой и такой сердечной,
что я теперь стою перед тобой,
навеки покоренный человечной,
стремительной и нежной красотой.
Пускай меня мечтатель не осудит:
я радуюсь сегодня за двоих
тому, что жизнь всегда была и будет
намного выше вымыслов моих.
1938 (?)
31. «Я сам люблю дорожную тревогу…»
Я сам люблю дорожную тревогу —
Звонки, свисток и предотъездный гам.
Я сам влюблен в железную дорогу —
В движение вагона по путям.
Я сам люблю состав почтовый, дальний,
Вокзальный свет, молчание друзей,
Прощальный взгляд и поцелуй прощальный,
Прощальный вечер юности моей…
Но поезд тронулся. Неумолимо
Чудесное вращение колес.
Уже в пути, уже застлало дымом
Сиянье милых материнских слез.
И я иду к товарищам вагонным
Включиться в их нестройный хоровод,
Глядеть в окно, зевать, но неуклонно,
Неутомимо двигаться вперед.
<1939>
32. «Я посвятил всего себя искусству…»
Я посвятил всего себя искусству
на перекрестках не кричать о чувствах —
а всей душою родину любить.
И научился в ровном постоянстве,
как много прежде в упоенье странствий,
свое простое счастье находить.
Так на реке, под крышей ледяною,
укрытая замерзшею волною,
журчит в пути прозрачная волна.
И так же снег, сверкающий и льдистый,
в тиши зимы своим дыханьем чистым
отогревает хлеба семена.
1939
33. «У мертвых рук, над мертвой кровью друга…»
Е. Ф.
У мертвых рук, над мертвой кровью друга,
над смертным сном, у зимнего окна
ты плакала, ты плакала, подруга,
над гробом мужа плакала супруга,
над гробом мужа плакала жена.
Но столько было гордости и силы
и столько билось горечи у рта,
что сердце у меня остановила
и раскроила душу немота.
И с этих пор – куда б я ни кидался,
среди лесов, под небом голубым,
в морозных тучах – я не расставался
с твоей судьбой и с образом твоим.
Как позабыть мне облик величавый!
Он жив. Он движется в душе моей.
И резкий шаг, и взгляд ее лукавый,
и прямота серебряных бровей.
Как оценить неоценимый опыт,
приобретенный женщиной такой
в застенках Польши, в камерах Европы,
на дымных сопках Дальнего Востока —
с оружьем революции, жестоко
зажатым обмороженной рукой.
Прошли года. Глазам своим не веря,
не думая, не зная, что сказать,
всю глубину смятения измерив,
я вновь стою перед знакомой дверью,
забыв о всем, не в силах постучать.
Я вновь пришел. И слушаю, счастливый,
как за дверьми, по-старому легки,
по-прежнему поспешно, торопливо
стучат ко мне навстречу каблуки.
В свой смертный день, забыв наветы злые,
от забытья, от сна за полчаса
я вспомню, вспомню волосы седые
и хитрые мальчишечьи глаза.
1939
34. ПАВИЛЬОН ГРУЗИИ
Кто – во что,
а я совсем влюблен
в Грузии чудесный павильон.
Он звучит в моей душе,
как пенье,
на него глаза мои глядят.
Табачком обсыпавши колени,
по-хозяйски на его ступенях
туляки с узбеками сидят.
Я пройду меж них —
и стану выше,
позабуду мелочи обид.
В сером камне водоем журчит,
струйка ветра занавес колышет,
голову поднимешь —
вместо крыши
небо необманное стоит.
И пошла показывать земля
горькие корзины миндаля,
ведра меда,
бушели пшеницы,
древесину,
виноград,
руно,
белый шелк
и красное вино.
Всё влечет,
всё радует равно —
яблоко и шумное зерно.
Всё – для нас,
всему не надивиться.
Цвет и запах —
всё запоминай.
В хрупких чашках
медленно дымится
Грузии благоуханный чай.
Жителю окраин городских
издавна знакомы и привычны
вина виноградарей твоих,
низенькие столики шашлычных.
Я давно, не тратя лишних слов,
пью твой чай и твой табак курю,
апельсины из твоих садов
северным красавицам дарю.
Но теперь хожу я сам не свой:
я никак не мог предполагать,
что случится в парке под Москвой
мне стоять наедине с тобой
и твоей прохладою дышать.
1939
35. МИЧУРИНСКИЙ САД
Оценив строителей старанье,
оглядев все дальние углы,
я услышал ровное жужжанье,
тонкое гудение пчелы.
За пчелой пришел я в это царство
посмотреть внимательно, как тут,
возле гряд целебного лекарства,
тоненькие яблони растут.
Как стоит, не слыша пташек певчих,
в старомодном длинном сюртуке,
каменный великий человечек
с яблоком, прикованным к руке.
Он молчит, воитель и ваятель,
сморщенных не опуская век,
царь садов, самой земли приятель,
седенький сутулый человек.
Если это нужным он сочтет,
яблоня, хрипя и унижаясь,
у сапог властителя валяясь,
по земле, как нищенка, ползет.
И в его неоспоримой власти
сделать так, мудруя в черенках,
что стоишь ты, позабыв напасти,
захмелев от утреннего счастья
и цветов в зеленых волосах.
Снял он с ветки вяжущую грушу,
на две половинки разделил
и ее таинственную душу
в золотое яблоко вложил.
Я слежу, томительно и длинно,
как на солнце светится пыльца
и стучат, сливаясь воедино,
их миндалевидные сердца.
Рассыпая маленькие зерна,
по колено в северных снегах,
ковыляет деревце покорно
на кривых беспомощных ногах.
Я молчу, волнуясь в отдаленье,
я бы отдал лучшие слова,
чтоб достигнуть твоего уменья,
твоего, учитель, мастерства.
Я бы сделал горбуна красивым,
слабовольным силу бы привил,
дал бы храбрым нежность, а трусливых —
храбрыми сердцами наделил.
А себе одно б оставил свойство:
жизнь прожить, как ты прожил ее,
творческое слыша беспокойство,
вечное волнение свое.
1939
36. БЫК
У меня такое ощущенье,
что, зайдя под этот темный кров,
я услышал шум возникновенья,
тайный шум рождения миров.
Сладкий сумрак заполняет зданье.
Нам пришлось бы двигаться впотьмах,
если бы не легкое сиянье
звездочек на каменистых лбах,
В испареньях розового цвета,
в облаках парного молока
светится, как новая планета,
медленное тулово быка.
1939
37. ВОЗВРАЩЕННАЯ РОДИНА
17 сентября 1939 года части Красной Армии вошли в город Луцк…
Я родился в уездном городке
и до сих пор с любовью вспоминаю
убогий домик, выстроенный с краю
проулка, выходившего к реке.
Мне голос детства памятен и слышен.
Хранятся смутно в памяти моей
гуденье липы и цветенье вишен,
торговцев крик и ржанье лошадей.
Мне помнятся вечерние затоны,
вельможные брюхатые паны,
сияющие крылья фаэтонов
и офицеров красные штаны.
Здесь я и рос. Под этим утлым кровом
я, спотыкаясь, начинал ходить,
здесь услыхал – впервые в жизни! – слово,
и здесь я научился говорить.
Так мог ли я, изъездивший полсвета,
за воду ту, что он давал мне пить,
за горький хлеб, за легкий лепет лета,
за первый день – хотя бы лишь за это —
тот городок уездный не любить?
Нет, я не знал беспечного покоя:
мне снилась ночью нищая страна,
бетонною, враждебною чертою,
прямым штыком и пулей разрывною
от сердца моего отделена.
Я думал о товарищах своих,
оставшихся влачить существованье
в местечках страха, в городках стенанья,
в домах тоски на улицах кривых.
Я вспоминал о детях воеводства,
где на полях один пырей возрос,
где хлеба – впроголодь, а горя – вдосталь
и вдоволь, вволю материнских слез.
Так как же мне, советскому поэту,
не славить вас, бойцы моей земли,
за жизни шум – хотя бы лишь за это! —
хотя б за то, что в желтых тучах света
в мой городок вы с песнею вошли?
1939
38. Я ПОМНЮ ВАС
Я помню вас
однажды
на эстраде,
когда,
раскрыв громоподобный рот,
вы шли к потомкам,
оставляя сзади
и льстящийся
и тявкающий сброд.
Толпа орет и стонет,
в равной мере
от радости и злости трепеща,
не покоряясь,
веруя,
не веря,
рукоприкладствуя,
рукоплеща.
Вы вызвали
и вы же прекратите
немолкнущий тысячегорлый рев
ладонью той,
которой укротитель
пугает шавок
и смиряет львов.
Толпа молчит,
одной рукою сжата,
в одно сливая
тысячу сердец,
покуда воду пьет
ее глашатай,
ее мучитель
и ее певец.
Не в тот ли раз,
грубя и балагуря,
наперекор заклятой старине,
вы,
словно исцеляющая буря,
безжалостно
шагали по стране.
Не в тот ли день,
не с этих ли подмосток
вы и вошли
в грядущие века,
как близкий к близким,
запросто и просто,
надув ветрами парус пиджака.
…Отгрохотали
яростные строки.
Ушел народ,
толкуя о стихах.
Измученный,
огромный,
одинокий,
с погасшей папиросою в зубах,
он встал,
ногами попирая славу,
как в воду – руку опустив в карман,
не человек —
отклокотавший лавой,
помалу
остывающий вулкан.
В таком пальто,
что памятнику впору,
шагая так,
что до сих пор гудёт,
по темному пустому коридору
он, ни о чем не думая, идет.
Раскрыта дверь.
Теперь, не уставая,
идти вперед, не видя ничего,
не замечая улицы,
не зная,
как далеко от дома твоего,
не помышляя даже о покое,
пока идут,
раздельные сперва,
не иссякая,
мерной чередою,
жестокие и нежные слова.
И нету счастья лучше,
может статься,
под гул стихов,
на зимней мостовой
до утренних трамваев оставаться
наедине
с молчащею Москвой.
Он вдаль идет,
объятый зимней тишью,
тьму рассекая глыбою плеча,
предсмертные свои четверостишья,
как заповедь,
сквозь зубы бормоча.
…Не те глаза,
что, беспокойно шаря,
глядели Лувр,
смотрели на Бродвей,—
туманные пустые полушарья
из-под остывших гипсовых бровей.
Не мирный взмах
ладони пятипалой,
не злой удар
литого кулака —
в большом гробу
спокойно и устало
лежит его рабочая рука.
Не пыль шагов
клубится по дороге,
не трус и плут
сторонятся его —
весь шар земли
измерившие ноги
уперлись в стенку гроба своего.
Не до утра
с товарищами споря,
не с ними сидя
ночи напролет, —
его друзья,
глотая слезы горя,
огромный гроб выносят из ворот.
Таких, как он,
не замуруешь в склепе.
И, знать, ему
не скоро до конца,
раз каждый день
его горячий пепел
всё жарче жжет
свободные сердца.
1940
39. НА ВОКЗАЛЕ
Шумел снежок над позднею Москвой,
гудел народ, прощаясь на вокзале,
в тот час, когда в одежде боевой
мои друзья на север уезжали.
И было видно всем издалека,
как непривычно на плечах сидели
тулупчики, примятые слегка,
и длинные армейские шинели.
Но было видно каждому из нас
по сдержанным попыткам веселиться,
по лицам их, – запомним эти лица! —
по глубине глядящих прямо глаз,
да, было ясно всем стоящим тут,
что эти люди, выйдя из вагона,
неотвратимо, прямо, непреклонно
походкою истории пойдут.
Как хочется, как долго можно жить,
как ветер жизни тянет и тревожит!
Как снег валится!
Но никто не сможет,
ничто не сможет их остановить.
Ни тонкий свист смертельного снаряда,
ни злобный гул далеких батарей,
ни самая тяжелая преграда —
молчанье жен и слезы матерей.
Что ж делать, мать?
У нас давно ведется,
что вдаль глядят любимые сыны,
когда сердец невидимо коснется
рука патриотической войны.
В расстегнутом тулупчике примятом
твой младший сын, упрямо стиснув рот,
с путевкой своего военкомата,
как с пропуском, в бессмертие идет.
1940
40. «Луну закрыли горестные тучи…»
Луну закрыли горестные тучи.
Без остановки лает пулемет.
На белый снег,
на этот снег скрипучий
сейчас красноармеец упадет.
Второй стоит.
Но, на обход надеясь,
оскалив волчью розовую пасть,
его в затылок бьет белогвардеец.
Нет, я не дам товарищу упасть.
Нет, я не дам.
Забыв о расстоянье,
кричу в упор, хоть это крик пустой,
всей кровью жизни,
всем своим дыханьем:
«Стой, время, стой!»
Я так кричу, объятый вдохновеньем,
что эхо возвращается с высот
и время неохотно, с удивленьем,
тысячелетний тормозит полет.
И сразу же, послушные приказу,
звезда не блещет, птица не летит,
и ветер жизни остановлен сразу,
и ветер смерти рядом с ним стоит.
И вот уже, по манию, заснули
орудия, заставы и войска.
Недвижно стынет разрывная пуля,
не долетев до близкого виска.
Тогда герои памятником встанут,
забронзовеют брови их и рты,
и каменными постепенно станут
товарищей знакомые черты.
Один стоит,
зажатый смертным кругом
(рука разбита, окровавлен рот),
штыком и грудью защищая друга,
всей силой шага двигаясь вперед.
Лежит другой,
не покорясь зловещей
своей кончине в логове врагов,
пытаясь приподняться, хоть и хлещет
из круглой раны бронзовая кровь…
Пусть служит им покамест пьедесталом
не дивный мрамор давней старины —
всё это поле,
выложенное талым,
примятым снегом пасмурной страны.
Когда ж домой воротятся солдаты,
и на земле восторжествует труд,
и поле битвы станет полем жатвы,
и слезы горя матери утрут, —
пусть женщины, печальны и просты,
к ним, накануне праздников, приносят
шумящие пшеничные колосья
и красные июльские цветы.
1940
41. ИЗ ДНЕВНИКА
Вчера
возле стадиона «Динамо»,
соскочив на ходу с трамвая
и пробираясь по снежному насту
к одноэтажному домику своего друга,
я вдруг увидал под фонарем, у пригорка,
двух мирно беседующих подростков.
Один на своих деревянных лыжах
стоял, отирая со лба рукою
пот здорового человека,
и внимательно слушал,
не нарушая,
однако, правильности дыханья,
то, что говорил ему мальчик
с грубою деревянной ногою.
Вот и всё.
Я прошел мимо них неслышно,
не замедляя прямого шага,
не заглянув им в лицо,
не зная
того, о чем они говорили,
и только потом уже остановился,
почувствовав – этого я не забуду.
О, если б со мною была в тот вечер
волшебная палочка – я б, наверно,
нашел, как вмешаться и что исправить.
Но, как нарочно, я, представьте,
забыл ее дома, среди скопленья
папиросных коробок и фотографий.
Я вынужден был осознать бессилье
и пройти мимо мальчиков
с тем безразличьем,
с каким осыпало февральское небо
того и другого, одною мерой,
белыми звездочками снежинок;
с той равнозначностью,
с тем бесстыдством,
с какими дерево – страшно подумать! —
пошло одному на длинные лыжи
и другому – на новую эту ногу.
1940
42. «Ты всё молодишься. Всё хочешь…»
Ты всё молодишься. Всё хочешь
забыть, что к закату идешь:
где надо смеяться – хохочешь,
где можно заплакать – поешь.
Ты всё еще жаждешь обманом
себе и другим доказать,
что юности легким туманом
ничуть не устала дышать.
Найдешь ли свое избавленье,
уйдешь ли от боли своей
в давно надоевшем круженье,
в свечении праздных огней?
Ты мечешься, душу скрывая
и горькие мысли тая,
но я-то доподлинно знаю,
в чем кроется сущность твоя.
Но я-то отчетливо вижу,
что смысл недомолвок твоих
куда человечней и ближе
актерских повадок пустых.
Но я-то давно вдохновеньем
считать без упрека готов
морщинки твои – дуновенье
сошедших со сцены годов.
Пора уже маску позерства
на честную позу сменить.
Затем что довольно притворства
и правдою, трудной и черствой,
у нас полагается жить.
Глаза, устремленные жадно.
Часов механический бой.
То время шумит беспощадно
над бедной твоей головой.
1940
43. ДОРОГА НА ЯЛТУ
Померк за спиною вагонный пейзаж.
В сиянье лучей золотящих
заправлен автобус,
запрятан багаж
в пыльный багажный ящик.
Пошире теперь раскрывай глаза.
Здесь всё для тебя:
от земли до небес.
Справа – почти одни чудеса,
слева – никак не меньше чудес.
Ручьи,
виноградники,
петли дороги,
увитые снегом крутые отроги,
пустынные склоны,
отлогие скаты —
всё без исключения,
честное слово! —
частью – до отвращения лилово,
а частью – так себе, лиловато.
За поворотом – другой поворот.
Стоят деревья различных пород.
А мы вот – неутомимо,
сначала под солнцем,
потом в полумгле —
летим по кремнистой крымской земле,
стремнин и строений мимо.
И, как завершенье, внизу, в глубине,
под звездным небом апреля,
по берегу моря —
вечерних огней
рассыпанное ожерелье.
Никак не пойму, хоть велик интерес,
сущность явления:
вроде
звезды на землю сошли с небес,
а может —
огни в небеса уходят.
Меж дивных красот – оглушенный – качу,
да быстро приелась фантазия:
хочу от искусства, от жизни хочу
побольше разнообразия.
А впрочем – и так хорошо в Крыму:
апрельская ночь в голубом дыму,
гора – в ледяной короне.
Таким величием он велик,
что я бы совсем перед ним поник,
да выручила ирония.
1940
44. КРЫМСКИЕ КРАСКИ
Красочна крымская красота.
В мире палитры богаче нету.
Такие встречаются здесь цвета,
что и названья не знаешь цвету.
Тихо скатясь с горы крутой,
день проплывет, освещая кущи:
красный,
оранжевый,
золотой,
синенький,
синеватый,
синющий.
У городских простояв крылец,
скроется вновь за грядою горной:
темнеющий,
темный,
и под конец —
абсолютно черный.
Но, в окруженье тюльпанов да роз,
я не покрылся забвенья ряской:
светлую дымку твоих волос
Крым никакой не закрасит краской.
Ночью – во сне, а днем – наяву,
вдруг расшумевшись и вдруг затихая,
тебя вспоминаю, тебя зову,
тебе пишу, о тебе вздыхаю.
Средь этаких круч я стал смелей,
я шире стал на таком просторе.
У ног моих
цвета любви моей —
плещет, ревет, замирает море.
1940
45. ГЛИЦИНИЯ
Я знал – деревья разные есть:
одно – согнется дугою;
не обхватить,
не встряхнуть,
не влезть —
растет до небес другое.
Я видел берез золотую вязь,
на кедры глядел – толково!
Но что б такое? Да отродясь
не видывал я такого.
Не кверху, а вдоль по стене идет
кривая серая линия,
нету на ней ни листочка —
вот
это и есть глициния.
Жмется к теплу,
ползет по стенам,
юлит возле самой двери —
так вот подлец бочком, постепенно,
к нам влезает в доверие.
Горы зовут за собою, ввысь:
«Стань, дорогой наш, выше».
А эта точится, как грязная мысль,
как подленькая мыслишка.
Когда отсюда уеду в Москву,
натянет она на себя листву,
цветочки навесит – рисуйте!
Но мне ее удалось разгадать,
я-то успел ее увидать
во всей обнаженной сути.
Я здесь гость.
А в таком положении,
пожалуй, ругаться не полагается.
Но очень противно, когда растение
и вдруг – ни с того ни с сего —
пресмыкается.
1940
46. БЕССТЫДНИЦА
Иное дерево схоже с мечтой,
иное – так себе, серое,
а это – черт его знает что,
но только никак не дерево.
Представьте себе:
обнаглев от жары,
раскинув веточки квелые,
растет оно безо всякой коры —
ну совершенно голое.
Прозванья так, зазря, не дадут.
Надев пиджачки да кители,
его бесстыдницей зовут
приличные местные жители.
Такое прозвище – острый нож,
вся жизнь с таким обрыднется.
Лишь я не имею претензий: что ж,
бесстыдница – так бесстыдница.
Стою перед ней с папиросой во рту.
Советов слушать не хочет,
а можно б занять – прикрыть наготу —
у фиги один листочек.
1940
47. НОЧНОЙ ШТОРМ
Когда пароход начинает качать —
из-за домов, из мрака
выходит на берег поскучать
знакомая мне собака.
Где волны грозятся с земли стереть,
клубится пучина злая,
нечего, кажется, ей стеречь,
не на кого лаять.
Высокий вал,
пространство размерив,
растет,
в полете силу развив,
и вспять уходит, об каменный берег
морду свою разбив.
Уходит вал. Приходит другой,—
сидит собака – ни в зуб ногой.
Все люди ушли, однако
упорно сидит собака.
Закрыты подъезды. Выключен свет.
Лишь поздний пройдет гуляка.
Давно уже время домой.
Ан нет —
всё так же сидит собака.
Всё так же глядит на ревущий вал.
И я сознаться не трушу,
что в этой собаке предполагал
родственную мне душу.
Так, как ее, с недавней поры,
гудя, рокоча, звеня,
море вытаскивает из конуры
и тащит к себе меня.
Разве я знал, что брызги твои,
что черная эта вода
крепче вина, солоней любви,
сильней моего труда?
Темным-темно,
ревет, грубя.
Я здесь давно.
Я слышу тебя.
Пусть все уйдут,
пробив отбой.
Я здесь. Я тут.
Я рядом с тобой.
Меня одного тут тоска зажала.
Стою один —
ни огней,
ни звезд.
И даже собака, поджавши хвост,
стыдливой трусцою домой сбежала.
Так те, что твой обожают покой,
твое под солнцем мерцанье,
спокойно уедут.
И даже рукой
забудут махнуть на прощанье.
А полюбившие берег седой
и мерное волн рокотанье
водопроводной пресной водой
смоют воспоминанья.
Куда мне умчаться, себя кляня,
как мне о черной забыть волне,
если оно ворвалось в меня,
если клокочет оно во мне?
Куда ни направлю отсюда шаг,
в какую ни кинет меня полосу —
шум его унесу в ушах
и цвет его в глазах унесу.
Волна за волною ревет, крутясь,
а я один – уже столько лет! —
стою, устало облокотясь
на этот каменный парапет.
Будто от тела руку свою,
себя от него оторвать не могу.
Как одержимый, стою и стою
на залитом пеною берегу…
1940








