Стихотворения и поэмы
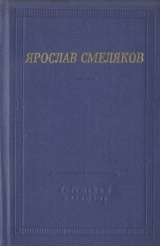
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
159. ВЕРНУЛСЯ ТОВАРИЩ
Вернулся в свой город советский
товарищ из той стороны,
куда наши души по-детски
направлены, обращены.
Из той возвратился он дали,
сошел из того далека,
куда так нечасто летали
посланцы России пока.
Он стал как бы выше и шире
и даже красивше, чем был:
не зря в удивительном мире
наш давний товарищ гостил.
Как будто за эту неделю —
средь митингов, пашен и скал —
он всё обаянье Фиделя,
всю ту атмосферу впитал.
Наверное, так за границей
рабочие люди глядят,
когда из советской столицы
воротится их делегат.
Он прежний и вроде не прежний,
и братья посланца того,
как мы, изумленно и нежно
все вместе глядят на него.
1961
160. ПРОПАГАНДА
К нам несут провода
дальний гул революций.
Мы не лезем туда,
там без нас обойдутся.
Но, однако, не прочь —
русской полною мерой —
пропагандой помочь,
поделиться примером.
Всей земле трудовой,
от пустынь до Европы,
посылаем мы свой
исторический опыт.
Страны южной жары,
знают Куба и Чили,
на кого топоры
наши деды точили.
Средь светящейся тьмы
вдоль Руси деревянной
сотрясались холмы,
словно ваши вулканы.
Не у волжских высот,
не в родимой сторонке —
Стенька Разин плывет
по реке Амазонке.
1961
161. ПЕРВЫЙ ПЛУГ
По главной площади Гвинеи
под рев толпы и бубнов стук,
от наслаждения немея,
несли два черных парня плуг.
Был в плуге этом смысл немалый,
его, до болтика, сполна,
сама, ликуя, отковала
в народной кузнице страна.
Он первым был. И плыл впервые
средь восклицаний и знамен —
мальчишка мирной индустрии,
предтеча будущих времен.
Вся площадь пела и теснилась,
ей показалось неспроста,
что в небе, вслед за ним, струилась
семян и света борозда.
Нисколько я не умаляю
других событий и заслуг,
но душу просто умиляет
освобожденья первый плуг.
Мне представляется всё чаще,
всё больше ум волнует мой
тот плуг, на крылышках
летящий над африканскою землей.
1961
162. ПОД ФОНАРЕМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
Под фонарем на перекрестке,
юнцу влюбленному под стать,
я у вечернего киоска
люблю газеты ожидать.
Они сегодня запоздали,
но расходиться – не расчет,
и очередь, как и вначале,
не убывает, а растет.
Здесь нет азарта, нету давки
и жадных зайчиков в глазах,
как вдоль мосторговских прилавков
и в рыночных очередях.
На зимней площади столицы
иль на окраине страны
газетной очереди лица
всегда достоинства полны.
Стоят в значительном покое,
от суетности в стороне,
старуха грузная с клюкою,
мужчина в шляпе и пенсне,
пацан в лиловых брюках лыжных
и в ботах с пряжками старик.
Мне хорошо стоять средь ближних,
я к ним, как свойственник, привык.
Тут, словно бы в каком-то классе,
отчетливая тишина,
одно молчащее согласье,
сосредоточенность одна.
Нам дорог строй газетной лиры,
ее торжественность и прыть.
Перед лицом всеобщим мира
негоже мелочными быть.
1961
163. РАЗГОВОР О ПОЭЗИИ
Ты мне сказал, небрежен и суров,
что у тебя – отрадное явленье! —
есть о любви четыреста стихов,
а у меня два-три стихотворенья.
Что свой талант (а у меня он был,
и, судя по рецензиям, не мелкий)
я чуть не весь, к несчастью, загубил
на разные гражданские поделки.
И выходило – мне резону нет
из этих обличений делать тайну, —
что ты – всепроникающий поэт,
а я – лишь так, ремесленник случайный.
Ну что ж, ты прав. В альбомах у девиц,
средь милой дребедени и мороки,
в сообществе интимнейших страниц
мои навряд ли попадутся строки.
И вряд ли что, открыв красиво рот,
когда замолкнут стопки и пластинки,
мой грубый стих томительно споет
плешивый гость притихшей вечеринке.
Помилуй бог! – я вовсе не горжусь,
а говорю не без душевной боли,
что, видимо, не очень-то гожусь
для этакой литературной роли.
Я не могу писать по пустякам,
как словно бы мальчишка желторотый, —
иная есть нелегкая работа,
иное назначение стихам.
Меня к себе единственно влекли —
я только к вам тянулся по наитью —
великие и малые событья
чужих земель и собственной земли.
Не так-то много написал я строк,
не все они удачны и заметны, —
радиостудий рядовой пророк,
ремесленник журнальный и газетный.
Мне в общей жизни, в общем, повезло,
я знал ее и крупно и подробно.
И рад тому, что это ремесло
созданию истории подобно.
1961
164. ПЕРВЫЕ ДНИ
Мне с неподдельным увлеченьем
пришлось недавно наблюдать,
как город малого значенья
спешит столицей края стать.
Его заботит и тревожит,
что он, желая новым быть,
пока еще никак не может
всё это новое вместить.
Ведь государственная милость
по воле съезда самого
совсем негаданно свалилась
на жизнь заштатную его.
Он знает сам, что нуждам края
теперь, в иные времена,
его медлительность былая
неподходяща и смешна.
Ему б, конечно, полагалось,
дать время прошлое забыть,
одуматься хотя бы малость,
хотя б фасады подновить.
Но жизнь зовет неумолимо,
предначертание не ждет,
Сюда уже по-русски хлынул,
как в песнях, всяческий народ.
От телеграфа до крайкома,
на смех и шутки не скупа,
держась привычно, словно дома,
весь день курсирует толпа.
Она, на улицы июля
наружу вынеся свой быт,
как будто борщ в большой кастрюле,
безостановочно кипит.
Держа в руках буханки хлеба,
она в положенный ей час
ест на ходу под пыльным небом
и жадно пьет из кружек квас.
А ночью, постелившись жестко,
спит неспокойно, второпях
в Дворце культуры на подмостках
и в техникумах на столах.
Наполненные силой ве́щей,
вверху и сбоку, там и тут
над нею лозунги трепещут,
цитаты к подвигам зовут.
И ветер первых пятилеток,
полузабытый ветер тот,
всю ночь качая тени веток,
по длинным улицам метет.
1961 Казахстан
165. «По траве той непомерной дали…»
По траве той непомерной дали,
по цветам казахской стороны
вы свое навеки отгуляли,
конские степные табуны.
Там, где ваша вольница кружила,
ныне средь распаханных широт
чуть ли не последняя кобыла
воду для механиков везет.
А вблизи, безмолвно и послушно,
в блеске механических зарниц,
вылетают из стальной конюшни
двадцать миллионов кобылиц.
Все они похожи и красивы,
лошади земли и высоты,
красные отсвечивают гривы,
белые раскинуты хвосты.
Конница теперешнего века,
вытоптав полынную печаль,
русского уносит человека
в черную космическую даль.
1961 Павлодар
166. ДВА СРОКА
Не дай вам бог – в леске далеком
иль возле водного пути —
жить в доме отдыха два срока,
два целых века провести.
В день, обозначенный в путевке,
со всех сторон и всех широт
еще с утра, без остановки,
сюда съезжается народ.
Твою фамилию по чести
контора вносит в общий ряд.
Ты принят. Ты со всеми вместе,
свой отдыхающий, свой брат.
Ты, как участник общежитья,
со всеми делишь круг забот
и радость общую открытья
окрестных всяческих красот.
Уже на этой части суши,
от мест родительских вдали,
друг дружку родственные души
совсем нечаянно нашли.
Уже на вечере вопросов
и в разговорах – просто так —
определился свой философ
и объявился свой дурак.
Людей случайное собранье
сплотилось, словно бы семья:
есть общие воспоминанья,
чуть не история своя.
Ты с ними свыкся незаметно,
тебе нужны и та и тот.
Но вот окончен срок заветный
и день отъезда настает.
Несут в автобус чемоданы,
бегут по лестницам.
А ты
стоишь потерянно и странно
средь возбужденной суеты.
По профсоюзному веленью,
придя сюда своим путем,
сменились, словно поколенья,
твои соседи за столом.
Ты с ними общностью не связан,
и, вероятно, потому
твои – из прошлого – рассказы
не интересны никому.
Им невдомек и незнакомо
всё то, к чему ты так привык,
средь новых лиц большого дома
чужой зажившийся старик.
1961
167. «Иные люди с умным чванством…»
Иные люди с умным чванством,
от высоты навеселе,
считают чуть ли не мещанством
мою привязанность к земле.
Но погоди, научный автор,
ученый юноша, постой!
Я уважаю космонавтов
ничуть не меньше, чем другой.
Я им обоим благодарен,
пред ними кепку снять готов.
Пусть вечно славится Гагарин
и вечно славится Титов!
Пусть в неизвестности державной,
умнее бога самого,
свой труд ведет конструктор Главный
и все помощники его.
Я б сам по заданной программе,
хотя мой шанс ничтожно мал,
в ту беспредельность, что над нами,
с восторгом юности слетал.
Но у меня желанья нету,
нет нетерпенья, так сказать,
всю эту старую планету
на астероиды менять.
От этих сосен и акаций,
из этой вьюги и жары
я не хочу переселяться
в иные, чуждые миры.
Не оттого, что в наших кружках
нет слез тщеты и нищеты
и сами прыгают галушки
во все разинутые рты.
Не потому, чтоб здесь спокойно
жизнь человечества текла:
потерян счет боям и войнам,
и нет трагедиям числа.
Терпенье нужно, и геройство,
и даже гибель, может быть,
чтоб всей земли переустройство,
как подобает, завершить.
И всё же мне родней и ближе
загадок Марса и Луны
судьба Рязани и Парижа
и той испанской стороны.
1962
168. ОДА РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ
О, этот русский непрестанный,
приехавший издалека,
среди чинар Таджикистана,
в погранохране и в Цека.
В прорабской временной конторке,
где самый воздух раскален,
он за дощатой переборкой
орет азартно в телефон.
В коммунистической артели,
где Вахш клубится и ревет,
он из отводного тоннеля
наружу камень выдает.
Участник жизни непременный,
освоив с ходу местный быт,
за шатким столиком пельменной
с друзьями вместе он сидит.
Совсем не ради маскировки,
а после истинных работ
в своей замасленной спецовке
он ест шурпу и пиво пьет.
Высокомерия и лести
и даже признаков того
ни в интонации, ни в жесте
вы не найдете у него.
Не как слуга, не как владыка —
хоть и подтянут, но открыт —
по-равноправному с таджиком
товарищ русский говорит.
Еще тогда, в году двадцатом,
полузабывшемся вдали,
его винтовка и лопата
тебе, дехканин, помогли.
Потом не раз из дальней дали
на помощь родине твоей
Москва и Волга посылали
своих отцов и сыновей.
Их много, чистых и нечистых,
трудилось тут без лишних слов:
организаторов, чекистов,
учителей и кулаков.
Мы позабыть никак не в силах —
ни старший брат, ни младший брат —
о том, что здесь, в больших могилах,
на склонах гор, чужих и милых,
сыны российские лежат.
Апрельским утром неизменно
к ним долетает на откос
щемящий душу запах сена
сквозь красный свет таджикских роз.
1962
169. СТАРИКИ
В мирном краю таджиков
стройные, как штыки,
вечером вдоль арыков
движутся старики.
Буднично величавым
бывшим бойцам страны
тросточки не по нраву,
посохи не нужны.
Верным ее солдатам,
выросшим на плацу,
не по душе халаты,
галстуки не к лицу.
Роскоши да истомы
истинные враги,
носят по-строевому
китель и сапоги.
Дома же непременно,
правнуков веселя,
точно висят на стенах
длинные шинеля.
Снайперы и рубаки,
честно вошли они,
словно бы из атаки,
в мирные эти дни.
Это от вашей хватки,
от удалых мечей
драпала в беспорядке
конница басмачей.
В долгом кровавом споре
вышибли вы ее
из голубых предгорий
прямо в небытие.
Движась дорогой длинной
вдаль от своей земли,
вы до твердынь Берлина
все-таки дотекли.
И сотрясли сторицей
в ярости боевой
вражескую столицу
собственною рукой.
В ножны ушли достойно
памятные клинки.
Кончились ваши войны,
гордые старики.
…Ходите вы меж нами,
слава и честь страны,
уличными огнями
смутно освещены.
В позднее это время
вдоль по дороге всей
ветер качает тени
листьев и фонарей.
1962
170. «Приехавшему на Восток…»
Приехавшему на Восток
простому гостю Душанбе
пришелся по сердцу платок,
что служит поясом тебе.
Его на талии прямой
таджик привычно завязал.
Он украшает облик твой,
но украшением не стал.
Он для кутящего – карман,
а для скупого – кошелек,
и как лукошко для семян
у горных жителей платок.
Какой бы смысл еще найти,
о чем еще не позабыть?
Он малой скатеркой в пути
и полотенцем может быть.
А тот, кто в городе живет
и ходит завтракать к столу,
пускай меня не упрекнет
за эту скромную хвалу.
1962
171. НЕПРОШЕНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Едущие в машинах,
нехотя, свысока,
сквозь боковые стекла
смотрят на ишака.
Радио и газеты,
с хитростью и умом,
словно бы сговорившись,
не говорят о нем.
В планах районов сельских
близких и дальних лет
нет его в главном тексте
и в примечаньях нет.
В общем-то, несомненно,
что справедливо он
вытеснен на проселки, —
в сущности, обречен.
Но, несмотря на это,
логике вопреки,
очень мне симпатичны
бедные ишаки.
Даже не представляя,
что его дальше ждет,
ослик четвероногий
ношу свою несет.
Это на нем спокойно —
спешка им не с руки —
едут в районный город
важные старики.
Это на нем пока что
юноша и вдова
возят тутовник горный,
коконы и дрова.
Это его копыта
летом и в снегопад
быстро и деловито
вдоль по шоссе стучат.
Маленький, работящий,
он вдалеке и тут,
сосредоточась, тащит
всё, что ему дадут.
Я б, говоря по правде,
хоть и довольно смел,
даже по принужденью
на ишака не сел.
Немолодой товарищ,
грамотный гражданин,
я обожаю скорость
длинных автомашин.
Мне по душе и нраву —
верьте в мои слова —
мягкие их сиденья,
жесткие кузова.
Дороги мне приметы
быстротекущих лет:
грохот мотоциклета,
легкий велосипед.
Так что при этих взглядах —
как бы точней сказать? —
благостным ретроградом
трудно меня считать.
Мне захотелось просто
приободрить слегка
перед своим отъездом
этого ишака.
Просто мне захотелось,
сам не пойму с чего,
скрасить прощальным словом
будущее его.
1962
172. АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ
Мне во что бы то ни стало
надо б встретиться с тобой,
русской песни запевала
и ее мастеровой.
С обоюдным постоянством
мы б послали с кондачка
все романсы-преферансы
для частушки и очка.
Володимирской породы
достославный образец,
добрый мо́лодец народа,
госэстрады молодец.
Ты никак не ради денег,
не затем, чтоб лишний грош,
по Москве, как коробейник,
песни сельские несешь.
Песня тянет и туманит,
потому что между строк
там и ленточка, и пряник,
тут и глиняный свисток.
Песню петь-то надо с толком,
потому что между строк
и немецкие осколки,
и блиндажный огонек.
Там и выдумка и были,
жизнь как есть – ни дать, ни взять.
Песни те, что не купили,
будем даром раздавать.
Краснощекий, белолицый,
приходи ко мне домой,
шумный враг ночных милиций,
брат милиции дневной.
Приходи ко мне сегодня
чуть, с устаточку, хмелен:
посмеемся – я ж охотник,
и поплачем – ты ж силен.
Ну-ка вместе вспомним, братцы,
отрешась от важных дел,
как любил он похваляться,
как он каяться умел.
О тебе, о неушедшем, —
не смогу себе простить! —
я во времени прошедшем
вздумал вдруг заговорить.
Видно, чёрт меня попутал,
ввел в дурацкую игру.
Это вроде б не к добру-то,
впрочем, нынче всё к добру.
Ты меня, дружок хороший,
за обмолвку извини.
И сегодня же, Алеша,
или завтра позвони…
1962
173. ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК
Живя в двадцатом веке,
в отечестве своем,
хочу о человеке
поговорить простом.
Раскрыв листы газеты,
раздумываю зло;
определенье это
откудова пришло?
Оно явилось вроде
из тех ушедших лет:
смердит простонародье,
блистает высший свет.
В словечке также можно
смысл увидать иной:
вот этот, дескать, сложный,
а этот вот – простой.
На нашем белом свете,
в республиках страны,
определенья эти
нелепы и смешны.
Сквозь будни грозовые
идущий в полный рост,
сын ленинской России
совсем не так уж прост.
Его талант и гений,
пожалуй, посильней
иных стихотворений
и множества статей.
За всё, что миру нужно,
товарищ верный тот
отнюдь не простодушно
ответственность несет.
1962
174. МОНОЛОГ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА
Я русский по виду и сути.
За это меня не виня,
таким вот меня и рисуйте,
ваяйте и пойте меня.
Нелегкие общие думы
означили складку у рта.
Мне свойственны пафос и юмор,
известна моя доброта.
Но в облике том большелобом,
в тебе, пролетарская кость,
есть также не то чтобы злоба,
а грубая, честная злость.
Я русский по духу и плоти.
Развеяв схоластику в прах,
и в мысли моей, и в работе
живет всесоюзный размах.
Под знаменем нашим державным
я – с тех достопамятных пор —
нисколько не главный, а равный
средь братьев своих и сестер.
Литовцы, армяне, казахи,
мы все в государстве своем
не то чтоб в зазнайстве и страхе,
а в равенстве общем живем.
Я с этим испытанным братством,
с тобой, дорогая страна,
всем русским духовным богатством
успел поделиться сполна.
И сам я, не менее знача,
не сдавши позиций своих,
стал много сильней и богаче
от песен и музыки их.
1962
175. ПЕСЕНКА
Там, куда проложена
путь-дорога торная,
мирно расположена
фабрика Трехгорная.
Там, как полагается,
новая и вечная
вьется-навивается
нитка бесконечная.
Вслед за этой ниточкой
ходит по-привычному
Рита-Маргариточка,
молодость фабричная.
Руки ее скорые
тем лишь озабочены,
чтоб текла по-спорому
ровная уточина.
Пусть она и модница,
но не привередница.
Русская работница,
дедова наследница.
С нею здесь не носятся,
будто с исключением,
но зато относятся
с добрым уважением.
Быстрая и славная,
словно бы играючи,
ходит полноправная
ловкая хозяечка.
В синеньком халатике,
словно на плакатике,
В красненькой косыночке,
словно на картиночке.
1963
176. МАЛЬЧИШКИ
О прошлом зная понаслышке,
с жестокой резвостью волчат
в спортивных курточках мальчишки
в аудиториях кричат.
Зияют в их стихотвореньях
с категоричной прямотой
непониманье и прозренье,
и правота и звук пустой.
Мне б отвернуться отчужденно,
но я нисколько не таюсь,
что с добротою раздраженной
сам к этим мальчикам тянусь.
Я сделал сам не так уж мало,
и мне, как дядьке иль отцу,
и ублажать их не пристало,
и унижать их не к лицу.
Мне непременно только надо —
точнее не могу сказать —
сквозь их смущенность и браваду
сердца и души увидать.
Ведь всё двадцатое столетье —
весь ветер счастья и обид —
и нам и вам, отцам и детям,
по-равному принадлежит.
И мы, без ханжества и лести,
за всё, чем дышим и живем,
не по-раздельному, а вместе
свою ответственность несем.
1963
177. ПОЭТЕССА
Такого места просто нету
в краю метельных русских зим,
где б не висела стенгазета
с названьем собственным своим.
Ее найдешь на месте видном,
слегка поблекшую уже,
в любой артели инвалидной,
в любом заштатном гараже.
И даже там, где скуповато
общественная жизнь идет,
она выходит всё же к датам
хотя б четыре раза в год.
…Уже у нас в пути помалу
сложилось общее житье,
но всё чего-то не хватало,
пока не поняли: ее.
Чтоб стенгазеты молодежной
наполнить и украсить лист,
нашлись политик, и художник,
и развеселый юморист.
И недреманное то око,
что через местную печать
готово, к сроку и без срока,
разоблачать и обличать.
Все сочинять взялись проворно,
всех обуяла жажда дел.
Вот только словом стихотворным
никто, к несчастью, не владел.
А ведь тревожное кипенье
народа юного того
так и рвалось в стихотворенье,
певца просило своего.
Вот тут-то кстати и случилось,
что, некрасива и бледна,
полустесняясь, объявилась
негромко девушка одна.
На эту нашу поэтессу,
забыв на время юмор свой,
мы все глядели с интересом
благожелательной толпой.
Живя вагонною семьею,
кормясь из общего котла,
мы знали только, что швеею
она на фабрике была.
И что почти весь век короткий
там, на окраине Москвы,
жила по-скромному у тетки,
пенсионерки и вдовы.
Одни и те же юбки шила,
ходила в клуб потанцевать
и вдруг отчаянно решила
иглу на стройку променять.
Всё это нас не умиляло:
ведь все такими были тут
и все, раздумывая мало,
сибирский выбрали маршрут.
Но вот, тетрадь в обложке белой
расположив перед собой,
она, уже волнуясь, села
за шаткий столик боковой.
И все мы по своей охоте
так незаметно, как смогли,
чтоб не мешать ее работе,
посторонились, отошли.
Совсем притихло общежитье,
погас курильщиков огонь,
лишь еле слышно – по наитью —
вела мелодию гармонь.
Старательно, как на уроке,
сидела девушка вдали.
Но вот уже явились строки,
заторопились и пошли.
Встречая радостно и смело
слова, идущие чредой,
она заметно хорошела
над каждой найденной строкой.
Она писала жарко, с ходу,
не исправляя ничего,
пускай не для всего народа,
а для вагона одного.
И весь вагон, как по заданью,
утихомирившись пока,
с нелицемерным ожиданьем
следил за ней издалека.
1963 Поезд «Москва – Лена»
178. ПОПЫТКА ЗАВЕЩАНИЯ
Т. С.
Когда умру, мои останки,
с печалью сдержанной, без слез,
похорони на полустанке
под сенью слабою берез.
Мне это так необходимо,
чтоб поздним вечером, тогда,
не останавливаясь, мимо
шли с ровным стуком поезда.
Ведь там лежать в земле глубокой
и одиноко и темно.
Лети, светясь неподалеку,
вагона дальнего окно.
Пусть этот отблеск жизни милой,
пускай щемящий проблеск тот
пройдет, мерцая, над могилой
и где-то дальше пропадет…
1964
179. КСЕНЯ НЕКРАСОВА
Что мне, красавицы, ваши роскошные тряпки,
ваша изысканность, ваши духи и белье? —
Ксеня Некрасова в жалкой соломенной шляпке
в стихотворение медленно входит мое.
Как она бедно и как неискусно одета!
Пахнет от кройки подвалом или чердаком.
Вы не забыли стремление Ксенино это —
платье украсить матерчатым мятым цветком?
Жизнь ее, в общем, сложилась не очень удачно:
пренебреженье, насмешечки, даже хула.
Знаю я только, что где-то на станции дачной,
вечно без денег, она всухомятку жила.
На электричке в столицу она приезжала
с пачечкой новых, наивных до прелести строк.
Редко когда в озабоченных наших журналах
вдруг появлялся какой-нибудь Ксенин стишок.
Ставила буквы большие она неумело
на четвертушках бумаги, в блаженной тоске.
Так третьеклассница, между уроками, мелом
в детском наитии пишет на школьной доске.
Малой толпою, приличной по сути и с виду,
сопровождался по улицам зимним твой прах.
Не позабуду гражданскую ту панихиду,
что в крематории мы провели второпях.
И разошлись, поразъехались сразу, до срока,
кто – на собранье, кто – к детям, кто – попросту пить,
лишь бы скорее избавиться нам от упрека,
лишь бы быстрее свою виноватость забыть.
1964
180. «Мальчики, пришедшие в апреле…»
Мальчики, пришедшие в апреле
в шумный мир журналов и газет,
здорово мы всё же постарели
за каких-то три десятка лет.
Где оно, прекрасное волненье,
острое, как потаенный нож,
в день, когда свое стихотворенье
ты теперь в редакцию несешь?
Ах, куда там! Мы ведь нынче сами,
важно въехав в загородный дом,
стали вроде бы учителями
и советы мальчикам даем.
От меня дорожкою зеленой,
источая ненависть и свет,
каждый день уходит вознесенный
или уничтоженный поэт.
Он ушел, а мне не стало лучше.
На столе – раскрытая тетрадь.
Кто придет и кто меня научит,
как мне жить и как стихи писать?
1964








