Стихотворения и поэмы
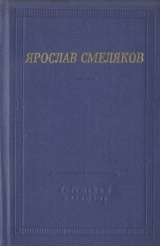
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Людмил Стоянов
Соавторы: Осман Сарывелли,Гали Орманов,Джамбул Джабаев,Бронтой Бедюров,Дюла Ийеш,Яков Ухсай,Матвей Грубиан,Кубанычбек Маликов,Ярослав Смеляков,Абдумалик Бахори
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
181. ДАЛЬНЯЯ ПОЕЗДКА
Я остался и нежным, и резким —
тем, каким меня знали всегда,
но вернулся из дальней поездки
не таким, как уехал туда.
В каждом чуть изменившемся жесте
я невольно ответно сберег
продолжение всех путешествий,
повороты и локти дорог.
Из дорожных моих впечатлений
ничего не пропало вдали,
и на лоб полуясные тени
для других незаметно легли.
Двери в собственный дом открывая,
надевая в передней пальто,
непривычно в себе ощущаю
путешествие дальнее то.
1964
182. «Приезжают в столицу…»
Приезжают в столицу
смиренно и бойко
молодые Есенины
в красных ковбойках.
Поглядите,
оставив предвзятые толки,
как по-детски подрезаны
наглые челки.
Разверните,
хотя б просто так,
для порядка,
их измятые в дальней дороге
тетрадки.
Там
на фоне безвкусицы и дребедени
ослепляющий образ
блеснет на мгновенье.
Там
среди неумелой мороки
вдруг возникнут
почти гениальные строки.
…Пусть придет к ним
потом, через годы, по праву
золотого Есенина
звонкая слава.
«Дай лишь бог, – говорю я,
идя стороною, —
чтобы им
(извините меня за отсталость)
не такою она доставалась ценою,
не такою ценою она доставалась».
1964
183. НА ПОВЕРКЕ
Бывают дни без фейерверка,
когда огромная страна
осенним утром на поверке
все называет имена.
Ей нужно собственные силы
ума и духа посчитать.
Открылись двери и могилы,
разъялась тьма, отверзлась гладь.
Притихла ложь, умолкла злоба,
прилежно вытянулась спесь.
И Лермонтов встает из гроба
и отвечает громко: «Здесь!»
О, этот Лермонтов опальный,
сын нашей собственной земли,
чьи строки, как удар кинжальный,
под сердце самое вошли!
Он, этот Лермонтов могучий,
сосредоточась, добр и зол,
как бы светящаяся туча
по небу русскому прошел.
1964
184. «Ну, а я вот сознаться посмею…»
Ну, а я вот сознаться посмею,
оглянувшись кругом не спеша,
что заметно и грустно старею:
ум и руки, лицо и душа.
За собой замечаю с досадой,
что бываю – так возраст велит —
то добрее, чем это бы надо,
то сердитее, чем надлежит.
Там – устану, а тут – недослышу,
неожиданно дрогнет рука.
Откликается реже и тише
на события жизни строка.
1964
185. ЗЕРКАЛЬЦЕ
Квадрат зеркальный на подставке,
оправа бедная темна.
Его в какой-то прежней лавке
купила барышня одна.
Напрасно зеркальце мерцало
в ее каморке в полутьме —
она в него гляделась мало,
держа другое на уме.
Не потому, что не любила
лица знакомые черты
иль обаянья мало было
и нехватало красоты.
В нем петербургская курсистка
хранила в грозные года
такого рода переписку,
что пахла каторгой тогда.
Она, оставивши столицу
по обстоятельствам своим,
с ним уезжала за границу
и возвратилась вместе с ним.
В нем было скрыто со стараньем
по воле времени того
к великой партии посланье
от эмигранта одного.
Его тут ждали, словно света,
когда полнеба замело,
и в тот же день посланье это
по всей России потекло.
Не только окна вылетали,
панель хрустела от стекла,
но сталь, дымясь, прошла по стали
и кровь по крови протекла.
Шатались храмы и столицы,
державы падали во тьму —
и надо ж было сохраниться
на память зеркальцу тому.
С тех пор прошли года и годы,
не мимо нас, не стороной.
Уснул всесветный вождь народов,
и нет в живых его связной.
Они покоятся согласно
и друг от друга невдали
под небом облачным и ясным
на площади московской Красной —
на Главной площади земли.
1964
186. РОЗА ТАДЖИКИСТАНА
В юности необычной,
вовсе не ради позы,
с грубостью ироничной
я относился к розам.
В залах тогдашних съездов,
в том правовом порядке
были совсем не к месту
эти аристократки.
Мне при моих замашках
и пролетарском стиле
простенькие ромашки
более подходили.
Прошлой весной впервые
я прилетел нежданно
из глубины России
к солнцу Таджикистана.
Утром сквозь сад зеленый,
пенье и воркованье
шел я, ошеломленный
птицами и цветами.
По переулкам вешним
долго ходил, вздыхая,
словно бы мелкий грешник
по филиалу рая.
В щелях любой калитки,
в дворике каждом малом,
в скудности и в избытке
роза благоухала.
В блеске стекла и стали
между асфальтом серым
возле Цека стояли
розовые шпалеры.
И на прилавке даже
в банке из-под варенья
роза – не для продажи,
только для украшенья.
И за стеклом трехтонки
из гаража совхоза,
воткнутая в сторонке,
блекло светилась роза.
Роза в цеху рабочем
и под окном поэта.
Мне приглянулась очень
демократичность эта.
Вскорости между делом
я ощутил неловко:
выдохлась, ослабела
старая установка.
Может быть, мне простится
тихое нарушение
принципов и традиций
грозного поколенья.
Ведь в остальном, ребята,
лозунги нашей Ставки
я соблюдаю свято —
без никакой поправки.
1965
187. ХАМЗА
Однажды ночью, поздним летом,
вдоль мест, истаявших вдали,
нас, делегацию поэтов,
в колхоз узбекский привезли.
Из недалекого оврага,
где возникал ночной туман,
тянуло свежестью и влагой
твоей земли, Шахимардан.
Под неподвижною чинарой,
видавшей битвы и пиры,
своей медлительностью старой
манили к отдыху ковры.
В дощатом близком помещенье,
пока мы маялись без дел,
в окошке сталкивались тени,
огонь томился и блестел.
Там для беседы нашей братской,
еще реальностью не став,
варился ужин азиатский
из мяса, риса и приправ.
Интеллигенции столичной
в помятых пыльных пиджаках
здесь всё казалось непривычным,
как православному аллах.
Но вот уже, само собою,
весьма украшенный вином,
стол установлен под листвою,
и скатерть белая на нем.
Хоть сам колхозный председатель
учтиво потчует гостей,
мы понимаем, что некстати
явились с лирикой своей.
Ведь на кустах вдоль каждой тропки,
на проводах над головой —
висят повсюду прядки хлопка,
как пряжа осени самой.
То нарастая, то слабея,
итожа весь рабочий год,
идет уборка, – только ею
сейчас республика живет.
Нам всем по опыту знакомо,
зачем, молчащий и прямой,
сюда работнику обкома
привозит сводки верховой.
И очень скоро делегаты,
чтоб им обузою не стать,
как сговорившись, деликатно
из-за стола уходят спать.
Солидным постлано в постройке,
снаружи – шумным и худым.
Мне хорошо на узкой койке
под небом темным и большим.
Молчат окрестности и дали,
умолкло время в тишине.
Лишь дуновение печали
идет откуда-то ко мне.
Оно сквозит стезею длинной
в неслышном шорохе ветвей
с той голой каменной вершины,
где установлен мавзолей.
Из той обители высокой,
где спит едва не сорок лет
глашатай Красного Востока,
Советской Азии поэт.
Он воплощал начало эры,
ее энергию и суть.
Его убили изуверы,
пытаясь время повернуть.
Решившись – ночью – на расплату,
они к нему наперебой
спешили, путаясь в халатах,
визжащей маленькой толпой.
И от поруганного тела,
бесповоротно, не спеша,
к знаменам красным отлетела
его поэзии душа.
А утром издали светлеют
уступы снежные вершин.
Невдалеке от мавзолея
мы вылезаем из машин.
Там нет ни облачка, ни тени,
ни украшений – ничего.
Лишь двести с чем-нибудь ступеней
к гробнице замкнутой его.
И мы туда, спеша помалу,
как будто заняты трудом,
венок, уже слегка увялый,
сменяясь, по двое несем.
На этой нашей поздней встрече
под общим солнцем всей страны
не к месту суетные речи
и слезы тоже не нужны.
Мы, перемолвившись невнятно,
тут, у бессмертья на краю,
опять спускаемся обратно
на землю грешную свою.
На те долготы и широты,
где нас еще покамест ждут
свои печали и заботы
и свой незавершенный труд.
1965
188. «Мне тоже выпала удача…»
Мне тоже выпала удача:
забыв бульварную Москву,
на этой ведомственной даче
в апрельской Азии живу.
Веду впервые жизнь такую:
благоухает утром сад,
умильно горлинки воркуют,
арыки быстрые журчат.
Наполнены росою розы —
цветы томительной любви,
и запросто, без всякой позы,
поют над ними соловьи.
Сижу на лавочке под ивой.
Дышу вечерним холодком.
Мой грубый бас, промытый пивом,
сменился жалким тенорком.
Нет с красотою этой сладу.
Пытаюсь вровень с нею стать.
Уже в моих стихах цикады
едва не стали стрекотать.
Уже неверною рукою
тот, кто столичным волком был,
лицо красавицы с луною,
с луной – не с чем-нибудь! – сравнил.
Гроза писательского клуба,
подобно юному хлыщу,
уже вытягиваю губы
и что-то нежное свищу.
1965
189. СТИХИ, НАПИСАННЫЕ 1 МАЯ
Пролетарии всех стран,
бейте в красный барабан!
Сил на это не жалейте,
не глядите вкось и врозь —
в обе палки вместе бейте
так, чтоб небо затряслось.
Опускайте громче руку,
извинений не прося,
чтоб от этого от стуку
отворилось всё и вся.
Грузчик, каменщик и плотник,
весь народ мастеровой,
выходите на субботник
всенародный, мировой.
Наступает час расплаты
за дубинки и штыки,—
собирайте все лопаты,
все мотыги и кирки.
Работенка вам по силам,
по душе и по уму:
ройте общую могилу
Капиталу самому.
Ройте все единым духом,
дружно плечи веселя, —
пусть ему не станет пухом
наша общая земля.
Мы ж недаром изучали
«Манифест» и «Капитал» —
Маркс и Энгельс дело знали,
Ленин дело понимал.
<1966>
190. ОДИН ДЕНЬ
1
Лет пять назад, смотря неловко,
я в тайной жажде новых строк
с писательской командировкой
попал в сибирский городок.
Он жил еще совсем недавно,
ведя свой быт по старине,
под вечер запирая ставни,
от магистралей в стороне.
Но вот по заданному сроку,
под гром литавр и шум газет,
здесь началась неподалеку
большая стройка наших лет.
Она с конторами своими,
самонадеянно смела,
его неведомое имя
себе решительно взяла.
Она, не спрашиваясь, сразу,
желая действовать скорей,
его пустынные лабазы
набила техникой своей.
У каждой славы есть изнанка.
Как надо думать, не с добра
у забегаловки цыганка
плясала, пьяная с утра.
Не зря, без видимого толку
меся наследственную грязь,
весь день ходила барахолка,
то чуть не плача, то смеясь.
Она задаром продавала —
ей прибыль нынче не с руки —
свою герань и одеяла,
свои корыта и горшки.
Ведь не в далекости, а вскоре
весь городок убогий тот
под волны будущего моря
в пучину темную уйдет.
Оно одно самодержавно
ходить на воле будет тут,
и только полочки да ставни
со дна глубокого всплывут.
Что ж делать, если это надо?!
И городок последних дней
находит горькую усладу
в заздравной гибели своей.
2
Не тратя времени задаром,
осенним воздухом дыша,
я по дощатым тротуарам
иду с оглядкой, не спеша.
Тут всё привычно и знакомо,
всё это я видал давно,
машины возле исполкома,
палатки, вывески, кино.
Как вдруг из внешности всегдашней
и повседневности самой —
из леса рубленная башня
явилась крупно предо мной.
Она недвижно простояла,
как летописи говорят,
не то чтоб много или мало,
а триста с лишком лет подряд.
В ее узилище студеном,
двуперстно осеняя лоб,
еще тогда, во время оно,
молился ссыльный протопоп.
Его проклятья и печали
в острожной зимней тишине
лишь караульщики слыхали,
под снегом стоя в стороне.
Мятежный пастырь, книжник дикий,
он не умел послушным быть,
и не могли его владыки
ни обломать, ни улестить.
Попытки их не удавались,
стоял он грубо на своем,
хотя они над ним старались
и пирогом и батогом.
В своей истории подробной
другой какой-нибудь народ
полупохожих и подобных
средь прародителей найдет.
Но этот – крест на грязной шее,
в обносках мерзостно худых —
мне и дороже и страшнее
иноязычных, не своих.
Ведь он оставил русской речи
и прямоту и срамоту,
язык мятежного предтечи,
светившийся, как угль во рту.
3
И я с улыбкою угрюмой,
как бы ступив через межу,
от протопопа Аввакума
в свое столетье ухожу.
Недалека моя дорога —
верста по-старому всего
от башни древнего острога
до общежитья одного.
Но мне навстречу меж заборов,
стоящих чуть ли не впритык,
шел как-то медленно, не скоро,
не так, как надо, грузовик.
Остановившись удивленно,
я увидал в пяти шагах
нехорошо соединенный
кумач и траур на бортах.
Я не спросил у женщин здешних,
хоть находился невдали,
кого тем утром непоспешно
к последней пристани везли.
С какой-то важностью особой,
блюдя устав негласный свой,
шли провожатые за гробом
нестройной маленькой толпой.
А вслед за ними длинным цугом,
для узких улиц велики,
шли без просветов друг за другом
строительства грузовики.
Они тянули крупным планом,
как в том, еще немом, кино,
бруски и доски пилорамы,
цемент, железо и вино.
Надолго в памяти осталось,
как, все домишки шевеля,
под их колесами шаталась
и лезла в сторону земля.
Как будто их рукой усталой,
чтоб равнодушною не слыть,
сама Индустрия послала
тот гроб безвестный проводить.
Я всё стоял с пустым блокнотом
и непокрытой головой,
пока за дальним поворотом
эскорт не скрылся грузовой.
4
За малый труд не ожидая
ни осужденья, ни похвал,
я сам не очень понимаю,
зачем всё это написал.
Мне б оправданьем послужило
лишь то, скажу накоротке,
что это в самом деле было
в том утонувшем городке.
Да то еще, что стройка эта,
как солнце вешнее в окне,
дает сегодня море света
не городку, а всей стране.
1966
191. КРЕСЛО
Все люстры празднично сияли,
народ толпился за столом
в тот час, когда в кремлевском зале
шел, как положено, прием.
Я почему-то был не в духе.
Оставив этот белый стол,
меня Володя Солоухин
по закоулочкам повел.
Он здесь служил еще курсантом,
как бы в своем родном дому,
и Спасский бой больших курантов
был будто ходики ему.
В каком-то коридоре дальнем
я увидал, как сквозь туман,
ту келью, ту опочивальню,
где спал и думал Иоанн.
Она бедна, и неуютна,
и для царя невелика,
лампадный свет мерцает смутно
под низким сводом потолка.
Да, это на него похоже,
он был действительно таким —
как схима, нищенское ложе,
из ситца темный балдахин.
И кресло сбоку от постели —
лишь кресло, больше ничего,
чтоб не мешали в самом деле
раздумьям царственным его.
И лестница – свеча и тени,
и запах дыбы и могил.
По винтовым ее ступеням
сюда Малюта заходил.
Какие там слова и речи!
Лишь списки.
Молча, как во сне.
И, зыблясь, трепетали свечи
в заморском маленьком пенсне.
И я тогда, как все поэты,
мгновенно, безрассудно смел,
по хулиганству в кресло это,
как бы играючи, присел.
Но тут же из него сухая,
как туча, пыль времен пошла.
И молния веков, блистая,
меня презрительно прожгла.
Я сразу умер и очнулся
в опочивальне этой, там,
как словно сдуру прикоснулся
к высоковольтным проводам.
Урока мне хватило с лишком,
не описать, не объяснить.
Куда ты вздумал лезть, мальчишка?
Над кем решился подшутить?
1966
192. ИСТОРИЯ
И современники, и тени
в тиши беседуют со мной.
Острее стало ощущенье
шагов Истории самой.
Она своею тьмой и светом
меня омыла и ожгла.
Всё явственней ее приметы,
понятней мысли и дела.
Мне этой радости доныне
не выпадало отродясь.
И с каждым днем нерасторжимой
вся та преемственность и связь.
Как словно я мальчонка в шубке
и за тебя, родная Русь,
как бы за бабушкину юбку,
спеша и падая, держусь.
1966
193. В ЗАЩИТУ ДОМИНО
В газете каждой их ругают
весьма умело и умно,
тех человеков, что играют,
придя с работы, в домино.
А я люблю с хорошей злостью
в июньском садике, в углу,
стучать той самой черной костью
по деревянному столу.
А мне к лицу и вроде впору
в кругу умнейших простаков
игра матросов, и шахтеров,
и пенсионных стариков.
Я к ним, рассержен и обижен,
иду от прозы и стиха
и в этом, право же, не вижу
самомалейшего греха.
Конечно, все культурней стали,
но населяют каждый дом
не только Котовы и Тали,
не все Ботвинники притом.
За агитацию – спасибо!
Но ведь, мозгами шевеля,
не так-то просто сделать «рыбу»
или отрезать два «дупля».
1966
194. «Не семеня и не вразвалку…»
Не семеня и не вразвалку —
он к воздержанию привык —
идет, стуча сердито палкой,
навстречу времени старик.
Есть у него семья и дружба,
а он, старик спокойный тот,
не в услуженье, а на службу
неукоснительно идет.
Не тратя время бесполезно,
от мелких скопищ далеки,
они по-внешнему любезны,
но непреклонны – старики.
Их пиджаки сидят свободно,
им ни к чему в пижоны лезть.
Они немного старомодны,
но даже в этом прелесть есть.
Спервоначалу и доныне,
как солнце зимнее в окне,
должны быть все-таки святыни
в любой значительной стране.
Приостановится движенье
и просто худо будет нам,
когда исчезнет уваженье
к таким, как эти, старикам.
1966
195. ИЗВИНЕНИЕ ПЕРЕД НАТАЛИ
Теперь уже не помню даты —
ослабла память, мозг устал,—
но дело было: я когда-то про
Вас бестактно написал.
Пожалуй, что в какой-то мере
я в пору ту правдивым был.
Но Пушкин вам нарочно верил
и Вас, как девочку, любил.
Его величие и слава,
уж коль по чести говорить,
мне не давали вовсе права
Вас и намеком оскорбить.
Я не страдаю и не каюсь,
волос своих не рву пока,
а просто тихо извиняюсь
с той стороны, издалека.
Я Вас теперь прошу покорно
ничуть злопамятной не быть
и тот стишок, как отблеск черный,
средь развлечений позабыть.
Ах, Вам совсем нетрудно это:
ведь и при жизни Вы смогли
забыть великого поэта —
любовь и горе всей земли.
1966
196. ЛУМУМБА
Между кладбищенских голых ветвей
нету, Лумумба, могилы твоей.
Нету надгробий и каменных плит
там, где твой прах потаенно зарыт.
Нету над ним ни звезды, ни креста,
ни сопредельного даже куста.
Даже дощечки какой-нибудь нет
с надписью, сделанной карандашом,
что на дорогах потерь и побед
ставят солдаты над павшим бойцом.
Житель огромной январской страны,
у твоего я не грелся огня,
но ощущенье какой-то вины
не оставляет всё время меня.
То позабудется между всего,
то вдруг опять просквозится во сне,
словно я бросил мальчишку того,
что по дороге доверился мне.
Поздно окно мое ночью горит.
Дым табака наполняет жилье.
Где-то там, в джунглях далеких, лежит
сын мой Лумумба – горе мое.
1966
197. КОМАНДАРМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Мне Красной Армии главкомы,
молодцеваты и бледны,
хоть понаслышке, но знакомы
и не совсем со стороны.
Я их не знал и не узнаю
так, как положено, сполна.
Но, словно песню, вспоминаю
тех наступлений имена.
В петлицах шпалы боевые
за легендарные дела.
По этим шпалам вся Россия,
как поезд, медленно прошла.
Уже давно суконных шлемов
в музеях тлеют шишаки.
Как позабытые поэмы,
молчат почетные клинки.
Как будто отблески на меди,
когда над книгами сижу,
в тиши больших энциклопедий
я ваши лица нахожу.
1966
198. МЕНШИКОВ
Под утро смирно спит столица,
сыта ют снеди и вина.
И дочь твоя в императрицы
уже почти проведена.
А впереди – балы и войны,
курьеры, девки, атташе.
Но отчего-то беспокойно,
тоскливо как-то на душе.
Но вроде саднит, а не греет,
хрустя, голландское белье.
Полузаметно, но редеет
всё окружение твое.
Еще ты вроде в прежней силе,
полудержавен и хорош.
Тебя, однако, подрубили,
ты скоро, скоро упадешь.
Ты упадешь, сосна прямая,
средь синевы и мерзлоты,
своим паденьем пригибая
березки, елочки, кусты.
Куда девалась та отвага,
тот всероссийский политес,
когда ты с тоненькою шпагой
на ядра вражеские лез?
Живая вырыта могила
за долгий месяц от столиц.
И веет холодом и силой
от молодых державных лиц.
Всё ниже и темнее тучи,
всё больше пыли на коврах.
И дочь твою мордастый кучер
угрюмо тискает в сенях.
1966
199. РУССКИЙ ЯЗЫК
У бедной твоей колыбели,
еще еле слышно сперва,
рязанские женщины пели,
роняя, как жемчуг, слова.
Под лампой кабацкой неяркой
на стол деревянный поник
у полной нетронутой чарки,
как раненый сокол, ямщик.
Ты шел на разбитых копытах,
в кострах староверов горел,
стирался в бадьях и корытах,
сверчком на печи свиристел.
Ты, сидя на позднем крылечке,
закату подставя лицо,
забрал у Кольцова колечко,
у Курбского занял кольцо.
Вы, прадеды наши, в недоле,
мукою запудривши лик,
на мельнице русской смололи
заезжий татарский язык.
Вы взяли немецкого малость,
хотя бы и больше могли,
чтоб им не одним доставалась
ученая важность земли.
Ты, пахнущий прелой овчиной
и дедовским острым кваском,
писался и черной лучиной,
и белым лебяжьим пером.
Ты – выше цены и расценки —
в году сорок первом, потом
писался в немецком застенке
на слабой известке гвоздем.
Владыки и те исчезали
мгновенно и наверняка,
когда невзначай посягали
на русскую суть языка.
1945–1966
200. МАШЕНЬКА
Происходило это, как ни странно,
не там, где бьет по берегу прибой,
не в Дании старинной и туманной,
а в заводском поселке под Москвой.
Там жило, вероятно, тысяч десять,
я не считал, но полагаю так.
На карте мира, если карту взвесить,
поселок этот – ерунда, пустяк.
Но там была на месте влажной рощи,
на нет сведенной тщанием людей,
как и в столицах, собственная площадь
и белый клуб, поставленный на ней.
И в этом клубе, так уж было надо, —
нам отставать от жизни не с руки, —
кино крутилось, делались доклады
и занимались всякие кружки.
Они трудились, в общем, не бесславно,
тянули все, кто как умел и мог.
Но был средь них как главный между равных,
бесспорно, драматический кружок.
Застенчива и хороша собою,
как стеклышко весеннее светла,
его премьершей и его душою
у нас в то время Машенька была.
На шаткой сцене зрительного зала,
на фоне намалеванных небес
она, светясь от радости, играла
чекисток, комсомолок и принцесс.
Лукавый взгляд, и зыбкая походка,
и голосок, волнительный насквозь…
Мещаночка, девчонка, счетоводка, —
нельзя понять, откуда что бралось?
Ей помогало чувствовать событья,
произносить высокие слова
не мастерство, а детское наитье,
что иногда сильнее мастерства.
С естественной смущенностью и болью,
от ощущенья жизни весела,
она не то чтобы вживалась в роли,
она ролями этими жила.
А я в те дни, не требуя поблажки,
вертясь, как черт, с блокнотом и пером,
работал в заводской многотиражке
ответственным ее секретарем.
Естественно при этой обстановке,
что я, отнюдь не жулик и нахал,
по простоте на эти постановки
огромные рецензии писал.
Они воспринимались с интересом
и попадали в цель наверняка
лишь потому, что остальная пресса
не замечала нашего кружка.
Не раз, не раз – солгать я не посмею —
сам режиссер дарил улыбку мне:
Василь Васильич с бабочкой на шее,
в качаловском блистающем пенсне.
Я Машеньку и ныне вспоминаю
на склоне лет, в другом краю страны.
Любил ли я ее?
Теперь не знаю,—
мы были все в ту пору влюблены.
Я вспоминаю не без нежной боли
тот грузовик давно ушедших дней,
в котором нас возили на гастроли
по ближним клубам юности моей.
И шум кулис, и дружный шепот в зале,
и вызовы по многу раз подряд,
и ужины, какие нам давали
в ночных столовках – столько лет назад!
Но вот однажды…
Понимает каждый
или поймет, когда настанет час,
что в жизни всё случается однажды,
единожды и, в общем, только раз.
Дают звонки. Уже четвертый сдуру.
Партер гудит. Погашен в зале свет.
Оркестрик наш закончил увертюру.
Пора! Пора!
А Машеньки всё нет.
Василь Васильич донельзя расстроен,
он побледнел и даже спал с лица,
как поседелый в грозных битвах воин,
увидевший предательство юнца.
Снимают грим кружковцы остальные.
Ушел партер, и опустел балкон.
Так в этот день безрадостный – впервые
спектакль был позорно отменен.
Назавтра утром с тихой ветвью мира,
чтоб нам не оставаться в стороне,
я был направлен к Маше на квартиру,
но дверь ее не открывалась мне.
А к вечеру, рожденный в смраде где-то
из шепота шекспировских старух,
нам принесли в редакцию газеты
немыслимый, но достоверный слух.
И услыхала заводская пресса,
упрятав в ящик срочные дела,
что наша поселковая принцесса,
как говорят на кухнях, понесла.
Совет семьи ей даровал прощенье.
Но запретил (чтоб всё быстрей забыть)
не то чтоб там опять играть на сцене,
а даже близко к клубу подходить.
Я вскорости пошел к ней на работу,
мне нужен был жестокий разговор…
Она прилежно щелкала на счетах
в халатике, скрывающем позор.
Не удалось мне грозное начало.
Ты ожидал смятенности – изволь!
Она меня ничуть не замечала —
последняя разыгранная роль.
Передо мной спокойно, достославно,
внушительно сидела вдалеке
не Машенька, а Марья Николавна
с конторским карандашиком в руке.
Уже почти готовая старуха,
живущая степенно где-то там.
Руины развалившегося духа,
очаг погасший, опустелый храм.
А через день, собравшись без изъятья
и от завкома выслушав урок,
возобновил вечерние занятья
тот самый драматический кружок.
Не вечно ж им страдать по женской доле
и повторять красивые слова.
Всё ерунда!
И Машенькины роли
взяла одна прекрасная вдова.
Софиты те же, мизансцены те же,
всё так же дружно рукоплещет зал.
Я стал писать рецензии всё реже,
а вскорости и вовсе перестал.
1966








