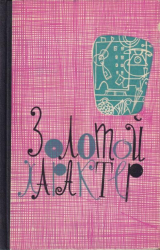
Текст книги "Золотой характер"
Автор книги: Лев Кассиль
Соавторы: Виктор Драгунский,Владимир Санин,Владимир Михайлов,Лазарь Лагин,Александр Вампилов,Иван Стаднюк,Юрий Казаков,Борис Ласкин,Николай Грибачев,Зиновий Юрьев
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Мих. Левитин
НАКАЧКА
– Вам Суетилов звонил.
Услышав эти слова, Александр Григорьевич Вынужнев, полный, пышущий здоровьем человек, прямо вянет на глазах. На лбу у него появляются морщины, рот кривит болезненная гримаса, и даже гордо устремленный вверх нос вдруг резко меняет свое направление и виновато опускается к губе.
Александр Григорьевич – председатель небольшого завкома – знает, что если звонил Суетилов, значит, быть неприятностям. Это не суеверие, не предчувствие, а вполне реальный факт. Вынужнев всего лишь месяц на посту председателя завкома, и он не помнит, чтобы, позвонив к нему, Суетилов справился о здоровье или сообщил что-нибудь приятное. Нет. Суетилов «просто так» никогда не звонит. Он звонит, чтобы сказать одни и те же слова:
– Это ты, Вынужнев? Говорю я, Суетилов. Приходи, браток, сегодня в пять. Будет разговор.
И все понятно. Вынужнев знает, что «разговор» этот не просто разговор. Ведь в разговоре участвуют, как известно, минимум два человека, а здесь говорить будет только один – Суетилов. Черт возьми, и откуда он только взялся?! Сам он называет свои речи «инструктажем», а все, кого он вызывает, и в том числе Вынужнев, именуют их «накачками».
Вынужнев смотрит на часы и, выяснив, что до визита к Суетилову еще целый час, погружается в мрачные воспоминания. За один месяц это уже шестая накачка. Все предыдущие Вынужнев помнит до мельчайших подробностей. Первая накачка была совсем недавно. Суетилов вызвал Вынужнева и сказал:
– Ну так вот, дружок, чем ты там у себя занимаешься?
– Да осваиваюсь понемногу, в курс дела вхожу.
– И долго ты собираешься входить в этот курс?.. Недельку? – громко и нервно рассмеялся Суетилов. – Да за недельку и курс начисто переменится, и дело будет другое. Ты, браток, про эти излишества забудь. А занимайся в настоящий период вот чем…
Суетилов закурил, достал из стола какую-то бумагу и, ткнув в нее пальцем, сказал:
– Указание вчера пришло срочно улучшить обслуживание посетителей. Экземплярчик я тебе дам, а ты уж действуй… Все брось и занимайся только этим… Завтра же у себя совещаньице проверни… Собери на него всех, кто к этому делу касательство имеет.
– Не могу я завтра, – робко вставил Вынужнев, – завтра у нас все заняты… приемный день завтра.
– Ну и что с того, что приемный день! А вы объявление повесьте: мол, так и так, дескать, по случаю совещания по вопросу улучшения обслуживания посетителей прием посетителей отменяется… Так что действуй и не теряй времени.
А на прощание Вынужнев слышит слова, которыми Суетилов неизменно заканчивал каждую накачку:
– Шуруй… Вкалывай… Двигай!..
На вторую «накачку» Суетилов вызвал Вынужнева ночью:
– Ты чем занимаешься?
– Да вот обслуживание посетителей налаживаю, совещание провели, теперь перестройку кое-какую задумали.
– Отставить! – хмуро сказал Суетилов. – Не тем сейчас надо заниматься…
– Но вы же на прошлой неделе сами сказали…
– Так то на прошлой неделе, а сейчас обстановка изменилась… Главное в настоящий момент – это новаторы производства. Есть у вас новаторы?
– Да, человек шесть имеется…
– А как вы им помогаете?
– Да помогаем, когда нужно поддержать – поддерживаем, перед дирекцией ставим вопрос, а в случае волокиты и в высшие инстанции обращаемся.
– А следы от всего этого дела какие? – громко спросил Суетилов и, заметив, что Вынужнев растерян, пояснил: – Вот ты говоришь, что помогаете новаторам, а где доказательство этой вашей помощи, где ее общественное звучание? Резонанс где?
– Чего нет – того нет, – развел руками Вынужнев, – резонанса нет, и звучания… По-нашему, главное, чтобы у новаторов дело лучше шло…
Суетилов брезгливо поморщился и махнул рукой:
– Это, уважаемый, прописная истина, а скрывается за подобными рассуждениями принижение организаторской роли профсоюза… Вот потому я и вызвал вас к себе, чтобы сделать накачку на сей предмет.
Суетилов встал с места, откашлялся, погладил выбритый до глянца подбородок и, прищурив и без того небольшие, бесцветные глазки, приступил к накачке.
– Что такое новатор? – спросил самого себя Суетилов и тут же ответил: – Новатор – это тот, кто борется за новое и предлагает это новое на смену старому. А поскольку это так, то и наша задача – окружить данного новатора заботой и проявить к нему внимание. Вот почему надо срочно обсудить все предложения, немедленно зафиксировать их, вынести решение и, взяв на себя обязательства и в дальнейшем приветствовать все достижения новаторов, следить за тем, чтобы они, эти достижения, нашли свое яркое отражение в протоколах и отчетах…
Третья накачка была посвящена смотру самодеятельности.
– Не понимаю, – попытался было возразить Вынужнев, – почему это мы должны все бросить и заниматься самодеятельностью?
– А очень просто почему, – опять доставая какую-то инструкцию, объяснил Суетилов. – Проводится смотр. А смотр – это все равно что аврал, и пока мы его не провернем, всякие другие дела побоку.
– Ты на хор обрати внимание, – добавил Суетилов. – Остальные кружки – это дело второстепенное. Главное, значит, хор. Я вот как-то ваш хор в концерте слышал… Неплохо, неплохо, прямо скажу. И поют ребята старательно, как полагается поют. А тем не менее недостатков много. Вот, например, хотя бы такой факт взять: песню «Выхожу один я на дорогу» поют все хором. Нереально это! На дорогу выходит один, а на сцену шестьдесят пять человек… И еще вот в отчете вашего клуба сказано, что в хоре имеется двадцать пять первых голосов, двадцать вторых и восемнадцать третьих… Мимо таких фактов проходить нельзя. Ты на это дело главное внимание обрати. К смотру все голоса должны подтянуться и стать первыми голосами. Так что давай двигай, шуруй, вкалывай!
Четвертую накачку Суетилов проводил, как сеанс одновременной игры в шахматы, с той только разницей, что вместо столиков шахматных стояли столики простые, на каждом из них лежали чистая бумага и карандаши, за столами сидели еще не совсем проснувшиеся профсоюзные работники (было семь утра), а сам Суетилов, расхаживая от стола к столу, громко говорил:
– Я вызвал вас, товарищи, чтобы в порядке оперативного руководства дать некоторые указания по одному срочному мероприятию… Все ближайшие дни вы должны заниматься только альпинизмом. Да-да! Все остальные дела, как второстепенные, можно и отложить. Вы обязаны немедленно развернуть разъяснительную работу о пользе альпинизма и поднять на должную высоту количество участников восхождений на всякого рода вершины. В связи с этим надо провести групповые собеседования, а также выяснить точные данные для приобретения необходимого инвентаря…
Но альпинизмом долго заниматься было не суждено. Через два дня – это было в воскресенье – Суетилов снова собрал народ для коллективной накачки и произнес такую речь:
– Что сейчас на повестке дня? На повестке дня сейчас организация отдыха. Нам нужен не просто отдых, а отдых веселый. Просто отдыхать умеет каждый. Лег себе после обеда, подремал – вот тебе и отдых. Или прогулялся по улице, или в музей сходил. Нет, товарищи, наша задача повернуть это дело по-новому, поставив во главу угла веселый, жизнерадостный, познавательно-занимательный пикник… скажем, на тему о спутниках, о Луне… А для этого, товарищи, надо провести следующие мероприятия…
Суетилов диктует долго, старательно, по два раза повторяя одну и ту же фразу, и, произнеся наконец-то долгожданные «шуруй», «вкалывай», «двигай», объявляет совещание законченным.
Вынужнев сидит в кресле и вспоминает. Пять накачек! Очевидно, скоро предстоит шестая, седьмая, восьмая. И вот что обидно: дела, о которых идет речь на этих накачках, хороши и полезны, но как только прикоснется к ним Суетилов, сразу же тускнеют, теряют смысл.
Хорошо бы, черт возьми, пожить без Суетилова! Хорошо бы! Хорошо бы поработать без дерганья, без напрасной трепки нервов и не слышать надоевших, плоских, как ладонь, суетиловских изречений!
От одной этой мысли становится сразу как-то легче на душе.
Вынужнев быстро встает с места, чтобы пойти в цех, и вдруг вздрагивает от внезапно раздавшегося голоса:
– Вас к телефону… Суетилов… По срочному делу.
– Скажите, что нет меня! В цех ушел! Делом настоящим заниматься!
Леонид Ленч
НОВОСЕЛЬЕ
Полевой дорожкой, ведущей от станции к дачному поселку, теплым августовским вечером шли трое: художник-пейзажист Граев, его жена Ксана и их друг – композитор Алмазов.
Ксана, миниатюрная, очень хорошенькая блондинка со вздернутым носиком, шла одна впереди мужчин.
Граев, высокий, представительный блондин, и тучный, бритый, с выражением непроходящей обиды на одутловатом бабьем лице Алмазов шатали позади и тихо разговаривали.
Говорили они о Балкине Юрии Петровиче, их общем знакомом, построившем себе дачку в здешних благословенных местах. Граев и Алмазов были приглашены к нему на новоселье.
– Странный он все-таки человек, этот Балкин, – задумчиво говорил Граев, широко размахивая тростью. – Давно его знаю, а понять до конца не могу.
– Любопытный тип, – лениво отозвался Алмазов. – Но энергичный, черт! Мотор, а не человек!
– Да, но на что направлена его энергия?
– Что ты имеешь в виду?
Граев ловко сшиб тростью липучую головку с придорожного репейника, подумал и сказал:
– Вот я – художник, ты – композитор, оба мы люди обеспеченные, хорошо зарабатывающие. Государство, народ ценят творческий труд высоко, и в меру нашего труда мы получаем, так сказать, свой кошт. Правильно?
Алмазов кивнул головой.
– Балкин – не творческий работник, не изобретатель, не лауреат, не летчик-испытатель, – продолжал Граев, распаляясь с каждым словом, – не министр, наконец, черт возьми! Но он живет так, как нам с тобой и не снилось!
Шедшая впереди Ксана вдруг остановилась, обернулась и сказала сердито:
– Хватит вам сплетничать! Юрий Петрович – прелесть. Что его ни попросишь – всегда все сделает.
– Да, он всегда идет навстречу, – сказал Алмазов. – Мне он, помню, помог с путевкой. Обязательный человек.
– И обязательный, и обаятельный! – с той же горячностью прибавила Ксана. – У меня мамочка заболела – он ее к гомеопату устроил. Не понимаю, Лешка, чего ты на него взъелся?
Граев, слушавший жену с добродушно-покровительственной улыбкой, с какой обычно взрослые люди слушают детей, сразу стал серьезным.
– Да поймите вы оба, – сказал, он, нахмурившись, – что эти обязательность и обаятельность – маска, защитная реакция, мимикрия. Если хотите знать, то в глубине души я убежден, что наш милейший Юрий Петрович – вор!
– А если не прямой вор, – поправился он, заметив протестующее движение Ксаны, – то рвач, ловкий комбинатор, вообще нечистоплотный человек, разными способами надувающий государство. Конечно, он должен быть обаятельным и обязательным, должен приспособляться к среде. Как рыбы на больших глубинах – они тоже становятся плоскими, приспосабливаются к давлению. У тебя мамочка заболела – он помог, ты в восторге; тебе путевку устроил – ты доволен. «Ах, какой милый человек!» – говорите вы оба. А ему, милому человеку, это на руку. Ему воровать удобнее под гул ваших комплиментов!
– Бог знает, что ты говоришь! – с сердцем сказала Ксана.
– Нет, матушка, я правильно говорю, – продолжал Граев. – До сих пор у нас не вывелись этакие «веселые воры». Посмотришь на такого – обаятельный мужчина, все им восторгаются. А у него – совесть, как голенище, и рыло в пуху. По-моему, наш Балкин такой же «веселый вор», только выпуска тысяча девятьсот пятидесятого года.
– Вернее, посадки пятидесятого года, а не выпуска, – засмеялся Алмазов.
– Правильно, – усмехнулся Граев. – Конечно, рано или поздно он загремит, как горный обвал. Можно втереть очки таким простачкам, как Ксана, как ты, как я в конце концов, но коллективу, своей партийной организации долго втирать очки невозможно. И в этом наша сила! И вот, когда милейший Юрий Петрович Балкин загремит, нам будет стыдно. Ой, как нам будет, братцы, стыдно! Будем глаза от людей прятать и лепетать: «Мы всегда подозревали, что он нечист на руку!» Подозревали… а сами к нему в гости ходили!..
– Вася, велите ему замолчать! – возмущенно сказала Ксана, обращаясь к Алмазову. – Нельзя же обвинять человека бог знает в чем и без всяких доказательств!
– А дачка? – прищурился Граев.
– Что дачка?
– На какие средства он построил себе эту дачку, позвольте узнать? На зарплату? Но она у него не такая высокая, чтобы можно было на нее построить дачку.
– Может быть, он выиграл по займу? – сказал Алмазов.
– Может быть! Охотно допускаю. Но пусть он нам прямо об этом скажет: «Я выиграл по займу и на эти деньги построил себе дачу». Или: «Я получил премию». Или: «У меня старая тетка померла, и я у нее под матрацем нашел бриллианты». Как угодно, но пусть объяснит!
– А ты спросишь?
– Спрошу! – сказал Граев. – Выпью – и спрошу.
– Этак и я: выпью – и спрошу! Ты трезвым спроси. Пари, что не спросишь!
Граев подумал и твердо сказал:
– Проиграешь, Васька, – спрошу!
Ксана быстро повернулась и пошла по направлению к станции.
– Куда вы, Ксаночка? – крикнул Алмазов.
– Домой, – плачущим голосом сказала молодая женщина. – Я в гости не за тем ехала, чтобы скандалы устраивать.
Алмазов подошел к Ксане и взял ее под руку.
– Бросьте! – сказал он ей тихо. – Что вы, Лешку не знаете? Ничего он не спросит. Выпьет рюмку – и все забудет… Идемте!
…Дачка у Балкина была хороша: с мезонином, с двумя верандами, светло-желтого, как сливочное масло, цвета. От нее крепко и приятно пахло свежим деревом. На участке, полого спускавшемся в неглубокий овраг, росли веселые тоненькие березки и могучие, высокие – до самого неба – сосны.
Граевы и Алмазов поднялись на веранду и поздоровались с хозяевами. Балкин, полный, сизощекий, с тяжелой нижней челюстью, цветущий, как пион, мужчина, очень выигрывал рядом со своей анемичной, невыразительной женой, которую он вследствие ее удручающей худобы называл не «моя половина», а «моя четвертинка».
– Ну как вам понравилась моя латифундия? – спросил Балкин, сияя.
– Прелестно! – сказала Ксана. – Узнаю ваш вкус, Юрий Петрович.
– Хороша! – солидно заметил Алмазов. Граев промолчал.
– Достану хороших белил, – сказал Балкин, самозабвенно закатывая глаза, – покрашу ее в белый цвет, и будет она у меня, матушка, как лебедь!.. Впрочем, ладно, потом все вам покажу, вплоть до удобств, а сейчас знакомьтесь – и за стол!
Он сделал широкий жест, показывая на сидящих за столом.
– Мои соседи по даче. И вообще добрые знакомые. Профессор Константинов (он подчеркнул слово «профессор», кивнув на осанистого седовласого старца в белом костюме). Ну, с Нестором Васильевичем вы, по-моему, знакомы. (Граев увидал за столом знакомого актера-комика и улыбнулся ему). В общем – разберетесь!
– А это, – продолжал Балкин, сияя, – художник Граев – еще не лауреат, но, наверное, скоро будет им, – его жена-красавица и ихний друг, наш, так сказать, баян, товарищ Алмазов. А ну, давайте потеснимся, пусть они сядут. И… «начнем, пожалуй», как сказано у Чайковского.
Гремя стульями, гости подвинулись. Вновь прибывшие уселись за стол. Радушный хозяин схватил бутылку с коньяком и вонзил пробочник в пробку. Лицо его от напряжения стало совсем сизым. Лоснящийся, довольный, сытый, он показался Граеву в эту минуту таким противным, что художник решил не сдерживать больше того озорного бешенства, которое охватило его сразу, как только он увидел балкинскую «латифундию». Граев посмотрел на сидящего напротив Алмазова, уже успевшего поддеть на вилку кусок копченой рыбы, откашлялся, словно перед выступлением на собрании, и, не обращая внимания на щипки, которыми награждала его под столом Ксана, громко сказал:
– Прежде чем начинать, Юрий Петрович, я бы хотел задать вам один вопрос.
Продолжая ввинчивать пробочник в пробку, Балкин бодро откликнулся:
– Задавайте, задавайте, Алексей Ильин! Я вас знаю, сейчас что-нибудь отчубучите!.. Шутник!..
– На какие средства вы построила дачку, Юрий Петрович? – тем же громким голосом задал свой вопрос Граев.
Пробочник застыл в руке Балкина. За столом наступила неприятная, напряженная тишина.
– В каком смысле? – наконец, выдавил из себя Балкин.
– В самом прямом, – повторил Граев. – Я спрашиваю: на какие средства вы построили свою «латифундию», Юрий Петрович? По-моему, вопрос очень легкий.
Балкин пожал плечами и потянул пробку. Она аппетитно щелкнула.
– Откладывал по десятке! – сказал он, глупо хохотнув.
Ах, как хотелось ему, чтобы сидящие за столом поддержали его шутку, замяли бестактность этого грубияна художника, утопили в вине его безжалостный, отвратительный, такой простой и такой страшно сложный для него, для Балкина, вопрос. Но сидевшие за столом молчали, рассматривая скатерть, тарелки, бокалы, делая все, чтобы не встретиться глазами с бегающим взглядам потного, как загнанная мышь, хозяина «латифундии».
Граев резко поднялся из-за стола.
– Ваш ответ меня не удовлетворяет, Юрий Петрович! – сказал он, сам поражаясь своей выдержке. – Идем, Ксана! Василий, ты останешься?
Композитор с некоторым сожалением посмотрел на стол, ломящийся от яств и питий, но встал и сказал, густо краснея:
– Иду, конечно! Действительно, Юрий Петрович, странно все как-то, ей-богу!.. Мы, конечно, ничего не имеем против, но надо же объяснить людям… Оксана Павловна, ваш зонтик у меня!
– Позвольте! – закричал Балкин. – Не уходите! Сейчас все выясним, договоримся!.. Маруся, куда ты смотришь?
Но было уже поздно: Граев и Алмазов быстро спускались вниз по ступенькам веранды.
…До самой станции они шли молча. Граев широко шагал впереди, что-то насвистывая и резко махая палкой. Алмазов вел под руку хмурую Ксану. Изредка он тяжело вздыхал.
До поезда оставалось сорок пять минут. Композитор взглянул на буфетную стойку, уставленную бутылками и блюдами с закуской, и сделал несчастное лицо.
– От какого ужина ушли! – сказал он жалобно. – Давайте хоть здесь выпьем и закусим.
Они уселись за столик, и только сделали заказ, как вдруг в дверях станционного буфета появился Нестор Васильевич, тот самый знакомый актер-комик, которого Граев успел заметить за балкинским столом.
– И ты, Брут! – сказал Граев. – Присаживайтесь, Нестор Васильевич. У нас здесь свое новоселье!
Актер присел к столу, снял шляпу и обмахнул ею потное лицо.
– После вас все разбежались, – сказал он, усмехаясь, – под разными предлогами. И никто ни к чему не притронулся. Первым профессор этот дал ходу. Извините, говорит, голова что-то разболелась. За ним – доктор Волков, потом другие. Юрий Петрович перестал даже упрашивать остаться. Сидит и молча коньяк хлещет. А его супруга только за голову хватается и стонет: «У меня одних салатов пять сортов остается. Что я с ними буду делать?!»
– А вы как ушли? – спросил актера Алмазов.
– Сказал, что на концерт нужно. Совсем, мол, забыл про концерт. Шапку в охапку – и рысью!.. Я, ей-богу, не хотел к нему ехать. Темноватый он человек. Но ведь липучий, черт, и настойчивый!.. Не хочешь, а едешь. Хорошо, что вы его в упор своим вопросом резанули! Я, уходя, палку забыл. Вернулся с полдороги – жалко стало. Зашел на участок. Они меня не видят. Я стал за дерево, слушаю. Юрий Петрович сидит совсем уже «еле можаху», а его «четвертинка» стоит над ним и, как полагается, пилит: «Говорила тебе, старому идиоту, позови только своих – Наума Сергеевича и Жоржика. Не слушался – вот и получай!» А он мычит в ответ: «Дура, мне общество нужно, а не жоржики. Зови хоть сторожа, пусть лопает!» А она: «Звала, не идет!» Комедия!.. Я не стал палку брать, так ушел, на цыпочках.
Граев разлил вино по бокалам, поднял свой.
– Вот и давайте выпьем за наше общество! – сказал он серьезно. – За то, чтобы не проникали к нам такие, как этот Балкин, мой и, надеюсь, наш общий – бывший знакомый! Ксаночка, ты согласна со мной?
Ксана вспыхнула, потупилась, подняла свой бокал и чокнулась с мужем.

Рисунок Е. Щеглова
СО СВОИМ БАГАЖОМ

Рисунок Е. Щеглова
ЛЕЖАЧЕГО НЕ БЬЮТ!
М. Локтюхов
ИВАН КУЗЬМИЧ ЗАНЕМОГ…
День начался.
В просторный кабинет Ивана Кузьмича вошел начальник планового отдела и, осторожно коснувшись кончиками пальцев края стола, печальным голосом доложил, что план полугодия выполнен всего-навсего на семьдесят три процента.
Иван Кузьмич, человек богатырского телосложения, как-то странно посмотрел ему в правое ухо, схватился руками за сердце и безмолвно поник в мягком кресле.
В этот день в приемной Ивана Кузьмича было тихо. Курьеры и машинистки ходили на цыпочках.
Каждому, кто переступал порог приемной, секретарша, как гусыня, шипела навстречу:
– Тише, ради бога! Занемог Иван Кузьмич… – и таинственно прикладывала палец к губам.
Иван Кузьмич уехал с работы раньше обычного. Он вышел из кабинета озабоченный и усталый. От всей его фигуры веяло подавленностью и скорбью.
На другой день на службу позвонила жена Ивана Кузьмича и сообщила, что у него повысилось кровяное давление.
– Подумайте только! – с ужасом говорила секретарша. – У Ивана Кузьмича повысилось давление!
– А кто ему нагнал? – спрашивали сотрудники.
– Нагнали! У нас кому хочешь нагонят! – говорила рыжеволосая секретарша и закатывала вверх белесые глаза с накрашенными ресницами.
Через месяц, выдержав предписанный врачами постельный режим, Иван Кузьмич уехал в санаторий. Чтобы успокоить свои, как он говорил, расшатавшиеся нервы, Иван Кузьмич целыми днями удил рыбу. Забравшись в тенистый уголок на берегу речушки, он усаживался на корягу, спускал ноги в живительную прохладу воды, насаживал червячка на крючок удочки и, поплевав на него, бросал в воду. Потом подолгу смотрел, как по речной глади медленно расходятся водяные круги.
Вечерами, прогуливаясь по тенистым аллеям парка и вдыхая вечернюю свежесть, Иван Кузьмич набирался сил. Раз в неделю звонил своему заместителю и как бы невзначай спрашивал:
– Ну, а как там с планом?
И когда узнал, что дела наконец улучшились и план будет выполнен, зашел к главному врачу санатория и заявил, что он не может и не хочет оставаться здесь, когда там решается судьба государственного плана.
Иван Кузьмич прервал отпуск и неожиданно вернулся на службу.
Сотрудники с тревогой спрашивали:
– А как здоровье Ивана Кузьмича?
– Слава богу, поправляется, – важно говорила секретарша и, круто повернувшись, исчезала в кабинете.
Между тем Иван Кузьмич не торопясь приступил к делу. Он долго и обстоятельно беседовал со своим заместителем.
– Я здесь один совсем замотался, – рассказывал заместитель. – Совещания, заседания, напряженное положение с планом. Вертелся как белка в колесе.
– Ну, ничего, ничего, – говорил Иван Кузьмич. – Труд строителей никогда не был легким.
Было чудесное время года – лето. Золотая пора для строителей. Дела шли день ото дня лучше. Иван Кузьмич был доволен. В газете появилось сообщение, что возглавляемые им организации успешно выполняют план. Он посещал стройки, дружески беседовал с рабочими, но никогда не подымался выше второго этажа. Когда его приглашали на третий или четвертый этаж, делал скорбное лицо, прикладывал ладонь к сердцу и тихо говорил:
– Не могу, братцы. Сердце.
Зато заседания и совещания Иван Кузьмич посещал охотно. При удобном случае говорил об успехах своего коллектива, но делал это всегда осторожно, скромно, потупив голову. Если его спрашивали, как коллектив добился хороших результатов, тихо и поучительно произносил:
– Трудиться надо, товарищи, трудиться!
Но вот наступила осень. Дожди, слякоть, холода мешали строителям, и подведомственные Ивану Кузьмичу тресты резко сдали темпы.
Иван Кузьмич нервничал, кричал на совещаниях, а когда почувствовал, что план будет сорван, снова занемог. Произошло это почти так же, как и в первый раз. Утром к нему зашел начальник планового отдела и сообщил, что план девяти месяцев выполнен на восемьдесят два процента, что социалистические обязательства находятся под угрозой срыва. Иван Кузьмич промычал что-то непонятное, злобно посмотрел на начальника планового отдела и сжал ладонями голову.
На этот раз его положили в больницу.
– Черт ее знает, – говорил он доктору, – колет что-то в затылке.
– Странная болезнь у нашего начальника, – шутили сотрудники. – План – вниз, давление – вверх.
Две недели лежал Иван Кузьмич в палате и, глядя на больных, с тревогой думал, что когда-нибудь и он тоже заболеет и, чего доброго, помрет.
Из больницы Ивана Кузьмича отправили в санаторий.
Он ходил по аллеям парка сгорбленный, печальный и подолгу смотрел на скованную стужей землю. К Ивану Кузьмичу приезжали сотрудники и спрашивали с тревогой:
– Как здоровье, Иван Кузьмич?
– Плохо! Очень плохо! – тихо, как и полагается больному человеку, отвечал он.
На службе стали поговаривать:
– Плох наш Иван Кузьмич. Чего доброго, помрет!
И действительно, вид у него был больной, ходил он, медленно передвигая ноги. Казалось, толкни человека – упадет и не встанет.
Проявляя заботу о здоровье Ивана Кузьмича, к нему в санаторий приехал вышестоящий начальник.
– Ну, как дела? – спросил он бодро, чтобы поднять настроение у Ивана Кузьмича.
– Плохо! Очень плохо! – ответил Иван Кузьмич. – На такой работе при моем здоровье меня хватит на полгода. Хорошо бы подобрать что-нибудь полегче, поспокойнее.
– Это можно, – обнадеживающе говорил гость…
Между тем Иван Кузьмич нет-нет да и позвонит заместителю.
– Ну, как там наши дела? Как с планом? Но вести оставались неутешительными…
И вдруг случилось неожиданное.
– Помогли нам, Иван Кузьмич, – слегка заикаясь от волнения, кричал в телефонную трубку заместитель. – Крепко помогли. Да и сами мы прилично поработали, так что, думаю, годовой план обеспечим. Может быть, даже досрочно.
За несколько дней до конца года, прервав лечение, Иван Кузьмич вернулся на службу. Вошел в кабинет, сел за стол, нажал кнопку звонка и внушительно сказал замершей в дверях секретарше:
– Позовите начальника планового отдела с материалами о досрочном выполнении годовой программы. Надо немедленно послать рапорт начальству.
Но… обеспокоенное состоянием его здоровья, чуткое начальство уже приняло решение о переводе Ивана Кузьмича на другую, менее ответственную и более спокойную работу.
На этот раз Иван Кузьмич занемог всерьез.








