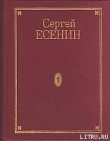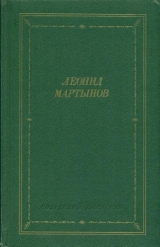
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Леонид Мартынов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
Рассвет{36}
Нелюдимая моя,
Ты любимая моя!
Старый город весь порос травою,
Укрепление береговое
Точно так же поросло травою.
Мы по городу ходили двое
В этот вечер – только ты да я.
Город стар,
Город сед,
Городу тысяча сто сорок лет.
Нелюдимая моя,
Ты любимая моя!
Я домой тебя повел.
Вдруг откуда-то пахнуло гарью смол,
Медным медом азиатских пчел,
Теплотой нагревшихся песков,
Пламенем восточных угольков.
Духота перед дождем.
Я сказал: "Домой пойдем!
Нелюдимая моя,
Ты любимая моя!"
Ночь тиха. Весь город под дождем.
Я проснулся. Сырость входит в дом.
Нелюдимая моя,
Ты любимая моя!
Ты лежишь спокойно, ровно дышишь,
Ничего не видишь и не слышишь.
Я лежу, за тучами слежу,
Я в окно открытое гляжу.
Город стар,
Город сед,
Городу тысяча сто сорок лет.
Дом стар,
Стар забор,
Стар бульвар.
Стар собор,
Стар за городом бор.
Я лежу, за тучами слежу,
Вот на город взор перевожу.
Что такое там алеет,
Тускло искрится и тлеет?
Неужели это тлеет покосившийся забор?
Тлеют дом и забор,
Тлеет старый собор…
Неужели это уголек,
Зароненный где-то в уголок,
Прилетевший с ветром уголек
Превратился в огонек?
Дождь, а город тлеет изнутри,
Розовеет, вспыхнет весь вот-вот.
Отраженным светом фонари
Загорелись всюду у ворот.
Алым дымом полон влажный сад,
Петухи повсюду голосят.
Где-то ведер зазвенела жесть,
Старый дворник к речке побежал.
В колокол ударили раз шесть,
Водовозов конь заржал.
Нелюдимая моя,
Ты любимая моя!
Город стар,
Город сед.
Мне над этим городом рассвет
Показался как пожар!
1933
Вологда{37}
На заре розовела от холода
Крутобокая белая Вологда.
Гулом колокола веселого
Уверяла белая Вологда:
Сладок запах ржаных краюх!
Сладок запах ржаных краюх,
Точно ягодным соком полных.
И у севера есть свой юг —
Стережет границу подсолнух.
Я согласен, белая Вологда.
Здесь ни холода и ни голода,
И не зря в твой северный терем
Приезжал тосковать лютым зверем
Грозный царь, и на белые стены
Восходил он оплакать измены.
Но отсюдова в град свой стольный
Возвращался он, смирный, довольный,
Вспоминая твой звон колокольный…
Сладок запах ржаных краюх!
И не зря по твоим берегам,
Там, где кремль громоздится в тумане,
Брел татарский царек Алагам
[27]
,
Отказавшийся от Казани…
Вот и я повторяю вслух:
Сладок запах ржаных краюх!
Кто здесь только не побывал!
По крутым пригоркам тропа вела.
Если кто не убит наповал,—
Всех ты, мягкая, на ноги ставила.
То-то, Вологда!
Смейся, как смолода!
Тело колокола не расколото.
Синеглазый лен,
Зерен золото.
И пахала ты,
И боронила ты,
И хвалила ты,
И бранила ты…
Сколько жизней захоронила ты,
Сколько жизней и сохранила ты —
Много зерен здесь перемолото.
Так-то, Вологда,
Белая Вологда!
1933
Деревья{38}
"Как ваше здоровье,– спросил я,– деревья?"
Деревья молчали вначале.
Скучали? Презреньем встречали?
Едва ли.
Они тосковали.
Вдруг скрипнула ива:
«Здорова!»
И сосны ворчливо:
«Мы живы!»
И тут зашумели и справа и слева
Деревья, качаясь от скорби и гнева:
«Твои непонятны нам мысли!»
– "Скажи откровенно, в каком это смысле
Ты задал вопрос?"
– «Расскажи нам про это!»
– «Здоровы ль? Какого ты хочешь ответа?»
– «Ты хочешь рубить? Но кому мы помеха?»
– «Есть люди, которым рубить нас – потеха!»
– "Иные же древообделочным цехом
Считают весь мир. Но имеют ли право?"
– «Стыдись! Незаконная это расправа!» —
Вскричала крушина, гнила и корява.
Но этой старухе ответил со смехом:
"Ты мхом и грибком обросла, точно мехом,
И вовсе ты зря беспокоишься, право!
Спокойно земные посасывай соки,
О древнее, ветхое, сонное древо!
Твое червоточиной тронуто чрево.
Есть более молоды, стройны, высоки
Деревья!"
И те, что молчали вначале,
Теперь закричали в припадке печали:
– «Как нас величали!»
– «Под нами венчали!»
– «Венчали венцами!»
– «Любили сердцами!»
– "Ах, вам не удастся в древесную массу
Нас всех превратить!"
И от скорби затрясся
Весь лес. И еловые лапы хлестали.
Как белые осы, пушинки летали…
Восстали!
Восстали деревья!
Но крикнул тогда я:
"Вас всех обманула старуха седая!
Ее червоточиной тронуто чрево.
Послушай, береза, о белая дева,
Сосна, что гордишься своей прямотою,
Осина, обиженная клеветою,—
Послушайте все вы! Дика ваша злоба.
Вы наши друзья с колыбели до гроба,
От люльки друзья, чье качанье нам любо
В еловом тепле пятистенного сруба,
До гроба, что ждет нас, сколоченный грубо.
Венцы, на которые ставится зданье.
Венки на гуляньях и веники в бане.
Кресты, что стоят на глухих перекрестках,—
Зеленая плесень осела на досках.
Язычник из дерева идола тешет,
Коньком деревянным дитя себя тешит.
Повсюду ты, дерево! В дружбе ты с нами.
Ты, нас согревая, бросаешься в пламя,
Ты нас одаряешь своими плодами…
Но разве владеем мы только садами?
В хрустальные вазы поставлены розы,
Но слышите свист – это дикие лозы
В руках у жестокости свищут зловеще.
Всё это весьма непохожие вещи.
Кому же и ведать об этом? Не мне ли?
Вы часто, деревья, в печах пламенели,
Но, вам я сказать без смущенья осмелюсь,
И сам я горел, чтоб другие согрелись!
И я топором был под корень подрублен.
Но не был погублен, я не был погублен!
И сам я летел оперенной стрелою.
Я знаю грядущее, помню былое!"
Сказали деревья:
"Ты должен бояться,
Что люди, прислушавшись, станут смеяться,
Как ласково ты побеседовал с нами,
О ты, одержимый волшебными снами!"
Запели деревья:
"Мы это оценим!
Ты с нами хорош. Мы тебе не изменим.
Мы примем тебя в хоровод шелестящий,
О ты, на деревья с любовью глядящий!"
Так пели деревья, вершины вздымая,
Желанья и мысли мои понимая.
Так пели деревья, ветвями качая,
О чем-то еще рассказать обещая.
1934
В мире сорных трав…{39}
За горизонтом,
В мире сорных трав,
Где блещут солонцовые плешины,
Лежат ничком старинные машины.
Старинные…
Сказавши так, я прав.
Агрикультура знает много тайн.
Таинственен и сложен чрезвычайно
И вовсе не походишь на комбайн
Ты, предок современного комбайна!
Не лошадьми ль толкаемый вперед,
Возник из австралийского ты зноя?
Австралия!
Там всё наоборот!
А вот еще чудовище иное:
Котлы, каких не видывал и ад,—
К их тяжким чревам ржавчина пристала.
Вы не жалели черного металла,
Конструкторы, полсотни лет назад!
И напролом ломилась эта сила,
Как будто паром был он сыт и пьян,
Такой Ойль-Пул
[28]
.
И вот его могила,
И шелестит вокруг него бурьян.
Здесь,
За холмами,
В мире сорных трав,
Где над солончакового плешиной
Крушины ствол возвысился, коряв,—
Стою я перед мертвою машиной
И отхожу, ни слова не сказав.
Но думаю:
"Всегда бывает так!
Еще недавно твердь
[29]
под ним дрожала,
Всё грохотало,
И толпа зевак,
Ликуя, как за чудищем, бежала.
И вот теперь
На грани роковой
Лежит недвижен, ржав, тяжеловесен.
…А иногда
Бывает таковой
Судьба людей,
Идей
И старых песен".
1935
Утешитель{40}
Свободные в суждениях своих,
О многом мы сумели столковаться,
Но и поныне в чувствах кой-каких
Стесняемся друг другу признаваться,
Хотя бы и в интимнейшем кругу.
Вот, например:
Я вам ничуть не лгу
И рисоваться вовсе не намерен,
Но я буквально слышать не могу,
Когда рыдают женщины.
Уверен
И сам бываю:
Всё же это вздор!
Лиха беда! Поплачет – перестанет.
Но не могу те слезы с неких пор переносить
Жестоко это ранит.
Мне в молодости было всё равно.
А вот теперь, когда подходит старость,
Вдова ль заплачет, пьющая вино,—
Я ощущаю и тоску и ярость,
Иль школьница чернильное пятно
В тетрадь посадит и ревет от кляксы,—
Я не могу, хоть самому смешно,
Из-за какой-то волноваться плаксы.
Не верите?
Так я открою вам,
Взялась откуда жалостливость эта.
Не улыбайтесь простоте ответа…
А дело в том, что я когда-то, где-то,
Но женщину заставил плакать сам.
1935
Храм Мельпомены{41}
Это недавно случилось. Вчера. Ночью.
Выводы сделать настала пора. В клочья
Рукопись некую я изорвал ночью.
Так никогда еще не тосковал. В клочья!..
Древность. История. Что-то не то… Что же в итоге?
Я в пиджаке. Я имею пальто. Я же не в тоге.
…Выйди из дома, если не спишь ночью.
Стены. Витрины. Намокших афиш клочья.
Слышишь ты этих лохматых бумаг шорох
На почерневших заборах!
Видишь: их ветром угнало во мрак ворох.
…Прямо не знаю, как я успел. Ровно к началу.
Кто-то, наигрывая, где-то пел, что-то звучало.
Напоминала церковный алтарь сцена.
Храмом твоим назывался встарь, о Мельпомена,
Этот кирпичный уютный чертог. Ладан
Или другой сладковатый дымок, шел от лампад он
Ввысь к куполам по зеркальным полам
Из-за кулис там, где хлам по углам свален
Близ разгороженных пополам исповедален.
Сладкий дымок. Шел меж всяких реклам вдаль он.
Я понимал: где-то – будто гарем. Теплятся свечи.
Что может быть, чем пахучий кольдкрем
[30]
, едче?
Теплятся свечи. Это зачем? Словно папессы
[31]
,
Были актрисы в ризах ротонд, как дьякониссы.
Отпевали провалившуюся пьесу.
Боже, это была одновременная панихида,
Но, в общем, никто не подавал и вида,
Будто и вправду рычал злодей, сердце билось,
Пьеса из жизни добрых людей длилась.
Так кого же отпевали, скажи на милость?
«Пьесу! Я тебе говорю. Я над таинством поднял завесу».
– "Да ну тебя к бесу. Черт тебя знает, что ты говоришь!"
– "Я говорю: ты сегодня не спишь ночью.
Стены, витрины, намокших афиш клочья.
Слышишь ты этих лохматых бумаг шорох?
Так! О чем же еще я хотел тебе рассказать?
Ну, конечно, не о билетерах.
Вот что скажу: в темноте, заглянув в ложу,
Слышу я:
– "Что же «Мистерия-буфф»
[32]
?"
– "Позже…"
– «Позже? Когда же?»
Ты слышишь афиш шорох?
Видишь, их ветром взметнуло до крыш, рвет на заборах?"
– «Нет, я не вижу,– ты молвишь, взглянув.– Честное слово!»
– "Слушай, а правда, что эту «Мистерию-буфф»
Совсем не обязательно воспроизводить из слова в слово
И что ее можно дополнять снова и снова?"
1936
Пленный швед{42}
"В Перми есть пермень
[33]
. В Златоусте есть злато.
И видывал Азию. Глазом солдата
Смотрел я на Азию. Очень богата!
Вот я расскажу, что я видел когда-то:
Послушайте вы, молодые ребята!
Я Карлусу
[34]
храброму не был изменник,—
Нас честно побили. И вот, бедный пленник,
Больной и в лохмотьях, я был и без денег.
Мне в Питере булочник-немец дал пфенниг
[35]
,
Но пфенниг истрачен, я снова без денег".
Царь Петер сказал: "Швед! Вы сделались нищим.
Но вы не печальтесь, вам дело подыщем!"
…Телега гремит. На восток кнутовищем
Ямщик показал: "Там не будешь ты нищим.
Там станешь ты жирный, с тугим животищем!"
И пьян конвоир. И одна с ним беседа:
"Не выпить ли, швед, нам с тобой до обеда?
А хочешь, мы выпьем и после обеда!"
– "О, ваша победа! Не надо обеда!
Пусть смерть угостится останками шведа!"
А лес всё сосновее. Сосны да елки,
Всё сосны да елки, всё сосны да елки!
Зеленые, острые, злые иголки
Прилипли к мундиру, торчат в треуголке.
Вот через Тобол мы плывем на тоболке
[36]
,
И снова качаются дикие елки.
И тут есть Сибирь. На ее косогоре
Я встал и смотрел. Я забыл свое горе.
О, боже! Драконоподобные зори
Стоят над востоком, как будто в дозоре!
Всё ярче, всё жарче. Путь к югу. И вскоре
Сверкнул солончак – пересохшее море.
Меня поразило величье такое.
Но дальше мы мчимся, и нет мне покоя!
И вижу я крепость над мутной рекою,
Из крепости этой над мутной рекою
Выходит начальник и машет рукою.
И мне говорит он: "Помощник мне нужен!
Коль станете, швед, вы мне искренне дружен,
То будет подарок богатый заслужен —
Я вам подарю пресноводных жемчужин!"
И я говорю: «Я вам искренне дружен!»
И он отвечает: «Зову вас на ужин».
Веселый был ужин. Мы сделались пьяны.
Мы пили и строили многие планы:
"Что Санкт-Петербург нам? Там дождь и туманы!
А в нашем владенье восточные страны!"
О том говорили, как сделались пьяны.
И был я как викинг, а он как боярин.
Мы делали вместе обход солеварен.
"Мы сами с усами! И что нам Гагарин
[37]
!
Сей злой губернатор над нами не барин.
Он есть лихоимец, хитер и коварен!"
Но Петр всё знал сам. Мудрый был государь он.
"Вам шумствовать хватит, собакины дети! —
Так Петр нам сказал.– Захотели вы плети?
Гагарин виновен. Он будет в ответе!
А вы отправляйтесь к далекой Эркети
[38]
.
Где золото есть, там на карте отметьте,
Чтоб стали нам ведомы россыпи эти!"
И вот я в Сибири не стал домоседом.
За русским начальником двигался следом,
Служил и способствовал новым победам,
Победам петровским над турком, над шведом.
Не даром Россия кормила обедом!
И вот – год за годом, поход за походом —
Со славным сдружился я русским народом.
Он мирный народ, но привычен к походам.
Острастку и нашим он дал воеводам.
Царь Петер! Великим ты правил народом!
Когда же ордою Цевана Роптана
[39]
Мы были обложены возле кургана,
Нам гибель грозила. Но помощь нежданно
Пришла от Петра. Мы прогнали Роптана!
В сражении этом получена рана,
А также заслужен и чин капитана.
Я рапорт писал! Я за всё благодарен —
За чин и за дом, что казною подарен.
Я жив, а казнен лихоимец Гагарин.
Женат я на русской. Мой сын русский парень.
Я есть православный. Я веником парен!
О, Петр дал мне всё. Мудрый был государь он!"
1936
Гиперборея{43}
Ты детских не ценил воспоминаний…
Верней, ты не хранил воспоминаний.
Забыл ты дом из ноздреватых бревен.
Огромный дом, в котором пол неровен,—
Одно из тех старинных крепких зданий,
Построенных когда-то в упованье,
Что простоят до светопреставленья…
Теперь они пришли, воспоминанья,
И мы припоминаем в изумленье
Чудесный город, где орнамент ставен
Напоминает по рисунку плавень
[40]
,
А иногда осенний серый ливень,
А иногда и мамонтовый бивень,
И черепа таинственных животных,
Еще ужасных, но уже бесплотных.
Таких рисунков много-много сотен
На дереве ворот и подворотен,
На окнах, на карнизах, на заборах,
На тех домах, и нет уже которых.
Есть гавань у границ Гипербореи —
Забытый порт, где парусников реи,
Одетые тяжелыми холстами,
Среди тумана кажутся крестами,
А иногда грозящими перстами.
Но посмотри: из древней снежной пены
Вдруг выглянули радиоантенны.
И озарило голубое пламя
Кают и рубок стынущие стены.
Нырните в воду, ледяные змеи!
Раздвинься ты, завеса снеговая,
Врата златокипящей Мангазеи
[41]
Передо мной и вами открывая!
1938
Нюренбергский портной{44}
1
Сама Зима с улыбкой колдовской,—
У щек румяных ледяные серьги,—
Глядит в окно портновской мастерской…
Сама Зима с улыбкой колдовской
Глядит в окно портновской мастерской:
"Проснись, портной! Ты лучший в Нюренберге!
Готовь, портной, готовь свою иглу! Заказчики уж близко – на углу.
Готовь, портной, готовь иглу скорей! Заказчики всё ближе – у дверей".
2
"О дамы, в меховое влюблены, получите вы здесь, под этой крышей,—
Воззвал портной,– наряд любой цены, от самой низшей и до самой высшей!
О господа! Взгляните вы в окно. В витрине полюбуйтесь на образчик.
Есть коверкот, английское сукно, лионский бархат…"
Вот он и заказчик!
Своей нетерпеливою рукой рванул он дверь портновской мастерской.
Как видно, суетливый человек.
Ведет он даму.
Острый колкий снег
Ее наряд осенний серебрит.
"Послушайте,– заказчик говорит,– ведь в Нюренберге лучший вы портной.
Я справки наводил – вы не еврей!
Вот этой даме, что пришла со мной,
Прошу я изготовить поскорей
Все для зимы. Зима же у дверей!
Прошу я изготовить поскорей
Всё для зимы.
А меховые крылья торчком вы укрепите на спине,
Чтоб крыльями без всякого усилья
Махала дама!"
– Непонятно мне,– портной ответил,– что это за крылья?"
– "Валькирии, Валькирии наряд!
Подол покрыт пороховою пылью.
Она летит. Внизу дома горят.
Такой костюм придумайте, портной, чтоб, распахнув, пахнула бы войной.
Так шейте! Постарайтесь, дорогой. Наряд такой у нас в Берлине в моде.
Но надо ей еще костюм другой – он в будничном ей нужен обиходе,—
Такой фасон: чтоб стала вся зверьком,
Застежечка кошачьим коготком,
Рукав такой, чтоб жал под локотком,
Тут ни к чему, скажу я, ширина – прекрасен дамский локоть, крепко сжатый,
Чтоб охала да помнила она, что есть у ней суровый провожатый!
Понятно это?
Воротник зверьком, чтоб в горло ей впивался коготком,
Чтоб падать ниц и чтоб ползти ползком".
Тут дама шепчет:
«Мастер, стыдно мне! Я не могу ходить в таком наряде».
– «Я, фрау, понимаю вас вполне»,– портной ответил, на нее не глядя.
А господин:
"И мне костюм сошьешь. Хотелось бы иметь мне макинтош
Из настоящих человечьих кож. Что? Не найдешь? Захочешь, так найдешь.
Ну ладно! Шей из обезьяньих кож.
Но человечьей кожи хоть клочок найди, чтоб вышить свастики значок,
Да жилами людскими это сшей. Таков закон окопов и траншей!"
– «Вы шутите?»
– "О нет! Я не шучу!
И я тебя предупредить хочу, что в этот год немало новых мод
У нас в Берлине входит в обиход.
Вот, например, из моды вышел газ. Заменит газ теперь противогаз.
Я это видел. Элегантно очень".
Заказчик, тороплив и озабочен,
В полночный час покинул ателье.
3
Зима влачила шлейф свой по земле.
Портной сидел, склонившись в полумгле, весь тканями обложен и мехами.
Он начал шить, и на его игле свечи полночной трепетало пламя.
Он повторял: "Из моды вышел газ? Заменит газ теперь противогаз!
Ну, что ж тут скажешь? Элегантно очень.
А галстук будет на манер бинта, как будто марля кровью залита
И в желтом гное краешек намочен".
Он повторял: "Вы бредите войной, берлинские вояки-забияки.
Запросите фасон кроить иной, когда в больничном скорчитесь бараке,
Запросите фасон кроить другой, когда с одной останетесь ногой!"
И зло захохотал он в полумраке.
1938
Наяды{45}
Ты видел этот новый дом,
В своем величье молодом
Имеющий с дворцами сходство?
Ты знаешь: это – Пароходство.
Оттуда в сумраке седом
Шесть дев выходят на крыльцо.
Они не на одно лицо —
У каждой признаки свои:
Вот дева в шапочке бобровой.
Вторая – с тростью камышовой.
В плащ цвета рыбьей чешуи
Одета третья, как матрос.
Четвертая из чайных роз
Венок сияющий сплела.
А пятая с крылом орла
Идет, как будто улетая.
Атмас наречена шестая…
Ты это имя повторишь?
Что было б, если бы Иртыш
Вдруг схлынул?
Мы нашли на дне бы
Кусок эбенового неба
С чешуйчатых джунгарских крыш
[42]
,
Пищали обгоревший пыж,
Древнейшие обломки лыж,
На коих лыжники из Тары
[43]
Ходили в черные татары…
[44]
Ну, что ты на меня глядишь?
Все эти вещи слишком стары!
Что? Колчаковский саквояж?
Бинокль бы цейсовской работы
[45]
?
Гранаты? Ружья? Пулеметы?
Забытый Бремом
[46]
патронташ?
Всё можно! Почему б и нет.
Так ты и начинай путину.
А я? И пальцем я не двину.
А почему? Я дам ответ:
Не в этом суть!
Не арсенал, не зал музея —
Дно речное.
Я не об этом вспоминал,—
Я думал вовсе про иное.
Про что?
Их – шесть. Судьба – одна.
Шесть рек исчезли.
Имена?
Я перечислю:
Камышловка,
Чаир,
Орловка,
Окуневка,
Бобровка
И еще одна – Атмас
[47]
!
В былые времена
Те полноводные потоки
Шумели в таволге
[48]
, в осоке…
Где эти реки?
Вся страна
Пила их воду золотую
Тогда, в былые времена,
Когда в леса, в листву густую
Слетались птицы на пиры
И для любви и для игры,
И обитали здесь бобры.
Бобры! Взгляни на степь пустую.
Ничто не вечно. И – миры!
Шесть рек!
Леса!
Бобры!
Орлы!
Уснувшие навеки рыбы!
Я спрашиваю: вы могли бы
Возникнуть вновь из темной мглы?
Ты слышишь их ответ:
«Мы здесь!»
Ты говоришь мне:
«О, не грезь!»
Шесть дев выходят на крыльцо
Дворца речного пароходства,
И все не на одно лицо,
Но в этих лицах есть же сходство,
Ведь есть же сходство! Всё же есть.
Ведь их же шесть! Ты видишь: шесть.
Вглядись, слепой ты человек,
В их небывалые наряды!
Ведь эти девы – души рек,
Иначе говоря – наяды!
Ты повторяешь:
"О, не грезь!
Ведь это ж просто шесть притворщиц,—
Ну, шесть конторщиц, шесть уборщиц,
Шесть девушек, что служат здесь!"
Пусть это было б даже так…
Огонь трамвайных вспышек зелен.
Наяды ринулись во мрак.
Мир грез, конечно, беспределен.
Автомобильные огни,
Небес грозовая завеса…
А может, все-таки они
Воскреснут меж степей и леса?
О да! Затем и встал вот здесь
Колосс речного пароходства,
Имеющий с дворцами сходство,
Гранитом облицован весь!
Ведь есть же в мире Человек,
Который понял душу рек,
Найдет утерянный родник
И даст свободу этим водам!
А ты решил, что дом возник
В угоду только пароходам?
Нет! Это так, но и не так.
Огонь трамвайных вспышек зелен.
По Иртышу плывет рыбак.
За Иртышом горит маяк.
Наяды, лодки, якорь, мрак…
Мир грез высок и беспределен!
1939
«Вот лес…»{46}
Вот лес.
Он был густ.
Ловил ты птиц в сетку,
Ветвей любил хруст.
И ты нашел куст!
И, выбравши ветку,
Не вырезал хлыст
И сделал не клетку,
А, внемля рассудку,
Ты выдолбил дудку…
Вот лист.
Он был чист.
Тут всё было пусто.
Он станет холмист,
Скалист и ветвист
От грубого чувства.
И это – искусство!
Мое это право!
Я строю свою
Державу,
Где заново всё создаю!
1939
«В промежутках…»{47}
В промежутках
Между штормами
Воды кажутся покорными.
В промежутках
Между войнами
Очень трудно быть спокойными
1939
Муза{48}
Ночь была, мгла легла.
Но, как порох,
Вспыхнул вдруг алый свет в светофорах,
Значит, город, не спишь!
И намокшие клочья афиш
Шевельнулись в ночи на заборах…
Белый свет в светофорах,
Желтый свет в светофорах.
Странный шорох откуда-то с крыш!
Вот он ниже, но скрыла мгла.
Вот он ближе, из-за угла.
Шелестят вымпела?
Или дворницкая метла
Расчищает устало
Мусор в недрах квартала?
Или в сквере качнулась ветла?
Нет! Донесся шелест крыла,
это Муза была. Муза. Летала!
Летала вокруг квартала.
Перед входом в чертог,
У портала,
Вдоль метало ее, поперек…
Трепетала!
Древнегреческий помню язык.
Понимать я его не отвык.
Поскорее
Поднимаю я Музу, веду
В темный сад, потому что в саду, мощно грея,
Озаряя волшебным огнем
Незаметным, невидимым днем – только ночью,
Только ночью, среди темноты,
Существуют такие цветы.
И воочью
Вижу я: да, она! Вся бела. Это – Муза!
За плечами у ней два крыла. Это – Муза!
«Муза! Ждал тебя, Муза, давно. Прилетела?..»
Только вижу – алеет пятно,
Багровеет, синеет пятно…
«Муза, ранена?» – «Да!» – «И давно? Где? В чем дело?»
"Расколовшийся мрамор Афин,
Брызги крови до горных вершин,
Клочья мяса…"
Муза! Ты это говоришь,
Или слышится шелест афиш:
«Оборона Парнаса!», «Оборона Парнаса!».
Из Эллады, с парнасских вершин,
Из немецкого плена,
Где от слез поднялась на аршин Иппокрена
[49]
,
Прилетела ты к нам, Мельпомена!
"Черт возьми!
У парнасских вершин
Шваб потребовал пива графин.
Но не впрок.
Даже пена
Издает запах тлена!" —
Так мне крикнула Муза.
С крыла
Кровь извилистой струйкой текла, запекалась.
"На Парнасе вчера я была.
До последнего срока была
И сражалась!
У убитых винтовки брала и сражалась!
И Борей меня вынес, суров,
Там из пламени книжных костров.
Вы мне рады?"
– "Да, мы рады!
Здесь, у гиперборейских снегов,
Ты защиту найдешь от врагов,
Дочь Эллады!"
1936, 1941
Дым отечества{49}
Ты знаешь пословицу: мы говорим,
Что сладок бывает отечества дым…
[50]
Я дым этот сладкий вдыхал наяву.
Послушай! Когда ты вернешься в Москву,
Немедленно в Кунцеве
[51]
побывай,
Да, в Кунцеве!
Кунцева —
Не забывай!
А дальше к Татаровке
[52]
надо пройти,
Не так далеко это – рядом почти.
Ну, словом, к Татаровке, друг мой, пройди,
Серебряный Лог
[53]
за деревней найди,
У этого Лога костер разведи и глины возьми.
Слышишь,– глины, мой друг,
Которой поблизости много вокруг.
Вот этой-то глины в костер и добавь,
И сладким ты дымом надышишься въявь!
Горят эти глины!
Ты понял?
Горят
И, жарко горя, издают аромат.
Ну да,– аромат! Верь мне, друг,– аромат!
И тот аромат, точно мед, сладковат.
Поверь – никакого тут нет волшебства,
А просто, где плещет волною Москва,
Там есть отложения юрских слоев
[54]
,
Цветов отпечаток, надкрылий жуков,
И рыбьих чешуек, и игол сосны,—
Всё есть в этих глинах – и сладость весны,
И осени горечь!
Но где на земле
Ты запах цветов ощутил бы в золе
Горящей земли?
Где пылает она,
Даря ароматом пьянее вина?!
Да, друг мой! Ты в Кунцеве часто бывал
И, кажется, даже на даче живал,
Там в парке Смирновском ты пиво пивал,
Глотал «эскимо», торопясь на вокзал,
А вот не вдыхал ты отечества дым,
О коем так часто мы все говорим!
1942
Страна-холодырь{50}
Так вот ты какая, страна-холодырь!
Все в елочках горбятся горы.
А город – он точно огромный пустырь —
Заборы, заборы, заборы…
Но есть за заборами и дома,
Не только дома – домища,
Заводы и домны огромны весьма,
Хоромы, светелочки и терема,
И в улицах снежных гуляет сама
Восточная злая пушная Зима —
Всё ходит, всё бродит, всё ищет.
Вот в дом Домовитых стучится она,
Псов будит косматых и сытых
И шепчет во мрак слухового окна:
"Вставай, гражданин Домовитых!
Вставай, Домовитых, и двери открой!"
– "А кто там так поздно стучится?"
– "Я чтица! Пришла я читать Домострой
[55]
.
Открой, Домовитых! Я – чтица.
И книжник со мною, из дальних он мест,
Брада наподобье лопаты.
А имя его: Сильвестр
[56]
, Сильвестр…
Слыхал про такого попа ты?"
Бормочет хозяин, в мерцании звезд
Неслышно назад отступая:
"Какой еще там еще поп Селевестр,
Не знал про такого попа я…"
Отходит Зима, и в другие дома,
В соседние, тоже стучится:
«Откройте!»
– "А кто там?"
– «Да я же сама!»
– «А кто это ты?»
– «Меховщица!»
И тут не впустили.
"Иди,– говорят,—
Чего,– говорят,– ты забыла?"
– "Впустите! Я здесь. Не хочу я назад!
Не рушатся стены, полы не горят…
О, тишь глубочайшего тыла!
Я чую, кочуя: не взвоет снаряд
Над крышами зло и уныло,
Не рушится свод, потолки не горят…
О, тишь глубочайшего тыла!
О, белых равнин глубочайшая грусть!
Рек медленное теченье!..
Я ранена в сердце! Я здесь нахожусь
Для длительного леченья…".
Леченье?
Молчанье…
Мерцанье огня.
И снова, рыдая, горюя:
«Впустите!»
– «А кто там?»
– "Впустите меня!
Я – странница, вам говорю я".
Ну вот и впустили.
Ну что ж не вошла?
"Чего,– говорят,– не вошла ты?
Куда же умчалась, так зла и бела?
В какие стучишься палаты?"
В палаты?
Куда там!
На снежный пустырь
Умчалась, горюя, играя…
И мечется следом норд-ост—поводырь…
Так вот ты какая, страна-холодырь!
Снега без конца и без края.
И месяц козлиные точит рога
О звезды там, в бездне туманной.
Так вот ты какая!
Вьюга,
Тайга,
Оледенелые берега,
Шишига под крышею банной…
Забудьте обычай странный —
Пользоваться эмалированной ванной!
Снега,
Тайга,
Вьюга.
И город не спит, погруженный в снега,
Морозный, косой, деревянный.
*
Такой и тебе показалась Сибирь,—
Ты видел не лес и не горы,
А в первую очередь этот пустырь —
Заборы, заборы, заборы…
Но выросли там
Не дома-терема,
А замки, настолько могучи,
Что стены, как горные кручи,
Уходят под самые тучи.
О ветер!
По тундрам ты ночи и дни
Носился, бездушен, бездомен.
Дохни и раздуй золотые огни
У домен, у домен, у домен!
Граненая Обь,
Златоокий Иртыш,
Ангарские ясные воды —
Повсюду, куда ты ни поглядишь,—
Заводы, заводы, заводы!
Над сводами их золотой листопад,
Над сводами их голубой снегопад…
О, тишь глубочайшего тыла!
Сибирь-холодырь,– про тебя говорят,
К тебе эта кличка пристыла.
Но в час, когда крепости вражьи горят,
Мы знаем, откуда берется снаряд,—
Холодной рукою смертельный заряд
Не ты ли в него вложила:
Вздохнула
Вдохнула
В волшебный снаряд
Дыханье глубокого тыла!
1942
Кружева{51}
Я не знаю – она жива или в северный ветер ушла,
Та искусница, что кружева удивительные плела
В Кружевецком сельсовете над тишайшею речкой Нить.
Кружева не такие, как эти, а какие – не объяснить!
Я пошел в Кружевной союз
[57]
, попросил показать альбом,
Говорил я, что разберусь без труда в узоре любом.
Мне показывали альбом.
Он велик, в нем страницы горбом,
И, как древних преданий слова, по страницам бегут кружева.
Разгадал я узор-сполох, разгадал серебряный мох,
Разгадал горностаевый мех,
Но узоров не видел тех,
Что когда-то видал в сельсовете
Над тишайшею речкой Нить —
Кружева не такие, как эти, а какие – не объяснить!
Я моторную лодку беру,
Отправляюсь я в путь поутру – ниже, ниже по темной реке,
Сельсовет вижу я вдалеке.
Не умеют нигде на свете эти древние тайны хранить,
Как хранили их здесь, в сельсовете, над тишайшею речкой Нить
Славен древний северный лес, озаренный майским огнем!
Белый свиток льняных чудес мы медлительно развернем.
Столько кружева здесь сплели, что обтянешь вокруг земли —
Опояшшь весь шар земной, а концы меж землей и луной
Понесутся, мерцая вдали…
Славен промысел кружевной!
Это те иль не те кружева?
Мастерица! Она жива?
Да жива!
И выходит она, свитой девушек окружена.
Говорит она:
"Кружева мои те же самые, те же самые,
Что и девушки и молодушки. Не склевали наш лен воробушки!
Не склевали лен черны вороны, разлетелись они во все стороны!
Кружева плету я снова. Вот он, свиток мой льняной.
Я из сумрака лесного, молода, встаю весной.
Я иду! Я – на рассвете!
Встретьте девицу-красу
В Кружевецком сельсовете, в древнем северном лесу!"
1932, (1944)
Ключ{52}
День кончился.
Домой ушел кузнец —
Знакомый, даже свойственник мне дальний.
Я в кузнице остался наконец
Один.
И вот, склонясь над наковальней,
Ключ для очей, для уст и для сердец
Я выковал.
Мерцал он, как хрустальный,
Хоть был стальным,– та сталь была чиста,
И на кольце твое стояло имя.
Тебе я первой отомкну уста!
И я пришел и отомкнул уста.
Но тотчас их связала немота —
Так тесно сблизились они с моими!
Тут сердце я открыл твое ключом,
Чтоб посмотреть, что будет в нем и было.
Но сердце не сказало ни о чем,
Чего б не знал я. Ты меня любила.
И я решил открыть твои глаза,
Чтоб видеть всё смогли они до гроба.
Но за слезой тут выпала слеза…
Я говорю: не радость и не злоба,
А слезы затуманили глаза,
Чтоб ничего не видели мы оба!
(1945)
Тоска{53}
Жил на свете я до сорока лет
И не знал никогда, что такое тоска. Нет.
Даже знать я не знаю, что такое тоска.
Мне
Никогда не бывала она близка.
Ни ночами во сне
И ни наяву
Никогда не зову
Эту самую деву я, Грусть.
Говорят иногда,
Что она и сюда
Заезжала —
И пусть!
Я, появится если она,
Улыбнусь,
А объявит она, что со мною должна
Повстречаться одна,—
Рассмеюсь.
Я ее не боюсь!
Что такое она?
Если взвесить всё и учесть —
Есть на свете Надежда, и Вера, "и Мудрость,
И есть
Месть, и Гордость, и Ревность, и Верность, и Страсть…
А с тоской этой, с Грустью,—
Ни в рай и ни в ад не попасть.
Пусть имеет она над другими верховную
власть.
Да уж лучше к земле я ничком припаду
Да зароюсь в пески,
Захочу – улечу на другую звезду,
А уйду от тоски.
У меня две руки,
У меня кулаки,
А у ней под глазами круги велики.
У меня есть товарищи-весельчаки…
Ьоже мой,
Помоги
Мне уйти от тоски!
(1945)
Эрцинский лес{54}
Я не таил от вас
Месторожденья руд.
Пусть ваш ласкает глаз
Рубин и изумруд,
И матовый топаз,
И золотой янтарь.
Я звал вас много раз
Сюда —
Недавно,
Встарь.
Я говорил, что дик
Мой отдаленный край.
Я говорил: "Язык
Деревьев изучай!"
Я звал вас много раз
Сюда, в Эрцинский лес
[58]
,
Чьи корни до сердец,
Вершины до небес!
Я звал вас много раз
И на степной простор,
Где никогда не гас
Пастушеский костер.
Я звал вас в пыльный рай
Необозримых стад.
Делить всё, чем богат,
Я был бы с вами рад.
Но посылали вы
Сюда лишь только тех,
Кто с ног до головы
Укутан в темный грех.
Ведь правда было так?
Труби, норд-ост могуч,
Что райских птиц косяк