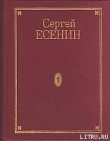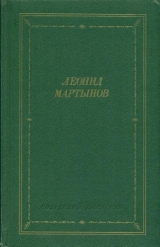
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Леонид Мартынов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
Многослойна символика поэмы.
День астрономических наблюдений собрал людские толпы на городском валу, где был установлен телескоп аббата Дотероша. По случаю астрономических обсерваций заморский гость устроил великое торжество, пригласив городскую знать Тобольска.
Необыкновенность происходящего в небесных сферах как бы дополняет необыкновенность внутреннего состояния героини. Правда, на городском валу да и позднее она одинока в этих своих видениях и грезах. Если для нее планета Венера принимает фантастический облик прекрасной девы, то живописец Антон в оптическую трубу видит всего-навсего «какую-то красную блошку». Если Дотерош, вернувшись с парадного обеда в честь «оных обсерваций», легкомысленно каламбурит, говорит банальности о красоте сибирской девы, то сама тоболячка полна тревожного предощущения любви. Она с жаром восклицает:
Виденья своего я необыкновенность
Навеки сохраню. Я лицезрела Венус!
Но жажда прибылей и жажда сенсаций, объединившись, губят ее любовь. Мир алчности, мир тщеславия, мир эгоистического расчета не оставляют места для искренних чувств, для возвышенных устремлений. В этом мире героиня с богоподобной красотой Венеры превращается в предмет спекуляций, продажи, наживы. «Где Венус? Где звезда?» – в отчаянии восклицает жертва корысти и расчета, превратившаяся в модель ковровой живописи. Ее красоту «ткачихи ткут на рынок для продажи».
Сложность анализа поэм Леонида Мартынова заключается в том, что их нельзя рассматривать с точки зрения житейского правдоподобия – эта мерка не подходит к его поэмам, как она не подходила и к его лирике. Особенность поэм Леонида Мартынова заключается в том, что если в лирике критерием истинности служил реализм переживаний поэта, то теперь этим критерием стала истинность переживаний героев. Исторические хроники Сибири дали ему полную возможность для совмещения, точнее – взаимообогащения действительности и вымысла. Но в эпических произведениях он добивается уже не деформации реалий, а высокой степени их обобщения: исторические детали и подробности поэт как бы сгущает до символа, в такой же степени он синтезирует и душевные качества своих героев.
Сергей Залыгин, который еще с довоенных лет внимательно следил за творчеством Леонида Мартынова, писал: «История – этап в творческом пути Мартынова, но такой, который в немалой степени способствовал выходу его поэзии далеко за рамки повседневности, скоротечной злободневности, который по-своему научил его заглядывать далеко вперед».
Долгое время, едва ли не до 1955 года – выхода в издательстве «Молодая гвардия» книги лирики Леонида Мартынова,– всесоюзному читателю он был известен преимущественно как автор крупных и оригинальных исторических поэм.
5
Через два дня после начала войны, 24 июня 1941 года, Леонид Мартынов в «Омской правде» публикует стихотворение «Мы встали за Отечество», а через несколько дней – стихотворение «За Родину», которое сопровождал рефрен: «Пора! Настал тревожный час!» И в дальнейшем, какой бы срочной ни была работа, Леонид Мартынов сверхоперативно справлялся с ней: его стихотворные подписи под карикатурами появляются в «Окнах ТАСС», его стихотворения регулярно печатаются на страницах омских газет. В первые и самые напряженные месяцы войны Леонид Мартынов писал много, писал вдохновенно, писал с твердой уверенностью в нашей окончательной победе над врагом. Его стихотворения были собраны в две небольшие книжки – «За Родину!» (1941) и «Мы придем!» (1942).
Однако самым ярким выступлением военных лет был его очерк «Вперед, за наше Лукоморье!». Под другим названием он был опубликован в газете «Красная звезда» (16сентября 1942 года), а затем вышел отдельным изданием (Омск, 1942). К тому времени сибирские дивизии и корпуса, прославившие себя в боях под Москвой, вели затяжные бои на многих участках тысячекилометрового фронта от Мурманска до Моздока. «Сибирь пришла, чтобы победить. Она победит!» – так четко определил значение очерка в своем письме поэт Георгий Суворов, которое было приложено к отдельному изданию очерка. И действительно, вся масштабность мышления и чувствования, вся сила убежденности, все доскональное знание истории родной страны – были использованы Леонидом Мартыновым для того, чтобы довести до массового читателя это победоносное чувство. Поэт по-прежнему варьировал некоторые свои мотивы и образы, искал и находил соотношение между реальностью и вымыслом, иногда ошибался, срываясь в эстетизм. Но в конце концов пришел к принципиально важной книге «Лукоморье», которая и была издана под редакцией П. Антокольского в 1945 году.
К сожалению, и «Лукоморье», и, в еще большей степени, «Эрцинский лес», вышедший в Омске в 1946 году, были подвергнуты журнально-газетной проработке, как об этом с немалым чувством горечи писал позднее Леонид Мартынов.
Чтобы как-то прийти в себя после этой проработки, поэт на целое десятилетие с головой уходит в переводы. Этому немало способствовали два обстоятельства. Во-первых, он становится жителем Москвы. Вместе с женой он поселяется в районе старых Сокольников в ветхом, еще конца прошлого века, деревянном доме. Но о том, что значило для него само по себе это событие, можно судить хотя бы по такому вот признанию: в Москву «я устремился в первый раз еще пятнадцатилетним подростком, чтоб тосковать, ее покидая, и ликовать, возвращаясь в нее».
Во-вторых, необычайно важно было для него посещение Антала Гидаша и Агнессы Кун в его крохотной комнатке, где, как и прежде, все было заставлено стопками, пачками, полками книг. Новые венгерские друзья предложили Мартынову принять участие в переводе произведений Шандора Петефи для однотомника венгерского классика, а затем и для «Антологии венгерской поэзии». Леонид Мартынов принял это предложение с воодушевлением. Сама атмосфера тех послевоенных лет была такова, что интерес к литературам народов нашей страны, к литературам стран народной демократии и прогрессивной литературе всего мира возрастал с каждым днем и становился повсеместным. Когда Гидаш просмотрел первый перевод из Петефи своего друга, то сказал убежденно: «Дело пойдет!» И Леонид Мартынов действительно уверовал в свои силы как переводчик: только из одного Петефи он перевел более десяти тысяч строк. За эту огромную работу по сближению наших народов правительство ВНР наградило его орденом Золотой Звезды первой степени и орденом Серебряной Звезды.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что и в этот не самый плодотворный период своей творческой биографии Леонид Мартынов не переставал писать оригинальные стихи. Так, например, он замыслил создать большое лироэпическое произведение, которое условно называл «Времена года». Оно должно было дать новое осмысление одной из «вечных» тем – темы природы. Правда, следует сделать важное уточнение – не природы вообще, а природы миллионного города. В городском «безбрежье» он на равных правах хотел изобразить и булыжные мостовые, и глухие переулки старых Сокольников, и недра метро, из которых, «как будто из вулканов, людских дыханий вырывались клочья („Мороз“), и своды картинных галерей. От этого замысла сохранились лишь отдельные фрагменты: „Июнь“, „Июль“, „Август“, „Сентябрь“, „Октябрь“, „Ноябрь“, „Декабрь“. Творческое воодушевление, которое испытывал Леонид Мартынов, обдумывая новый цикл, было таким же, как и тогда, когда он, молодой поэт, проходил по улицам старого Омска и в лицо ему мел снег пополам с песком; в то время едва ли не каждая пылинка и снежинка дышали для него поэзией и едва ли не на каждом перекрестке можно было обнаружить таких же влюбленных, каким был и он сам.
„Кто вы, ночные странники, по тротуарам шаталы?
Шапки на лоб надвинуты, руки в карманы спрятаны…“
Сада ограда черная тянется, тянется, тянется.
Вдоль я иду, и следует
Рядом
Ночная странница.
("Ночные странники")
Здесь, в Москве, Леонида Мартынова в неизмеримо большей степени, чем в молодости, стали занимать общие мировоззренческие вопросы. Для него городской "космос", который открывался с Ленинских гор, был единым диалектически сложным целым:
Я семь громоздящихся к небу холмов,
Я семьдесят семь колдовских теремов,
Где скрыто былое от взоров нескромных,
Я – семь миллионов блестящих и темных,
Стремящихся к некоей цели умов.
( "Город")
Облик гигантского города привлекал Леонида Мартынова и своим космизмом, и своим особым – ускоренным – ходом времени, и своими чудесами и превращениями: здесь, на магистралях, люди "стремятся Разлететься кто куда, как будто им Вселенная тесна…". И повсеместно "зреет на земле Очередное чудо" ("Ночь"). Следует добавить, что наряду с этим "Очередным чудом" поэт различал и его противоположность – "неподвижности громаду", которая, в свою очередь, была подчинена все тем же законам хода времени и могла мгновенно рассыпаться, не повредив даже "колос Молодого урожая" ("Неподвижность").
Дело в том, что дух и плоть города не были для Леонида Мартынова лишь "сырьем" чувственных впечатлений. Все реально существующее обретало в его стихах характер стенографического "кода", становилось "знаковой" системой городской жизни, ее убыстренного ритма и требовало немедленной расшифровки. Только после этого можно было осознать всю глубину и масштабность городского "космоса". Показательны в этом смысле стихотворения, написанные в 50-х годах: "Ночь становилась холодна…", "Что-то новое в мире…", "Вот корабли прошли под парусами…", "Закрывались магазины…", "Событье свершилось…", "Я помню: целый день…". Особенно характерно для мировосприятия Леонида Мартынова последнее стихотворение, написанное в 1953 году. Оно передает резко контрастные состояния, которые поэт находит в своей душе и в самой городской природе. Они словно спроецированы на экран бегущего времени, ибо "Время Мчалось так, Как будто целый век Прошел за этот день…". Отсюда – ощущение близких, желаемых и неизбежных перемен и в мире городской природы, и в человеческом общежитии. Эти перемены, как говорится, не заставили себя ждать. Поэт видит, что в отношениях людей стал таять "сдержанности глетчер", он замечает, как закатный луч "Перестал на всё коситься" и "Наконец-то научился К людям лучше относиться" ("Вечерело…").
А вот и наиболее известное стихотворение Леонида Мартынова – "Итоги дня". В нем вновь воссоздается тот самый городской "космос", в котором странно и неожиданно, "будто бы фата-моргана – Всплывают морды лошадей". Это огромные фуры на каучуковом ходу везут на Центральный склад утиля все, "что за день, только за день Отжить успело, устареть":
Везут, как трухлые поленья,
Как барахло, как ржавый лом,
Ошибочные представленья
И кучи мнимых аксиом.
Жизненные реалии, которые призрачно мерцали во многих стихотворениях поэта, неожиданно обретают резкость "дневного" существования. И теперь, после прочтения "Итогов дня", становится очевидным, что не только это стихотворение, но и вся поэзия Леонида Мартынова в целом утверждает поступательный ход истории. Он всегда жаждал глубоких и благотворных перемен в нашем общественном бытии, и его личной движущей творческой силой была удесятеренная любовь к своим современникам.
Если делать главный вывод из мартыновских "Итогов дня", то можно сказать, что непреходящие духовные и эстетические ценности, по его мнению, определяются их одним коренным свойством: осознанием человека в истории, вочеловечиванием его в истории, сотворчеством человека и истории.
Момент, переживаемый Леонидом Мартыновым, был моментом значимым для всей страны и для всего народа. И не потому ли его тоненький сборничек "Стихи" (1955) сразу же получил огромный общественный резонанс? Читателей больше не смущала ни "странность" лирического героя Леонида Мартынова, ни сложность смысловых ассоциаций, ни многозначность его метафорического языка.
Удивительно мощное эхо!
Очевидно, такая эпоха,—
размышлял по этому поводу поэт в стихотворении "Эхо". С той поры Леонид Мартынов начинает широко печататься в центральных и республиканских журналах, обретая, можно сказать, всенародную известность.
6
По всем параметрам многообразного и многосложного своего творчества Леонид Мартынов был далек от поэтов, которые в той или иной степени противопоставляют техническую оснащенность современного мира чистоте первозданной природы. Он не считал, что техника XX века пагубно влияет и на искусство поэтического слова. Современная техника не может погубить поэзию, если общество не направлено против человека, если оно не преследует узкокорыстные классовые интересы и не ставит их превыше всего. Наконец, поэт полагал, что художник не сумеет выразить хода времени, если он не ощутит, не переживет, не прочувствует этот убыстренный темп времени внутри себя.
Его предтеча – Александр Блок – запечатлел текучесть и двойственность лирического переживания для того, чтобы еще глубже и острее передать диалектическую переменчивость бытия. Как раз это "внутри себя", "через себя" и есть повышенно личностное отношение поэта к окружающему миру, которое и позволяло Леониду Мартынову видеть реальность в новом ракурсе, то есть не так, как все, не так, как ее воспринимает обыденное сознание.
Дерзайте, чтоб на ваши грезы
Стремилось небо быть похоже,—
вот требование, которое должно соответствовать самосознанию современного человека.
Но почему же именно так ставил этот вопрос Леонид Мартынов? Да потому, что универсальным средством эстетического освоения мира для него был домысел, то есть элемент желаемого, ожидаемого, фантастического и в мире, и в каждодневном существовании человека. Об этом Леонид Мартынов, в частности, упоминает в новелле "Как мы пишем", когда речь заходит о его отношении к реальности, суровой, грубой, обыденной, но меняющейся прямо на глазах. Причем, сказав о некоем "элементе фантастического", который он непроизвольно вносил в свои стихи, Леонид Мартынов счел необходимым подчеркнуть, что далеко не всегда его ожидали здесь подлинные удачи.
Да, поэт шел трудным путем – путем поисков того чудесного звена, которое позволило бы сковать и жизненное наблюдение и фантазию в одну конкретную поэтическую данность. Ибо, как уже говорилось, для Мартынова поэзия – средство формирования собственной личности, а стало быть, и метафорического преображения реалий. Здесь иногда шли полосой неудачи и риторические срывы. Но в конце концов его грандиозное городское "безбрежье" обретало черты обновленного Лукоморья, совмещало вымысел с действительностью. Здесь посреди каждодневных людских забот зрело "Очередное чудо".
Создать это чудо, чтобы оно было по-настоящему новым и прекрасным, помогала такая поразительная способность Леонида Мартынова, как удивительная чуткость к скрытым возможностям языка и необычайно активное, действенное, я бы сказал, властное отношение к слову. Леонид Мартынов мог к одному словесному корню присоединить самые неожиданные флексии – и тогда возникало чудо стиха:
Жухни,
Черт Багряныч,
И одно пророчь:
"Будет луночь, саночь! Всё иное прочь!"
("Черт Багряныч")
Увлечение В. Хлебниковым, В. Маяковским, чтение футуристических сборников не прошло даром.
А вот другой не менее выразительный пример мартыновских неологизмов: в стихотворении "Замечали – по городу ходит прохожий?.." сказочное Лукоморье последовательно перевоплощается в "рукомойню", "мукомолье" и даже в некое "Мухоморье", которые больше соответствовали обыденному сознанию обитателей коммунальных квартир.
Как здесь не вспомнить ставшее классическим четверостишие Леонида Мартынова:
И своевольничает речь,
Ломается порядок в гамме,
И ходят ноты вверх ногами,
Чтоб голос яви подстеречь.
("Такие звуки есть вокруг…")
Дело, конечно, не в своеволии родной речи, а в ее поистине неисчерпаемых возможностях для самовыражения поэта, в тончайших оттенках смысла и значения, которые всегда так обостренно чувствовал Леонид Мартынов.
Поэт был убежден, что более глубокое представление о вещи, о явлении, о душе человеческой, как уже говорилось, может дать именно это "волшебство" слова, эта "магия слова", к которым он столь охотно прибегал на всех этапах творческого пути.
7
Примечательная особенность Мартынова – мыслителя и поэта – заключается в том, что современная техника ни в коем случае не является для него идолом. Она важна ему лишь как повод для глубоких социально-общественных наблюдений, важна для раскрытия психологии и самочувствия современного человека. И здесь, действительно, поэта ждут многие удивительные открытия. Известное стихотворение "Будьте любезны…" содержит в себе поразительные строчки о том, как в наши дни, в наше время стало уже мукой неподвижности – "Мчаться куда-то со скоростью звука", ибо мы знаем, что существует некто, "Летящий Со скоростью Света!". Эти строчки намекают на быстрое привыкание человека к ошеломляющим откровениям научно-технической мысли и конструкторской дерзости, раскрывающим горизонты все новых и новых достижений человека в обживании Вселенной.
Однако внутреннее сочувствие поэта ко всему тому, "Что делается В механике, И в химии, И в биологии", ни в коей степени нельзя назвать благодушием. Напротив, социальное сознание Леонида Мартынова становится еще более обостренным. Он понимает, что результаты научно– технической революции могут быть использованы во вред человечеству, что угроза термоядерной катастрофы – реальная угроза. Он помнит про тот "Электронно-напалмовый холм, Где подземные взрывы как эхо шаманского бубна звучат" ("Голый король"). Он помнит и про тот огненный поток лавы на склонах Везувия, который когда-то заживо сжигал людей. Будучи на раскопках Помпеи, во время своей поездки в Италию, поэт прежде всего и главным образом видит здесь во всем напоминание о беде: "А какова причина катастрофы?" Этот вопрос звучит как предупреждение человечеству: не надо пустых слов и пустых деклараций, необходимо вовремя остановить современных факельщиков термоядерной войны.
Изучая вслед за поэтом взаимообусловленность различных – "далековатых" – явлений нашей современной жизни, нельзя оставить без внимания вполне закономерный вопрос: а не означает ли это, что Леонид Мартынов отказался от своего Лукоморья?
Нет, не только не отказался, но, напротив, в 60—70-е годы поэт намечает новый подход к теме Лукоморья. Он обращается к таким областям современной науки, в которых особенно большую роль играет творческое предвидение, пространственное воображение и умение предвосхитить то, чего "еще никогда не бывало". Речь идет прежде всего о космогонии и физике элементарных частиц, также о генной инженерии и компьютерной технике, то есть о тех областях современной науки, в которых действительность неизбежно переплетается с гипотезами, в которых микромир соотносится с макромиром. Стремление не упрощать концептуальной структуры поэзии обратило внутренний взор Леонида Мартынова именно к лирико-философскому осмыслению и самых малых и самых больших величин мироздания.
Не приходится сомневаться, что поиски темы Лукоморья в новых достижениях и открытиях метанауки были во всех смыслах благотворными для Леонида Мартынова. Концептуальность мышления сказывалась даже на некоторых личных его привычках. В кругу литераторов была широко известна любовь Леонида Мартынова к собиранию камней странной конфигурации. Ему казалось, что под грубой оболочкой естества в камнях кроется что-то изначальное, мощное, первобытное, такое, что жаждет вырваться из глубины материи. Кстати сказать, и в изделиях древних мастеров из камня, кости и дерева его интересовали приметы все того же "прасознания", которое крылось где-то в глубине, но которое художник сумел освободить и явить духовному взору человека.
Сознанье есть во всей Вселенной:
Есть смысл и в стуже, и в огне,
В небесной молнии, и в пенной,
О скалы бьющейся волне.
Осмысленность есть даже в птицах —
так начинается одно из самых значительных философских стихотворений поэта, "Разум бескрылых", в котором он вслед за Тютчевым утверждал не только прямую – "человек – природа", но и обратную – "природа – человек" – взаимосвязь.
Концептуальность мышления Леонида Мартынова основывалась на всепроникающем универсальном детерминизме. Причем он полагал, что если есть взаимозависимость явлений и предметов бытия, то она должна распространяться и на "хаос родимый", как когда-то обозначил другое вселенское начало Тютчев. Эта попытка установить гармонию на новом современном уровне понимания взаимообусловленности вещей и явлений и противостоящего им хаоса ярко проявилась в стихотворениях, которые позже составили основу книг "Узел бурь" (1979) и "Золотой запас" (1981).
В этих книгах приметно расширились мифологические, исторические ассоциации и сюжеты. Однако увеличился и драматизм внутреннего разлада, который коренился все в тех же тютчевских глубинах в их современном преломлении, в мучительных размышлениях "про древний хаос, про родимый". Усилилось чувство зависимости личности от космических сил и связей, что так характерно было еще для лирики Блока.
Ни в творчестве, ни в личной жизни Леонид Мартынов не был однолинеен, однозначен. Вот почему во многих его стихах закодировано неизмеримо больше, чем это можно уловить при самом пристальном чтении. Ведь он не чуждался ничего таинственного, странного, не познанного человеком в окружающем мире. Напротив, именно к этим непознанным факторам нашего бытия он испытывал жгучий и в чем-то по-детски непосредственный интерес. При всем том следует подчеркнуть, что и в начале 30-х годов, и позже, в период критических проработок за "Лукоморье" и "Эрцинский лес", он неизменно черпал запас новых сил и нового творческого воодушевления именно в своей концепции разумного мироустройства и в разумных, то есть взаимообусловленных, связях и соотношениях явлений.
В последний период жизни Леонида Мартынова влияние этой лирико-философской концепции на его художественное творчество оставалось неколебимым.
Словно бы разрешая какой-то давний спор с самим собой, что важнее для истинного художника – "признание мира" или "отказ от него", Леонид Мартынов в книге "Узел бурь" заметил, что самые лучшие стихи те, которые написаны "несмотря ни на что". Это "несмотря ни на что" было и оставалось его пафосом и его душевной опорой до последних дней жизни, когда невзгоды одна за другой обрушивались на него: не стало жены и верного друга Н.А. Мартыновой-Поповой, болезнь и одиночество, казалось бы, совсем одолели поэта. Правда, близкие друзья помогали Леониду Мартынову всем, чем могли, но несравненно большую помощь он оказывал себе сам, продолжая писать "несмотря ни на что"! Его жизнь была жизнью подвижника, а его вера была верой огнепоклонника, если понимать под огнем – вечный огонь поэзии.
Ход времени, который для Леонида Мартынова всегда являлся мировоззренческой доминантой творчества, теперь, в 70-х годах, обретал большую личностную окраску. Поэт чувствовал ускорение времени, как говорится, всеми фибрами души. Он готов был сравнить его с песочными часами, чья струйка неумолимо, неостановимо стекает вниз. Но есть У Леонида Мартынова и другие решения этой темы. В стихотворении "Когда блистательный художник Время…" он пишет, что "художник Время" должен нести ответственность за все земное бытие – будь это Упадок нравов в Древнем Риме или современное обожествление "персоны в золоченой раме". Бремя личной ответственности и есть одно из проявлений свободы. А поскольку "отказ от мира" – это по существу отказ от свободы, от творческого самовыражения, то художник никогда не пойдет на добровольную творческую смерть. Он может смягчить краски, притупить тона, но он не может и не захочет исказить облик своего века.
Леонид Мартынов как и прежде познавал его сквозь призму личных переживаний, которые теперь обретали новую глубину и новую масштабность. Время-пространство уже целиком подчинялось власти поэта; конкретная хронология его занимала мало, ибо лирическое переживание образовывало единый поток, в котором парадоксально сочетались цветные осколки "звезд", мерцающие игрой разнообразных значений. Жизненный порыв художника не ослабевал до последней строки. Внутренний его мир был способен включить все значения и метаморфозы мира внешнего:
Внешний мир изменился
Не настолько еще за полвека,
Чтобы в нем поместился
Весь внутренний мир человека.
("Внутренний мир")
Обращая свой внутренний взор то во времена Кирилла и Мефодия, то во времена Колумба, то в иные исторические времена, Леонид Мартынов никогда не терял чувства современности и ответственности за все бытие земное. Его понимание творческой свободы вполне совпадает с классической формулировкой: свобода – это познанная необходимость. Его социально-нравственная позиция столь же классична. "Силовое поле" воображения позволяло ему включать в стихотворение различные исторические и временные пласты, органически сплавлять их в поэтический текст высокой пробы с помощью все той же "магии слова", о которой шла речь и которая, пожалуй, является зримой приметой творческой индивидуальности Леонида Мартынова. Именно здесь хотелось бы вспомнить Гёте, который в одном из разговоров с И.П. Эккерманом заметил, что если бы фантазия не могла создавать вещи, которые навсегда останутся загадкой для рассудка, то фантазия вообще немного бы стоила.
8
"Я грежу древними преданьями",– заметил Леонид Мартынов в книге "Гиперболы" (1972). И это была правда, если вспомнить Лукоморье или его исторические поэмы. К древним преданьям, конечно же, относятся и мифы, и библейские сказания, и летописные своды, и апокрифы. Короче говоря, это историческая память человечества. Но если для некоторых современных прозаиков и поэтов, особенно в 70-е годы, увлечение мифопоэтической стихией было в какой-то степени скоропреходящей модой, то в творчестве Леонида Мартынова миф нашел философски глубокое и личностное выражение.
Поэт безусловно верил, что миф – вечный источник вдохновения, знал что его невозможно реконструировать или повторить, но не сомневался, что из мифа можно высечь огонь Прометеева озарения.
Энциклопедизм познаний Мартынова в разных областях искусства и литературы – общеизвестен. Поэт исходил из личного опыта, когда писал, что "через мрак средневековья с его античными обломками До мраморного Возрождения добраться было нелегко" ("Млечный Путь"). Но коль скоро прошел этот путь, то уж в своем творчестве, в своей родной стихии он свободно перемещался из эпохи в эпоху и по-своему, по-мартыновски, организовывал художественное время и пространство. Следует подчеркнуть, что именно эти мировоззренческие категории для Леонида Мартынова были основой его безудержных и непредсказуемых "отлетов фантазии".
Ведь шаги "Истории самой", по мысли Леонида Мартынова, не удаляли от нас те или иные события, наоборот, они все время словно бы приближали их к нам. Ибо, писал Мартынов, идут "эпохи за эпохами, и все моложе древность кажется". Здесь – главное зерно его мироощущения. Особенно притягательной для него была универсальность мифа, его человеческая всеобщность. Обращаясь к атлантам Труда и титанам Созидания, поэт говорил:
Закутанные
В дымы избяные
И копоть фабрик с ног до головы,
В пыли космической шары земные
Упорно перекатывали вы.
("Огромные, неповоротливые люди…")
Хронос (сын Урана), Аполлон, Афродита, Геракл, Дедал, Харон (перевозчик душ через Стикс), а также исторические личности, ставшие легендарными, такие, как Геродот, Демокрит, Эмпедокл, Овидий, Кирилл и Мефодий и множество других,– вот персонажи лирико-философских стихотворений Леонида Мартынова, но это персонажи опять-таки по-мартыновски приближенные к нам, созвучные нашей современности, благодаря своим исполинским фигурам.
Существенно, что поэт смело использовал и смысловую емкость, которая заложена в самом понятии мифа (в его древнеклассических вариантах). Вот стихотворение "Мифология". Уже само это слово вызывало в Леониде Мартынове жизненный порыв, который освобождал его от правил так называемого "хорошего" поэтического тона. Поэт охотно Пользовался этой свободой – "открытость" мифа для современного прочтения позволяла ему создавать своих современных "мифорогих" и "ми– Форуко-мифоногих" исполинов, которые, встав во весь свой колоссальный рост, "Уплывают в свете звезд До своих прекрасных гнезд…" ("Мифология"),
Классический миф в творчестве Леонида Мартынова был кладезем неисчерпаемого обновления "вечных" сюжетов, он был источником и "словесной магии", и нового осмысления внутренних состояний. В городском "космосе", который открывался поэту в ночные и дневные часы, тоже было что-то непредсказуемое, как и в его мифологических исполинах. Причем обыденное, повседневное у Леонида Мартынова не просто соседствует со звездными исполинами, но и является естественным их окружением: "В городе – не забывай! – даже гром и тот ночами громыхает, как трамвай!" ("Зеленый хлыст"). В другом стихотворении поэт отмечает, что люди тычутся в подземных переходах, и никак не может рассеяться вечерняя мгла даже тогда, когда электрический свет заливает городские кварталы. И вдруг – внезапно, словно по мановению руки – все преобразуется: ведь с этими переходами, крышами домов, башнями домен граничит "звездная бездна сама"! Такое преображение обыденного во вселенское, естественно для сегодняшнего мировосприятия, ибо житель новых микрорайонов в какой-то степени сам является "микрокосмосом"; в нем в течение дня происходят разнообразные метаморфозы и радость сменяется безотчетной тревогой, душевный покой – внезапным стрессом.
И немыслимо
Вдруг позабыть все волненья и все опасенья
Потому, что – подумай, представь себе это сама —
Так свершаются, может быть, землетрясенья:
Вдруг толчок —
И молчок!
И кромешная тьма!
("Даже Тихий океан…")
Очевидно, что идея взаимозависимости всего сущего получала в творчестве Леонида Мартынова все более емкое и сложное выражение. Как уже говорилось, эта идея всегда помогала поэту в весьма болезненных перепадах его творческой биографии. Причем причина этих явлений была одна и та же – непонимание своеобразного мира, созданного поэтом, непонимание самих основ его художественного бытия. Но в конце концов, именно монизм мышления Леонида Мартынова позволил ему оставаться тем "беспощадным оптимистом", которым он, по словам Антала Гидаша, всегда был. Этот же монизм мышления способствовал тому, что его главная мысль, его главная идея никогда не терялась в частностях, в отступлениях. Он в своей стихотворной практике сознательно шел на нарушения внешнего правдоподобия или фактографизма. Мир видимостей, мир "кажимости" был для него, не менее значительным и важным, чем повседневность, данная в конкретном факте. Например, городской закат, явление в общем-то обычное, ассоциируется у него со странными, апокалипсическими видениями. Ему, охваченному неясной тревогой, кажется, что солнце, которое каждый раз садится за Каменный мост тараща свой скошенный глаз, возвещает о неминуемом конце мира. Но заключает поэт, это древнебиблейское светопреставление, "Как и в прошлый раз, отодвигается":