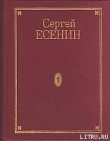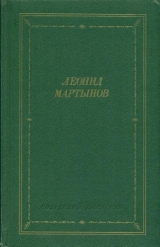
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Леонид Мартынов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
Затеяна борьба
Не просто так, с каким-то диким львом,
А с гордым львом,
Сорвавшимся с герба.
Так
И с двуглавым бился он орлом,
И с одноглавым так же длился бой.
Немало бился человек в былом,
С разнообразным он боролся злом,
А может быть, боролся сам с собой.
Всё может быть!
Пойди его пойми.
Он на своей сияющей звезде
С ужаснейшими борется зверьми,
Которых сам насотворил везде!
1960
«Мы Правдой Мир вооружаем…»{231}
Мы
Правдой
Мир вооружаем.
Не нужно этой старой лжи,
Что мы кому-то угрожаем,
Что, угрожая, обнажаем
Мы возраженья, как ножи.
Нет,
Миру мы не угрожаем,
И, бесконечно дорожа им,
Любовью по нему томясь,
Мы любим, но не обожаем,
Очеловечивать стремясь.
Я люто не люблю елея,
И раздражаюсь я, когда
Вдруг зазвучат слова дряхлее,
Чем нас взрастившая среда.
Бывает мне противно слушать
Слова, лакеям по плечу,
Как, например: «Извольте кушать»,
Когда я просто есть хочу!
Я люто не люблю елея…
Так говорящего жалею:
Изволь такому существу
Внушить, что на моей земле я
Не проживаю, а живу.
1961
Вознесся в космос человек{232}
Всё —
Как он набирался сил,
Как в небесах владел собой
И невесомость выносил —
Да пусть почувствует любой
Из нас!
Он делал всё для нас с тобой,
Он делал всё за нас с тобой,
Над нашими плечами мчась.
Вознесся
В космос человек,
Оставив за своей спиной
Свой шар земной с его весной,
С его «холодною» войной,
Со стужей, вклинившейся в зной,
И с кипятком подземных рек
Под леденистой пеленой.
Вознесся
В космос человек,
Но это вовсе не побег
Из повседневности земной.
Вознесся
В космос человек,
Секретом неба овладел,
И возвратился человек
И снова землю оглядел:
Напрашивается масса дел!
Еще недужен лик земли,
Еще витает горький прах
Сынов земли, которых жгли
Вчера на атомных кострах.
А сколько на земле калек!
Поставим этому предел,
Поскольку, силою богат,
Ворвался в космос человек,
И возвратился он назад,
И убедился человек,
Что доброй воле
Нет преград!
1961
Курский выступ{233}
Помню
Над тобой, Орел,
Марево, как ореол.
Я проснулся утром рано.
Вот и луг среди тумана.
До чего же нежен луг,
Вероятно – Бежин луг
[167]
.
Как прекрасно всё вокруг!
И прекрасная поляна —
Это Ясная Поляна
[168]
.
Только почему же вдруг
Ощетинились луга
Там, где жив пастух с дудою,
Вздрогнули в лугах стога,
Будто вспомнили врага?
Это – Курская дуга.
Вечно дышит кровь – рудою!
1961
Неуязвимость{234}
Мечется
Человечество —
Мучится, мается,
Падает, поднимается,
Топчется, пятится,
Сына убив, принимается
Вновь восхвалять отца.
Длится сумятица.
Мучится человечество,
Плачется, молится.
Ужас за ужасом гонится,
Страхи за страхи цепляются.
Древле был страх омонголиться,
Позже был страх отуречиться,
После был страх онемечиться…
Но и не окитаится,
Как и не ояпонится,
И не обамериканится
Страждущее человечество:
Было оно человечеством,
Так оно им и останется,
Страждущее человечество.
Мучится человечество,
Но по необходимости
Учится человечество
Собственной неуязвимости,
Чтоб величайшею ценностью
Люди могли обеспечиться —
Личной неприкосновенностью
В шумной семье человечества.
1961
«Я с Музою Глубокой ночью…»{235}
Я с Музою
Глубокой ночью
Шел около «Националя»
[169]
.
Дул ветер, облачные клочья
Про ураган напоминали.
И будто бы в ответ на это
Блеснул из мрака диск, повисший
На стенке университета
[170]
,
Как некий символ правды высшей.
Сказала Муза:
– "Приглядись-ка
К барометру. Ведь с неких пор там
Былое пониманье с диска
Бесследно оказалось стертым:
Там, где стояло слово «Буря»,
Теперь написано – «К осадкам»,
Чтоб это небо, брови хмуря,
Не угрожало бы касаткам.
Смотри! Взамен «Великой суши» —
«К хорошей, сказано, погоде»,
Чтоб не смущались наши души,
Чувствительные по природе".
Кто сделал эти измененья
Непогрешимою рукою,
Тот, безо всякого сомненья,
Хотел глубокого покоя.
И только надпись «Переменно»
Не превратилась в «Постоянно»
Над диском белым, точно пена
Бушующего океана.
1961
Во-первых, во-вторых и в-третьих{236}
Всего
Еще понять не можем —
Как видно, время не пришло,
И долго мы не подытожим
Всего, что произошло,
И обо всех
Явленьях этих
Твердим казенным языком:
«Во-первых, во-вторых и в-третьих».
Но даже в случае таком —
Во-первых:
Немы от разлуки
На колоссальной вышине,
Вновь запросились в наши руки
И серп и молот на Луне;
И, во-вторых:
Вдруг замаячил
Всё резче Марса уголек,
И путь туда казаться начал
Не столь далек, не столь далек;
И, в-третьих:
Ближе к нашим крышам
Венера подошла, звезда:
«Вы слышите меня?» – «Мы слышим!»
Всё это началось тогда
[171]
,
Когда
Весенним утром ясным,
Земля, вознесся над тобой
В своем комбинезоне красном
Пилот, от неба голубой.
1961
Весна{237}
Он
Всю
Европу
Взял в объятья
С Норд-Капа
[172]
и по Закавказье,
Ее блистательное платье
Забрызгав дождиком и грязью,
И усмехнулся он невинно,
Что это – не его вина,—
Большой веснушчатый детина,
Так называемый – Весна.
1961
Терриконы{238}
Вы,
Степные исполины,
Терриконы-великаны,
Тащатся к вам на вершины
Вагонетки-тараканы.
И с вершин я шелест слышу,
Шепчет осыпь: "Сыпьте, сыпьте,
Громоздите нас превыше
Пирамид в самом Египте".
Может быть, степей просторы,
И сады, и огороды —
Всё схоронится под горы
Отработанной породы?
Нет, конечно! Не придется
Вам столь гордо возвышаться:
Все вопросы производства
Будут иначе решаться.
И скакать по вам не станут
Вагонетки, точно блохи.
Вас едва-едва помянут
В новой, атомной эпохе.
И тогда в своей гордыне,
Терриконы-великаны,
Сгорбитесь вы на равнине,
Разве только как курганы.
Так порой и в человеке
Пропадает всё живое,—
Возвышался в прошлом веке,
А глядишь —
Оброс травою.
1961
Проблема перевода{239}
Я вспомнил их, и вот они пришли. Один в лохмотьях был, безбров и черен. Схоластику отверг он, непокорен, за что и осужден был, опозорен и, говорят, не избежал петли.
То был Вийон
[173]
.
Второй был пьян и вздорен. Блаженненького под руки вели, а он взывал: "Пречистая, внемли! Житейский путь мой каменист и торен. Кабатчикам попал я в кабалу. Нордау Макса
[174]
принял я хулу, да и его ли только одного!"
То был Верлен
[175]
.
А спутник у него был юн, насмешлив, ангелообразен, и всякое творил он волшебство, чтоб всё кругом сияло и цвело: слезу, плевок и битое стекло преображал в звезду, в цветок, в алмаз он и в серебро.
То был Артюр Рембо
[176]
.
И может быть, толпились позади еще другие, смутные для взгляда, пришедшие из рая либо ада. И не успел спросить я, что им надо, как слышу я в ответ:
– Переводи!
А я сказал:
– Но я в двадцатом веке живу, как вам известно, господа. Пекусь о современном человеке. Мне некогда. Вот вы пришли сюда, а вслед за вами римляне и греки, а может быть, этруски и ацтеки пожалуют. Что делать мне тогда? Да вообще и стоит ли труда? Вот ты, Вийон, коль за тебя я сяду и, например, хоть о Большой Марго
[177]
переведу как следует балладу, произнесет редактор: "О-го-го! Ведь это же сплошное неприличье". Он кое-что смягчить предложит мне. Но не предам твоей сатиры бич я редакционных ножниц тупизне! Я не замажу кистью штукатура готическую живопись твою!
А «Иностранная литература», я от тебя, Рембо, не утаю, дала недавно про тебя, Артюра, и переводчиков твоих статью: зачем обратно на земные тропы они свели твой образ неземной подробностью ненужной и дурной, что ты, корабль свой оснастив хмельной и космос рассмотрев без телескопа, вдруг, будто бы мальчишка озорной, задумал оросить гелиотропы, на свежий воздух выйдя из пивной.
И я не говорю уж о Верлене,– как надо понимать его псалмы, как вывести несчастного из тьмы противоречий? Дверь его тюрьмы раскрыть! Простить ему все преступленья: его лирическое исступленье, его накал до белого каленья! Пускай берут иные поколенья ответственность такую, а не мы!
Нет, господа, коварных ваших строчек да не переведет моя рука, понеже ввысь стремлюсь за облака, вперед гляжу в грядущие века. И вообще, какой я переводчик! Пусть уж другие и еще разочек переведут, пригладив вас слегка.
Но если бы, презрев все устрашенья, не сглаживая острые углы, я перевел вас,– все-таки мишенью я стал бы для критической стрелы, и не какой-то куро-петушиной, но оперенной дьявольски умно: доказано бы было всё равно, что только грежу точности вершиной, но не кибернетической машиной, а мною это переведено, что в текст чужой свои вложил я ноты, к чужим свои прибавил я грехи и в результате вдумчивой работы я всё ж модернизировал стихи. И это верно, братья иностранцы, хоть и внимаю вашим голосам, но изгибаться, точно дама в танце, как в данс-макабре
[178]
или контрдансе
[179]
, передавать тончайшие нюансы Средневековья или Ренессанса – в том преуспеть я не имею шанса, я не могу, я существую сам!
Я не могу дословно и буквально, как попугай вам вторить какаду
[180]
! Пусть созданное вами гениально, по-своему я всё переведу, и на меня жестокую облаву затеет ополченье толмачей: мол, тать в ночи, он исказил лукаво значение классических речей.
Тут слышу я:
– Дерзай! Имеешь право. И в наше время этаких вещей не избегали. Антокольский Павел
[181]
пусть поворчит, но это не беда. Кто своего в чужое не добавил? Так поступали всюду и всегда! Любой из нас имеет основанье добавить, беспристрастие храня, в чужую скорбь свое негодованье, в чужое тленье – своего огня. А коль простак взялся бы за работу, добавил бы в чужие он труды: трудолюбив – так собственного пота, ленив – так просто-напросто воды!
1962
«Я куплю себе усы и бороду…»{240}
Я куплю себе усы и бороду,
И переоденусь, и тайком
С черным зонтиком пройду по городу,
Притворяясь старым стариком.
На скамейку сяду, носом клюнувши,
В сквере, где резвятся малыши,
А затем преображусь я в юношу
И расхохочусь от всей души.
Сам не знаю, по какому поводу,
Но всего скорее потому,
Что, напялив и усы и бороду,
Был уверен я, что их сниму!
1962
Томленье{241}
Томленье…
Оленье томленье по лани на чистой поляне;
Томленье деревьев, едва ли хотящих пойти на пол
Томленье звезды, отраженной в пруду,
В стоячую воду отдавшей космическим хвостик пыланья;
Томленье монашки, уставшей ходить на моления против желанья;
Томленье быков, не хотящих идти на закланье;
Томление рук, испытавших мученья оков;
Томленье бездейственных мускулов, годных к труду;
Томленье плода: я созрел, перезрел, упаду!
И я, утомлен от чужого томленья, иду.
От яда чужого томленья ищу исцеленья. Найду!
И атом томленья я всё же предам расщепленью —
С чужим величайшим томленьем я счеты сведу навсегда
Останется только мое,
Но уж это не ваша беда!
1962
Круги по воде{242}
Вдруг
Что-то случилось —
Споткнулось неведомо где,
Подпрыгнув, упало,
Как будто томясь, что взлетело,
И вы разбежались,
Как будто круги по воде,
Как будто от камня,
А может быть,
Мертвого тела.
1962
Над философским словарем{243}
Когда луна
Встает над морем,
Покачивая головой,
Вселенная, о чем мы спорим?
Я вслушиваюсь в голос твой.
Всегда изменчивая, вечно
Горящая в ином огне:
«Я безгранична, но конечна!» —
С угрозою твердишь ты мне.
Но всё же знаю я отлично:
Раскинутая надо мной,
Конечна ты, но безгранична,
И в этом смысл совсем иной.
…Луна плыла, волна дробилась,
И под приморским фонарем
Вселенная со мной склонилась
Над философским словарем.
1962
«Мир, Тот, которым мы владеем…»{244}
Мир,
Тот, которым мы владеем,
Нов!
Он нов,
Как будто взят и перекован
Весь от своих покровов до основ.
До самых недр, до сердцевины нов он!
Обновлены
От бездн и до вершин
И вкус его, и запах, и окраска.
Есть слухи, что при помощи машин
Проделана такая перетряска.
Но, может быть,
И внешний вид людей,
И все эти машины, аппараты
Не более чем просто результаты
Великого могущества идей?
А! Пусть он длится,
Вековечный спор.
Но я лишь за одно могу ручаться,
Что этот мир – он нов до самых пор,
Из коих
Мед,
И пот,
И яд
Сочатся!
1962
«Много еще неясности…»{245}
Много еще неясности
И там и тут.
Всяческие опасности
Нас стерегут.
Но я не заметил ненависти
К себе нигде,—
Надо лишь откровенно вести
Себя везде;
Надо лишь неизменно идти
Тропой своей,
Чтобы и через стены пройти
С толпой друзей;
Надо самозабвенно грести
Своим веслом,
Так, чтоб всю пену ненависти
С волны снесло —
В бешеном мире зыбкости,
Где бьют в глаза
Брызги соленой жидкости:
Кровь, пот, слеза!
1962
Настоящее мгновенье{246}
Нет
Ничего
Тебя виднее,
О настоящее мгновенье!
Но, кажется, всего труднее
Определить твое значенье.
Иной
Вперед
Глядит со страхом,
Себя сомнениями муча:
А вдруг возьмет и канет прахом
Наставшее благополучье?
И в рассуждении былого,
Морщинистого и седого,
Не хочет он сказать ни слова
Хорошего или худого.
Томятся робкие сердечки
Перед часами, на которых
Звучат секунды, как осечки,
И хорошо – не вспыхнет порох.
И раздаются песнопенья:
"Будь так любезно, сделай милость,
О настоящее мгновенье,
Не утверждай, что ты свершилось!"
1962
«Знаешь, Почему мне удаются…»{247}
Знаешь,
Почему мне удаются
Переводы с польского – Словацкий
[182]
,
Лирика его и драмы?
…Это было еще до революции.
Вспоминаю город азиатский
[183]
;
Этот северо-восточный ветер,
Проникавший сквозь двойные рамы
В бани, в храмы, в церкви и мечети,
И в костел, в малюсенький костелик,
Созывавший дребезжащим зовом
Этих полек…
Помню этих полек —
Экономку в домике ксендзовом
И других заядлых католичек,
Губы сжаты, а глаза стеклянны,
И немало помню детских личек.
Я, конечно, был еще ребенок
И не задавал себе вопросы,
Почему над кровлями избенок
Этот шпиль готический вознесся;
Не гадал я, по какой причине,
Преисполнены печали,
Далкие обрывочки латыни
Изнутри костелика звучали;
Я не знал ни о каких восстаньях
И ни о каких не ведал судьях,—
Знал я о Викториях и Франях
И отцах их, мирных добрых людях,
И не ощущал, что это – внуки
Каторжных и ссыльнопоселенцев.
А Словацкий мне попался в руки
Много позже. Он не для младенцев.
1962
Небесный купол{248}
А всё же
Есть небесный купол —
Из радиации футляр!
Как странно,
Что его нащупал
Мечтатель древний, и за шар
Еще земли не принимая,
Воображая, что – плоска,
Но всё же ясно понимая:
Есть нечто вроде колпака.
Вот он,
Людской бессмертный разум:
Есть эта сфера, путь лучей,
Чтоб старчески-ребячьим глазом
Понять не сразу суть вещей
И свода тусклое мерцанье
Отвергнуть, а затем принять,
Как отрицанье отрицанья…
Да как за это и пенять!
1962
Простота{249}
Ты
От меня
Желаешь простоты,
И хочешь ты, чтоб у твоих я ног
Как полевые расцветал цветы,
А ты из них вила себе венок.
О, мудрая действительность сама
С биеньем механическим в груди,
Речей ты этих и не заводи —
Мне кажется, что я сойду с ума!
Но ты любезно говоришь:
«Сойди!»
Вот именно того я и хочу —
Безумия, священного огня! —
И снова я в ответ тебе кричу:
"Ты простоты желаешь от меня!
И этого ты требуешь сейчас,
Когда земли меняется лицо,
И из ноздри последнее кольцо
С улыбкой изымает папуас,
И дьявольски разумные черты
Приобретают облики машин…
Ты от меня желаешь простоты!"
И мне на это отвечаешь ты:
"Да!
Только так доходят до вершин!"
1962
Старые времена{250}
Думаешь —
Раньше
Спокойней жилось?
Да перестань же!
Наивничать брось!
Идиллии Феокрита
[184]
?
А знаешь ли, в чем тут собака зарыта
Кризис аграрный!
Дафнис и Хлоя
[185]
?
Но ведь и Лонг вспоминал про былое?
А шатобриановские дикари
[186]
?
Разве такой была американская явь!
Всё навыдумывал он, черт побери.
Словом, что ты ни говори,
А я не поверю. Оставь!
Так уж всегда толковать повелось:
Прежде, мол, лучше, чем нынче, жилось!
Хорошо, хорошо
Жил с пастушкой своей пастушок!
Хорошо, хорошо, что не стерли тебя в порошок,
Уцелел, не погиб, в неприятность не влип,
Не пропал ни за грош,
Никуда не попал за здорово живешь!
Ведь, куда ни взгляни ты и где ни копни —
Натыкаешься всюду на череп и кость,
А говоришь,
Что в былые дни
Лучше жилось,
Спокойней жилось!
1962
«Сначала В облачный сосок…»{251}
Сначала
В облачный сосок
Всосалось взвинченное море.
Вся масса
Кинулась в бросок
Со взморья прямо на предгорья.
И смерч
Рассыпался в горах…
А вы,
Лежавшие на пляже,
Смотрели.
Это был не страх,
И не было волненье даже.
До вас всё это не дошло.
Поймите! Мимо протащило.
А сколько крыш к чертям снесло
И радио не сообщило!
Смерч
Шел, невесть на что гневясь,
Не ваши страсти в нем кипели.
А если б
Он пошел на вас —
Ну вот тогда бы вы запели!
1962
«Одни Ворчат мне…»{252}
Одни
Ворчат мне:
«Будь умней!»
Другие просят:
«Будь наивней!»
Одно другого мудреней…
Одни
Вопят:
«Сердитей будь!»
Другие стонут:
«Будь сердечней!»
Как будто бы хотят мне грудь
Раздуть,
Как некий мех кузнечный.
Иные —
Можно ль их винить! —
Задумали
Непогрешимой
Кибернетической машиной
Мне голову заменить.
А я
Таков, каков я есть.
Я знаю, уяснил давно я:
Одни
Хотят одно прочесть,
Другие же -
Совсем иное!
Но
Делаю я,
Что хочу,
За то меня земля и терпит:
Как молот, бью,
Как серп, блещу
И трепещу,
Как лунный
Серпик.
1962
В ядре{253}
Ты
Хороша,
Ты молода,
Моя прекрасная Земля.
Пускай
На солнце иногда
В отчаянные холода
Все шестьдесят ниже нуля,
Но сколько градусов в тени,
Внутри тебя, в твоем нутре?
Ты отвечаешь:
"Загляни,
Что делается в ядре!"
Земля!
А может быть, пошло
На убыль древнее тепло?
А может быть, наоборот,
Оно растет из года в год,
День ото дня в твоей груди?
Ты отвечаешь:
«Погляди!»
Ты говоришь мне:
"Посмотри,
Что делается внутри,
Внутри мороза и огня,
Внутри тебя, внутри меня!"
1962
Успокоился воздух{254}
Успокоился воздух,
И дубравы, и нивы…
Только где-то на звездах
Какие-то взрывы.
На земле уже нет их,
И довольно, не надо!
Лишь на дальних планетах
Звучит канонада.
На земле нашей тоже
Так бывало когда-то —
На груди ее лежа,
Умирали солдаты,
Догорали селенья,
Вился пепел угасший…
"Это были мгновенья,
Предыстории нашей!" —
Так бы крикнуть хотелось,
Что от всяких напастей
Прочь Земля отвертелась
И в беду не попасть ей.
Успокоился воздух,
Успокоились воды…
Только где-то на звездах
Воюют народы,
Города догорают,
Стреляют орудья
И невинных карают
Неправые судьи.
1962
Сила тяжести{255}
Не грезится,
Я этого не выдумал,
А то и дело в руки лезут мне
Предметы, вещи тяжести невиданной,
Не соответствующей их величине.
Ведь иногда
Ложится у чернильницы
И лист бумажный, как свинцовый пласт,
И не пойму, во что всё это выльется,
И помощи никто тут не подаст.
Да и перо
Такой огромной тяжести
Оказывается иногда в руках,
Что еле движется оно и кажется,
Что ничего не скажется в строках.
Бывало так
И с разными подарками —
Не сдвинул с места даже я иных,
Так и оставил где-нибудь под арками
И в темных нишах разных стран земных.
Так тяжелы
Находки были многие,
Что даже не решался их нести,
А оставлял до срока у дороги я,
Но в жизни нет обратного пути.
Все эти вещи
Тяжести немыслимой,
Порой как будто даже неземной,
Обуглены, заржавлены, окислены,
Как и сейчас лежат передо мной.
Но это всё
Не с неба всё же валится,
А зародилось на земле сырой.
Гут можно удивляться и печалиться,
Но я привык. И кажется порой:
Он попадется
В руки мои длинные,
Рычаг, такой весомости предмет,
Что, понатужась, Землю с места сдвину я
Чего не мог и мудрый Архимед
[187]
.
1962
Взрыв{256}
Мне,
По существу, у Айвазовского
Нравится одна картина – «Взрыв»
[188]
За день до кончины Айвазовского
Начата,– наутро не был жив.
Он ее бы зализал, наверное,
Если бы не умер. И она,
Думаю, что мне бы не понравилась,
Если бы была завершена.
Но, незавершенное, завещано
Мне оно и будущим векам.
Это будто яростная трещина —
Так вот извергается вулкан.
Это не корабль, а мироздание
Рушится на жестком полотне.
И незавершенное создание:
«Берегись!» – напоминает мне.
Руки, дрогнув, кисть к чертям отбросили.
Озарила мглу глубокой осени
Бездна взрыва, бледное пятно.
…Съездите однажды в Феодосию
Посмотреть на это полотно.
1962
Камни{257}
После
Сумрачной полночи
Утро выдалось солнечное.
Мы вскочили в такси
И помчались подальше от города
На быструю Истру.
Мчались мы по Руси,
Миновали Рублево,
За Барвихой свернули налево и взяли направо
А потом
За деревней Петрово
Мы закончили путь на картофельном поле.
Это поле
Невольно заставило вспомнить былины:
Величавые камни на нем так печально торчали.
Первый камень похож был на оттиск ступни исполина,
А второй походил на тяжелую голову гнома.
Было много еще и других.
Крылось в них что-то мощное, но и что-то беспомощное,
Что-то древнее вечное
,
будто бы предчеловечное,
Смыслом еще не отмеченное
Но уже искалеченное, искособоченное.
Я взирая на них,
Ни о чем не спросил агронома.
Но, с трудом
Отшвырнув
Гладкий камень, похожий на кость великанши,
Сам сказал агроном:
"Это то, что исчезнет не раньше,
Чем его уберут. Нужен труд здесь и труд!
Ибо эти поля под картофелем и под морковью
Основательно засорены
Ледником, что когда-то, дойдя до равнин Подмосковья,
Много всяческой всячины нес, в том числе – валуны".
Да! Вот они, последнего оледененья следы.
Будем думать: сюда не вернутся уже никогда
Скандинавские льды.
Приближалась прополочная,
В ожиданье страды
Зеленели кругом огороды, сады беспечальные.
За деревней Петрово-Дальнее
[189]
Золотились пруды.
Будто вместо воды
Наполняло их масло подсолнечное.
После
Сумрачной полночи
Утро выдалось солнечное.
(1963)
«Мои Товарищи, Поэты…»{258}
Мои
Товарищи,
Поэты,
Вы
Быль и явь
И тайный знак,
Любые времени приметы
Читать умеете ли так,
Как Ленин свежие газеты
Читал в Разливе у костра?
Мне
Кажется:
У нас,
Поэты,
Мысль
Недостаточно
Остра!
1963
Стикс{259}
Пещера
Закоптела от свечей
И факелов. Я выпачкал ладони.
Рассеянно, не слушая речей
Ни об Аиде и ни о Хароне
[190]
,
Я наблюдал, как Стикс
[191]
лился во мрак.
Но постепенно с обстановкой свыкся.
И, может быть, не следовало так,
А все-таки
Я руки вымыл в Стиксе.
Я в Стиксе вымыл руки.
Утекла
По Стиксу копоть факельно-свечная.
Отмыл я в Стиксе руки добела,
И часто я об этом вспоминаю.
И где бы ни был я, куда б ни плыл,
Какие бы на свете Рубиконы
[192]
,
В конце концов, я ни переходил,
Каким бы прорицаниям Сибилл
Я ни внимал,– глядели благосклонно
Все божества:
«Он руки в Стиксе мыл!»
1963
На берегу{260}
На берегу
Я человека встретил,
На берегу морском;
На берегу, где ветер так и метил
Глаза мои запорошить песком;
На берегу, где хмурая собака
Меня обнюхала; а с вышины,
За мной следя, таращился из мрака
Своими кратерами шар луны;
И фонари торчали, как на страже,
Передо мною тень мою гоня…
А человек не оглянулся даже,
Как будто не заметил он меня.
И я ему был очень благодарен —
Воистину была мне дорога
Его рассеянность. Ведь я не барин,
И он мне тоже вовсе не слуга.
И нечего, тревожась и тревожа,
Друг дружку щупать с ног до головы,
Хоть и диктует разум наш, что всё же
Еще полезна бдительность, увы!
1963
Перевод с греческого{261}
И если
Видится
Мне облик грека,
То вспоминается не век Перикла
[193]
,
Но Греция двенадцатого века,
Которая увяла и поникла,
Когда погрязли в скверне византийцы,
И рушилась Империя
[194]
,
И часто
Какие-нибудь воры и убийцы,
Смеясь, кичились званием себаста
[195]
,
Когда в Афинах византийский мистик
Всё попирал, что дорого и свято…
Но лучшая из всех характеристик
Эпохи той – стихи Акомината;
Стихи Акомината Михаила
[196]
,
Плач об Афинах, так назвать их, что ли..
Я перевел их, как умел.
Их сила —
Отчаянье, заряд душевной боли.
Вот замерший в Акрополе
[197]
пустынном
Вопль под названием:
Любовь к Афинам
"Любовь к Афинам это начертала…
Их слава, что когда-то так блистала,
Теперь играет только с облаками,
Своих порывов охлаждая пламя
В тени руин. Не встанет перед взором
Величие былое, о котором
Вещало поэтическое племя.
Вожак эонов
[198]
, мчащееся время
Сей город погребло под грудой сору
Среди камней, катящихся под гору.
И на ужаснейшее из страданий —
На муки безнадежных пожеланий —
Я обречен. Глаза бы не глядели
На то, что есть теперь на самом деле.
Иным еще попытки удаются
Иллюзией какой-то обмануться,
Чтоб встретиться, хоть с дружественным
А я в своем несчастии великом
Сравнюсь лишь разве только с Иксионом
[199]
Как он когда-то в Геру был влюбленным,
Так я – в Афины; но, влекомый к Гере,
Хоть тень блестящую, по крайней мере,
Он брал в свои объятия. Увы мне!
Что воспевать могу я в этом гимне?
В Афинах обитаю, но в Афинах
Афин не вижу. Даже на пустынных
Развалинах, и их скрывая прелесть,
Лег жуткий прах. Куда же храмы делись?
Град бедственный! Как сгибло всё? Где скрылось?
Как всё в одно преданье превратилось?
Где кафедры ораторов? Где люди
Высокочтимые? Где суд и судьи,
Законы и народные собранья,
Подача голосов и совещанья,
И праздники, и пифий вдохновенье?
Где мудрость стратегов в морском сраженье?
Где сухопутных войск былая сила?
Где голос муз? Погибель поглотила
Все доблести, присущие Афинам.
Они не оживают ни в едином
Биенье сердца. Нет и ни следа в них,
В Афинах, от достоинств стародавних!"
…И новый смерч прошел над этим тленом,
О матерь божья, стало еще плоше
Твоим Афинам, сделавшимся леном
[200]
Какого-то Оттона де ля Роша
[201]
.
Он герцогом афинским и фиванским
Назвал себя, бургундец нечестивый,
Когда достались крестоносцам франкским
И Неопатры, и Коринф, и Фивы
[202]
!
1953, 1963
«Тысяча девятьсот пятый…»{262}
Тысяча девятьсот пятый —
Год рожденья моего!
Я не помню ни его набата,
Ни знамен и ни икон его;
И не помню, как экспроприатор
Вырывался из своей петли,
И того, как юный авиатор
Отрывался от сырой земли.
Где-то гибли, где-то шли на приступ,
Воздвигались новые леса.
Где-то Ленин целился в махистов
[203]
,
В глубь вещей Пикассо
[204]
ворвался,
Циолковский
[205]
вычислял ракету,
Затрудняясь прокормить семью,
И Эйнштейн
[206]
, еще неведом свету,
Выводил уж формулу свою.
Вот что над моею колыбелью
Колебалось, искрилось, лилось.
И каких бы стрел я ни был целью, '
Сколько б их мне в тело ни впилось
Сколько б трав ни выпил я целебных
На каком бы ни горел огне —
Всё же сказок никаких волшебных
Нянька не рассказывала мне.
1963
Абрамцево{263}
Мы,
Ольга,
Привезли вам
Всякой всячины,
Но погодите накрывать на стол.
За дачами,
Среди листвы взлохмаченной,
Я рукопись Аксакова нашел,
Автографы Тургенева и Гоголя,
Да мало ли чего там есть еще!
Ночами не у вашего порога ли
Славянофилы
[207]
спорят горячо?
Но ты не грезишь ни славянофилами,
Ни западниками
[208]
. Так пойдем же в лес.
Из древних зарослей ты посох выломи,
Чтоб Васнецов какой-нибудь воскрес
И проявились признаки нетленного
В зеленом тлене, привлекавшем здесь
Серова, Нестерова и Поленова!
Но ты не грезишь этим. И не грезь!
Ты слышишь: просит, чтоб ее пригубили
Ключа животворящая струя.
Ценнейшими майоликами Врубеля
[209]
Забито русло тихого ручья.
Сгущается, насыщенная звездами,
Луной и солнцем, рыжая бурда.
С обломками керамики несозданной
На дачу возвратишься ты, горда.
Они валяться будут там до осени:
Домой их не захватишь – тяжело,
Да и поставить негде. Но авось они
Здесь уцелеют. Лишь бы повезло!
Так и останется лежать на столике
Луны и солнца целая гора.
Ты, Ольга, разбираешься в майолике?
Ну, до свиданья!
Нам домой пора.
1963
«Не грозят мне Ни топор, ни плаха…»{264}
Не грозят мне
Ни топор, ни плаха,
И ни ночью, ни средь бела дня
Ощущения вины и страха
Не охватывают меня.
То есть, впрочем,
Чувствую вину я,
И, пожалуй, даже и свою,
Что людей не слишком я волную
И довольно сладко я пою.
Да и страх,
Порою и жестокий,
Дикий я испытываю страх,
Что не очень годен я в пророки,
Погибающие на кострах.
В остальном же
Парень я рубаха
И испытываю лишь во сне
Ощущения вины и страха,
Наяву несвойственные мне.
1963
Деревня{265}
Сто тысяч окон…
Впрочем, нет, не сто,—
Мильоны окон светятся во мгле.
Так никогда не строили никто
На этой цепкой, глинистой земле.
Она известна, древность этих мест!
Я помню, как пылился здесь лопух.
Вот где-то тут куриный был насест,
А где-то тут искал зерно петух.
И кажется, что, где я ни копну,—
Везде увижу мокрую копну,
Трухлявость изб, глаголицу
[210]
плетней,
Еще щербата от худых копыт,
Земля под тротуарами лежит
Здесь подо мной.
Нет!
Масса старых пней
И множество иссохших корневищ
Остались в ней.
Но в глубине жилищ,—
А обитает в них рабочий люд! —
Вы скажете, деревни этой нет?
О, есть она!
Взгляните: там и тут
В зеркальных окнах маково цветут
Клубничный и картофелевый цвет.
Вот именно: девчонка-курнофля,
Шубейка-бабка, этот старый дед
В серебряных сединах ковыля —
Отчетливейший, явственнейший след
На лицах их оставила земля.
Я говорю:
В домах живут поля,
А иногда дремучие леса,
Роса и голубые небеса.
И с высоты седьмого этажа
Деревня, не совсем как госпожа,
Но в то же время вовсе не раба,
Глядит на город. Вот ее судьба!
И, в общем,
Весела-невесела
Судьба такого бывшего села,
Но всё ж земле ее былую тишь
Не возвратишь.
Ночной гудрон
И шелестенье шин…
Законный ход вещей ненарушим,
Хоть и вздыхает, кто его вершит,
Но что ни час,
То явственней шуршит,
Шуршит земля, пшеничный твой венец,
Чьи усики как стрелки на часах.
Конечно,
Всё на свете наконец
Уравновесится, как на весах!
1963
«Я, конечно, тоже недоволен…»{266}
Я, конечно, тоже недоволен
Очень многим и самим собою,
Как бывает человечный воин
Недоволен продолженьем боя,
Тем, что надобно еще сражаться,
А не мира диктовать условья…
Очень тяжело распоряжаться
И своею
И чужою
Кровью.
1963
«Накапливается масса дел…»{267}
Накапливается масса дел.
Они торопят и не ждут,—
Кого обул, кого одел,
Живет в достатке добрый люд.
А помыслами овладел?
Да, овладел. И наконец
Проделал вещь еще одну:
Затронул тайную струну
Так называемых сердец.
Затронул ты ее, задел.
И это не напрасный труд,
И слышно, как сердца поют…
Но есть ли помыслам предел!
1963
Я поднял стихотворную волну{268}
Я поднял стихотворную волну,
Зажег я стихотворную луну
Меж стихотворных облаков
И вот решил: "Теперь возьму засну,
Засну теперь на несколько веков!"
Но я забылся не на сотни лет,
А стихотворный заблистал рассвет,
И не в мою он даже честь вставал,
А величайший наступил расцвет
Всего того, что я предсоздавал.
И будь я даже в сотни раз сильней —
Не мог бы на минуту хоть одну
Пресечь теченье стихотворных дней,
Объявших стихотворную страну!
Великие{269}
О крохотные бюстики великих,
Ни на вершок не сдвинутые с места!
Как благонравен коллективный лик их,—
Из одного как будто слеплен теста.
Как все они старательно учились,
Своим родителям повиновались,
Прилично, не крикливо одевались,—
Вот потому из них и получились
Такие, чтобы ими любовались.
И в умиленье от таких рассказов
Под бюстиком сияет пьедестальчик.
О, как я ненавижу богомазов!
«…И Маяковский был примерный мальчик!»
1963
Старые поэты{270}
Мы
Старые поэты,
Нас по счету
Не меньше, чем поэтов молодых.
От нас никто не требует отчета —
Ни от морщинистых, ни от седых.
Мы
Старые слова
Перебираем,
Что повторяли много-много раз,
И иногда мы будто умираем,