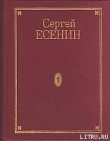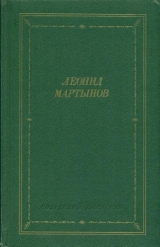
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Леонид Мартынов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц)
И косится Солнце, и за Каменным
Беспрепятственно садится мостом.
("Каждый раз")
Стихотворение, написанное в духе художественных видений Гойи, разрешается деловой и слегка иронической концовкой.
Вот почему те или иные мистификации Леонида Мартынова всегда как бы опровергаются, как бы возвращают нас на нашу землю. И мы, его читатели, вновь слышим гудки заводов, шум пролетающих самолетов, видим иной вечерний закат, который "сквозь ясное окно проемы лестниц озаряет…". И это обратное превращение фантазии в реальность неизбежно, ибо, как говорит поэт:
А жизнь идет, а жизнь идет,
Дела по-своему решая!
("Хронос, сын Урана")
В новелле "Исповедь читателя", как это вообще характерно для Леонида Мартынова, рядовое сопрягается с исключительным, обычное с необыкновенным, земное со вселенским. Правда, здесь самым обычным и вроде бы рядовым читателем предстает перед нами лирический герой новеллы. Впрочем, нет надобности пересказывать ее содержание. Но вот что мы узнаем на последних страницах мартыновской прозы. Вся соль, по мнению лирического героя, заключается в том, что жизнь на Земле – не случайность, она не занесена из космоса с метеоритной пылью, а наша земная собственная закономерность! А с другой стороны, это сложный, Длительный, высокодраматический процесс формирования жизни, развивающейся на Земле, должен, по мысли героя, обязательно должен привести к победе порядка над беспорядком, гармонии над хаосом, разума над безумием. И это должно осуществиться, добавляет Леонид Мартынов, пусть не сразу, но везде, всюду и в конце концов – в глобальных масштабах.
До последних дней жизни – Мартынов неожиданно скончался от инсульта 21 июня 1980 года – думы о судьбе европейской культуры глубоко волновали поэта. Он считал себя – и не без оснований – причастным к ней, он верил в ее будущее и завещал свою веру нам. Этот завет звучит тем более значительно и весомо, если вспомнить, что длительное время Леонида Мартынова считали человеком "не от мира сего". Нет, он был именно "от мира сего". Это Леонид Мартынов спасал книжные сокровища Омска, был оперативным журналистом, землепроходцем, ученым-филологом, видным переводчиком, выдающимся мастером художественного слова. За свои заслуги в области литературы Леонид Мартынов был удостоен высокого звания лауреата Государственных премий СССР и РСФСР, за книги стихов "Гиперболы" (1972) и "Первородство" (1965) награжден орденами и медалями. Но прежде всего и главным образом он был человеком, ощутившим себя Словом, если вспомнить здесь изречение Андрея Белого.
Потребность в поэтическом самовыражении доходила у Леонида Мартынова до одержимости. Он любил жизнь, любил во всей ее полноте и противоречивости. Не случайно в его поэзии многократно звучит мотив "жизни живой" и говорится о ее постоянном обновлении.
"Все, что обычно начиналось,– кончается необычайно!" ("Концы и начала") – вот поэтический афоризм, выражающий суть мировосприятия поэта. В самой творческой биографии Леонида Мартынова многое было "не как у всех". В первую очередь это относится к его поэзии, в которой предельная сила лирического самовыражения сочеталась с эпической силой его ищущей, обобщающей мысли. И еще: высший пик его творческих свершений падал не на молодые, не на 20-е, а на последующие годы, на вторую половину нашего столетия. Вот почему и надо сказать прямо: Леонид Мартынов – поэт, определивший облик середины двадцатого века.
Валерий Дементьев
СТИХОТВОРЕНИЯ
Стихотворения,
вошедшие в прижизненное собрание сочинений
«Выдвинутые подбородки…»{2}
Выдвинутые подбородки,
Суковатые кулаки…
Это было в рабочей слободке
Над гранитным бортом реки.
Сцапали фараона:
[1]
«А ну-ка сюда волоки!»
Нынче не время оно
Над гранитным бортом реки.
И разговор короткий —
Слова не говоря…
Это было в рабочей слободке
В пламени Октября,
Там, где туман, витая,
Плыл над волной реки,
Старых архангелов стаю
[2]
Пряча на чердаки.
1920
Провинциальный бульвар{3}
Провинциальный бульвар. Извозчики балагурят.
Люди проходят, восстав от сна.
Так и бывает: проходят бури
И наступает тишина.
Что из того, что так недавно
Стыли на стенах кровь и мозг!
Толстые люди проходят плавно
Через бульвар, где истлел киоск.
Что из того, что разрушенных зданий
Ясные бреши на восток!
Кончились, кончились дни восстаний,
Членовредительства и тревог.
И только один, о небывалом
Крича, в истрепанных башмаках,
Мечется бедный поэт по вокзалам,
Свой чемоданчик мотая в руках.
1921
«Мы – футуристы невольные…»{4}
Мы – футуристы невольные
Все, кто живем сейчас.
Звезды остроугольные —
Вот для сердец каркас!
Проволока колючая —
Вот из чего сплетены
Лавры благополучия
После всемирной войны.
Отгородимся от прошлого,
Стертого в порошок,
Прошлого, былью поросшего,
Скошенного под корешок.
Разве что только под лупами
Станет оно видней…
Пахнут землей и тулупами
Девушки наших дней.
1921
Алла{5}
Вы уедете скоро. У платформы вокзала
Будет биться метель в паровозную грудь.
Улетая, завьюжится талая муть.
Я назад возвращусь, спотыкаясь о шпалы.
Рыжеокая девушка, белая Алла,
Не забудьте, кончая намеченный путь,
Сквозь окошко вагона свой стан перегнуть,
Удивляясь, как быстро Сибирь убежала.
И, взлетая на черную спину Урала
И спускаясь в долину голодных смертей
[3]
,
Вспоминайте о том, как простились устало
Мы с больными улыбками умных детей,
Чтобы встретиться вновь в суете карнавала
Под веселыми масками старых чертей.
1921
«Позднею ночью город пустынный…»{6}
Позднею ночью город пустынный
При бертолетовых вспышках зимы
[4]
.
Нежная девушка пахнет овчиной,
И рукавички на ней и пимы.
Нежная девушка новой веры —
Грубый румянец на впадинах щек,
А по карманам у ней револьверы,
А на папахе алый значок.
Может быть, взять и гранату на случай?
Памятны будут на тысячи лет
Мех полушубка горячий, колючий
И циклопический девичий след.
1922
Серый час{7}
Серый час был мутен и обманчив,
И хотелось закричать кому-то:
"Помогите! Я уже не мальчик,
Заблудился в поисках уюта!"
Но из полумрака отвечало
Лунное морщинистое рыло:
"Что же! Удивительного мало!
И меня туманами закрыло".
И пошли смеясь мы и ругаясь,
И туман куда-то в водостоки
Уползал, клубясь и содрогаясь,
И вставало солнце на востоке.
1922
«Между домами старыми…»{8}
Между домами старыми,
Между заборами бурыми,
Меж скрипучими тротуарами
Бронемашина движется.
Душки трепещут за шторами,-
Пушки стоят на платформе,
Смотрит упорными взорами
Славный шофер – Революция.
Руки у ней в бензине,
Пальцы у ней в керосине,
А глаза у ней синие-синие,
Синие, как у России.
1922
Воздушные фрегаты{9}
Померк багряный свет заката,
Громада туч росла вдали,
Когда воздушные фрегаты
Над самым городом прошли.
Сначала шли они как будто
Причудливые облака,
Но вот поворотили круто —
Вела их властная рука.
Их паруса поникли в штиле,
Не трепетали вымпела.
"Друзья, откуда вы приплыли,
Какая буря принесла?"
И через рупор отвечали
Мне капитаны с высоты:
"Большие волны нас качали
Над этим миром. Веришь ты —
Внизу мы видим улиц сети,
И мы беседуем с тобой,
Но в призрачном зеленом свете
Ваш город будто под водой.
Пусть наши речи долетают
В твое открытое окно,
Но карты, карты утверждают,
Что здесь лежит морское дно.
Смотри: матрос, лотлинь
[5]
распутав,
Бросает лот во мрак страны.
Ну да, над вами триста футов
Горько-соленой глубины!"
1922
Рассмейтесь{10}
В белых яблонях сокрыт ваш дом,
И, грустя, что наши встречи редки,
Я у яблонь все сухие ветки
Длинным обрубил ножом.
Дорогая, слышал я не раз,
Что поблек завидный ваш румянец,
Что какой-то жалкий оборванец
Молодость украл у вас.
Вы рассмейтесь, если это ложь.
Ну, а если это правда злая,—
Вы подайте голос, дорогая:
Длинный у меня есть нож.
1922
Сонет{11}
Я шел по лысинам и спинам горным
В мою Европу прямо на закат,
И звезды в небе азиатски-черном
Мерцали, как глазенки киргизят
[6]
.
А после в городе, большом и сорном,
Тебя я встретил, европейский брат
[7]
,
В далеком прошлом тоже азиат
[8]
,
Но днесь охвачен рокотом моторным.
Да, раньше ты пришел на сотни лет,
Но друг за другом мы кружили вслед,—
Об этом-то преданья и векуют.
И классикам вы верьте не вполне,
Ведь мне о вас, а вам и обо мне
Они не знают сами, что толкуют.
1923
Балхаш{12}
Я помню зной того степного края,
Безветрие и дьявольскую сушь.
Я плелся по горбам Тарбагатая
[9]
И воду пил из горьких теплых луж.
И в тех же лужах я мочил отрепья,
Чтоб хоть на час оставил мучить зной.
К тебе, Балхаш, я пробирался степью,
И вот ты встал зеленою стеной…
О, как грохочет вал, встающий дыбом
На жирном ослепительном песке!
Как хорошо плескаться сонным рыбам,
Когда гроза грохочет вдалеке!
1923
Нежность{13}
Вы поблекли. Я – странник, коричневый весь.
Нам и встретиться будет теперь неприятно.
Только нежность, когда-то забытая здесь,
Заставляет меня возвратиться обратно.
Я войду, не здороваясь, громко скажу:
"Сторож спит, дверь открыта, какая небрежность!
Не бледнейте, не бойтесь! Ничем не грожу,
Но прошу вас: отдайте мне прежнюю нежность".
Унесу на чердак и поставлю во мрак,
Там, где мышь поселилась в дырявом штиблете.
Я старинную нежность снесу на чердак,
Чтоб ее не нашли беспризорные дети.
1924
Элегия{14}
О, не в тайгу б пошел искать я рай,
Не Ева ты, я не Адам нагой,
Но помолчи и отдышаться дай,
Ведь я пришел к тебе, а не к другой.
Тяжелый запах ты сейчас вдохнешь,
В нем будет всё – и паровозный дым,
И сырость трюма. Револьвер и нож
Я суну под подушку. Помолчим.
Мир озарен Полярною звездой,
За окнами упругий снежный хруст.
Ты поцелуя теплою водой
Напой меня из приоткрытых уст…
Прощай, хозяйка губ своих и плеч!
Забудешь или память сохранит:
В осенний час соседний мир поджечь
Я улетел в потоке леонид
[10]
.
1924
Сирены{15}
Опять вода идет на прибыль.
Плывет челнок мой, непричален.
И не поймешь: сирены, рыбы ль
Глядят сквозь щелочки купален.
Я вспомнил случай с рыбаками:
Услышали сирен ли, рыб ли,
Но с распростертыми руками
Метнулись за борт и погибли.
Такой конец неинтересен —
Идти ко дну, теряя разум.
Но видеть их, не слыша песен,
Доступно только водолазам.
Но ведь и эти водолазы
Не одинаковы, а разны:
Одни – ужасные пролазы,
Другие – вдохновенно праздны.
Один готов схватить сирену
Рукой, которая намокла,
Другой лишь поглядит смиренно
Сквозь затуманенные стекла.
А вот возьму сейчас разденусь
Да ринусь головою в воду:
Авось я никуда не денусь,
А плавать я умею сроду.
1924
«Наш путь в тайгу. И этот дальний путь…»{16}
Наш путь в тайгу. И этот дальний путь
Не верстами – столетьями я мерю.
Вооруженный, чувствую я жуть
И чувствую огромную потерю.
Давно исчезли за горбом земли
Завоевания столетий многих.
Лишь крестики часовенок убогих
Торчат кой-где, чтоб мы их не нашли.
Селенье. Крик младенцев и овец,
От смрада в избах прокисает пища.
Будь проклят тот сентиментальный лжец,
Что воспевал крестьянское жилище!
Я думаю о нем как о враге,
Я в клочья разодрал бы эту книгу.
Я человек – и никакой тайге
Вовек не сделать из меня шишигу
[11]
.
1925
Голый странник{17}
О, знаю я, что постепенно
Твердь
[12]
снова станет голубой,
Студеная осядет пена
И дым подымет хвост трубой.
…Все магистрали и поселки
Тонули в бездне снеговой,
Когда возникли эти толки
О голом призраке. Впервой
Он появился на руинах
Старинных зданий, а потом
Он, для смятенья душ невинных,
В пространстве будто бы пустом
Ускорил шаг среди метели,
И все, кому являлся он,
Божились, что бредет без цели,
Простоволос и обнажен.
Но ведь и мы его встречали,
И согласись, что я и ты
Как будто и не замечали
Его ужасной наготы.
Кто он? Наследие ль военных
Жестоких лет, когда враги
Зимою раздевали пленных
И говорили им: «Беги!»
А может быть, безумец гордый,
С природою вступивший в бой
И подчинивший воле твердой
Морозы, равно как и зной?
К чему гадать! На горном кряже
Всё крепче ледник голубой.
Рождает всякие миражи
Зимы отчаянный прибой.
Но и в кипенье этом белом,
Сияньем снежным опален,
Я чувствую душой и телом:
Жив этот странник – Аполлон!
1925
Грусть{18}
Ночь. Чужой вокзал.
И настоящая грусть.
Только теперь я узнал,
Как за тебя боюсь.
Грусть, это – когда
Пресной станет вода,
Яблоки горчат,
Табачный дым как чад.
И как к затылку нож
Холод клинка стальной
Мысль, что ты умрешь
Или будешь больной.
1925
Гипнотизер{19}
Кто зовет меня:
«Вернись, вернись!»
Ропот чей доносится из мглы?
Неужели это бьют о мыс
Пенные тяжелые валы?
Водоросли,—
Век они росли! —
Выплыли и на берег легли,
Обвились они вокруг коряг:
"Мы тебя бы так не оплели,
Не тебя опутали бы так!"
Очень нежная морская соль
Шепчет мне, мерцая и лучась:
"Я б тебе не причинила боль
Острую, такую, как сейчас!"
Опустил я парус у озер,
Двух озер великой глубины,
Где приливы и отливы – вздор,
Несогласный с фазами луны.
И гляжу по целым я часам
В глубину сверкающих озер.
Никогда бы не поверил сам,
Что такая ты гипнотизер!
1925
Сахар был сладок…{20}
С гор, где шиповник турецкий расцвел,
Ветер был сладок и жарок.
Море лизало сверкающий мол,—
Сахар сгружали мы с барок.
Ты понимаешь?
Грузить рафинад!
Легкое ль это занятье?
Сладко! Но сотню красавиц подряд
Ты ведь не примешь в объятья!
Позже ходили мы к устью реки
К рыбницам Нового порта
[13]
.
Грузчиков не было. С солью мешки
Сами сгружали мы с борта.
Стал, как китайский кули
[14]
, весь бел,
Руки изъело и спину.
Долго потом я на соль не глядел,
Видеть не мог солонину.
Сахар был сладок,
И соль солона.
Мы на закате осеннем
Вспомним про то за бутылью вина,
Прошлое снова оценим.
Время уходит!
Тоскуй, человек,
Воспоминаньями полон,—
Позднею осенью падает снег,
Тает, не сладок, не солон.
Ну-ка, приятель, давай наливай!
Тает, не сладок, не солон…
1925
Норд-ост{21}
Я, норд-ост, родился в тундре,
Но ее покинул вскоре,
Чтоб иные видеть зори
На далеком Черном море.
Выл я в горном коридоре,
На степном ревел просторе,
И теперь, рожденный в тундре,
Я бушую в теплом море.
Так, принявши облик бури,
Мы летим. Пора настала,
Чтоб о нас иное море
Днем и ночью грохотало.
1925
Торговцы тенью{22}
Мы знаем цену каждому мгновенью.
Платить за всё придет однажды срок.
Я как-то раз пробрался на Восток.
Там, между прочим, есть торговцы тенью.
Они располагаются под сенью
Больших деревьев около дорог,
А чаще – в нишах. И за вход в мирок,
Наполненный прохладою и ленью,
Берут пятак. Заплатишь и лежишь…
"Не ешь кишмиш и не кури гашиш,
А тень купи! Она дешевле дыни
Здесь в городе,– торговец мне шептал.—
Но понимаешь: весь свой капитал
Отдашь ты за нее среди пустыни!"
1925
Оттепель{23}
Ветер с далекого моря,
Оттепель, капельки с крыш.
На почерневшем заборе
Клочья намокших афиш.
На зиму непохоже,
И до весны – месяца.
Сырость плывет, тревожа
Легкие и сердца.
Вот и твое крылечко:
«Если не спишь – открой!»
…В комнате черная печка
Дышит поддельной жарой.
Свет гаснет. Душно, как в яме.
«Что ты встаешь? Лежи!»
…Ночью простыми мужьями
Делаются мужи.
1925
«О, люди…»{24}
О, люди,
Ваши темные дела
Я вижу. Но волнуюсь не за души
А лишь за неповинные тела —
Ведь это всё же не свиные туши!
Я знаю:
Тело не за свой позор
Заплатит кровью чистой и горячей.
Плутует разум – хитрый резонер,
Вступая в сделки с честью и удачей.
Но коли так, за что же, о, за что ж,—
Ответьте, объясните мне причину! —
Вам не в сознанье всаживают нож,
А между ребер – в сердце или в спину
Я смерти не особенно боюсь,
Она не раз в глаза мои глядела,
Но всё же я испытываю грусть
Не за себя, а именно за тело.
1926
Море было{25}
Багровеет солнце на закат.
Смотрит вкось и, хитрое, смеется:
"Люди, люди! Отступить назад,
Рано или поздно, вам придется.
Море было и назад вернется,
Сонных волн послышится раскат".
Ветер влагу нес издалека,
Степь в соленом мареве тонула,
Море из пластов известняка
Ухмылялось челюстью акулы.
Кочевали бедные аулы,
Соль – их горе, ветер – их тоска!
Но какой-то дерзкий фантазер
Городу позволил основаться
Здесь, на дне исчезнувших озер,
Где смерчи соленые клубятся.
Город вырос и глядит в упор,
В степь глядит, не может оторваться.
Основатель – дерзостный смутьян,
Он совсем не чтил степных законов.
Из багрово-матовых полян
Не услышал заунывных стонов.
Стонут выпи – призраки тритонов
[15]
:
«Возвратись, о древний Океан!»
Поздно! Плавниками шевеля,
Ты, акула, не всплывешь обратно,
Не нырнешь в султаны ковыля!
Перепашем и удобрим знатно
Мы тебя, о древняя земля!
1926
Путь революционера{26}
И не теоретические споры,
И не примеры из литературы,
Но горы, и соленые озера,
И бурное взволнованное море,
И хмурые заоблачные зори —
Вот что влечет революционера,
Скорее практика, чем фантазера!
Не худо,
Сев на важного верблюда,
Направиться и к югу и к востоку!
Дари свободу бедному народу
И намечай железную дорогу.
Дари свободу! Что же это значит?
Дари им воду, букву, цифру, слово
И всё, на что ты сам имеешь право,
Чтоб, ржаво треснув, рассыпались цепи…
В палящий зной нивелировка степи,
Анализ почв, промер воды в озерах —
Вот он один – высокий и прекрасный,
Тяжелый путь революционера,
Одна твоя немеркнущая слава!
1926
«Писатель слов и сочинитель фраз…»{27}
Писатель слов и сочинитель фраз,
Ты за рассказом составлял рассказ
Про всё, на чем остановился глаз.
Ты описал поверхность всей Земли,
Упомянул, что в море корабли
Боролись с бурей, а цветы цвели.
Я видел экземпляры книги той,
Она бумагой сделалась простой.
Ты в этой книге, в сущности – пустой,
Не захотел, чтоб бабочки пыльца
Не прилипала к пальцам подлеца,
Чтоб ровно бились чистые сердца.
Ты этой книгой никого не спас.
Писатель слов и сочинитель фраз,
Не дописал ты повесть до конца!
1927
Корреспондент{28}
Приятель, отдал молодость свою
Ты в дар редакционному безделью.
Газетчик ты и мыслишь нонпарелью,—
Я хохоча прочел твою статью.
Тебе ль касаться ведомственных тем!
Ведь наших дней трескуч кинематограф,
Ведь Гепеу
[16]
– наш вдумчивый биограф —
И тот не в силах уследить за всем.
И, превознемогая робость,
Припадкам ярости подвержен,
Он вверх Антарктикой на стержень
Надел редакционный глобус.
Не помышляя об авансе,
Он провалился в черный лифт.
«Расстанься с городом, расстанься!» —
Мелькнуло, как заглавный шрифт.
Он изучил прекраснейший язык.
Корреспондентом будущих изданий
Он сделался. И наконец привык
Не выполнять редакторских заданий.
Радиограммы слал издалека:
"Абзац… Стремленье к отдаленным странам,
Сознанье, что планета велика,
Пожалуй, недоступны горожанам.
Абзац… Я был в затерянных степях,
Где возрастают люди-корнеплоды.
Не их ли потом континент пропах?
Немые и безвредные уроды,
Их мозг в земле.
Абзац… Еще отмечу:
Я в скалах обнаружил серебро.
Туземцы бьют серебряной картечью
По дамским цаплям (сто рублей перо!)".
Так возвратил он молодость свою.
Безумным, загорелым, полуголым
Он сделался. И я не узнаю
Газетчика в товарище веселом.
Мы на одной из быстроходных яхт
По вечерам сплавляем к устью Леты
Тоску и нежность под высокий фрахт.
Мы также называемся – поэты.
О, здравый цензор! Беспокойны мы,
Подвержены навязчивым идеям.
Но нам доступно посмотреть с кормы
На берега, которыми владеем.
1927
Скоморох{29}
Есть на земле высокое искусство —
Будить в народе дремлющие чувства,
Не требуя даров и предпочтенья,
Чтоб слушали тебя не из почтенья,
Чтоб, слышав раз, послушали и снова,
Чтоб ни одно не позабыли слово,
Чтобы в душе – не на руках! – носили.
Ты о такой мечтал словесной силе?
Но, не смущаясь гомоном и гамом,
На площади меж лавками и храмом,
Где блеют маски и скрежещут доски,
Сумей взойти на шаткие подмостки,
Как великан в неистовстве упрямом!
Пускай тебя за скомороха примут,
Пускай тебя на смех они подымут,
Пусть принимают за канатоходца,—
Употреби высокое искусство —
Будить и в них их дремлющее чувство.
И если у тебя оно найдется,
Так и у них, наверное, проснется!
1928
Летописец{30}
Где книги наши?
Я отвечу:
«Они во мгле библиотек».
Но с тихой вкрадчивою речью
Подходит этот человек.
«Идемте!»
– "А куда зовете? Вы кто?"
– "Я сельский букинист.
Я дам вам книгу в переплете
Из серебра, где каждый лист
То ал, то бел, то желт, то розов,
То дымчат, как полдневный зной,
То ледянист, как от морозов…
Идемте! Следуйте за мной!"
– "Но почему в пустую ригу
Меня вы молча завели?"
– "Терпенье! Золотую книгу
Я выдам вам из-под земли!"
Какие-то берет он колья,
Какой-то шест, вернее – цеп,
И отмыкает вход в подполье,
Напоминающее склеп.
Здесь веники, и расстегаи
[17]
,
И душегреи, и пимы,
Но вот и статуя нагая
Выглядывает изо тьмы.
«Вот, разбирайтесь!..»
Тишь, прохлада.
Со щами кислыми ушат…
О да! Здесь нечто вроде склада,
И в этом складе – прямо клад!
Да, это мудрость! Но источник
Сей мудрости необъясним:
Я вижу – Даниил Заточник
[18]
И Ванька-ключник
[19]
рядом с ним…
Здесь книги есть для разных вкусов
На полке этой и на той:
Для коневодов – князь Урусов
[20]
,
Для сердцеведов – граф Толстой
[21]
.
Волюмы
[22]
, рукописи, свитки…
Чего-чего тут только нет!
Через оконце жидкий, жидкий,
Трепещущий ложится свет.
Но вот та книга в переплете,
Он о которой говорил.
Действительно, вся в позолоте,
В пыльце, как с бабочкиных крыл.
Читать я начинаю тотчас,
С рисунков не спуская глаз,
Внимательно, сосредоточась…
Прошли минуты или час?
Нет! Дни огромней, чем комбайны,
Плывут оттуда, издали,
Где открывается бескрайный
Простор родной моей земли,
Где полдни азиатски жарки,
Полыни шелест прян и сух,
А на лугах, в цвету боярки
[23]
,
Поярки
[24]
пляшут и доярки,
Когда в дуду дудит пастух.
"Вы
Продаете
Эту книгу?" —
Я говорю…
Но где же он?
Его уж нет.
Пустую ригу
Я обхожу со всех сторон.
На дворике светло и чисто.
Порхают бабочки в саду…
Вы не встречали букиниста?
Я где теперь его найду?!
1929
Река Тишина{31}
"Ты хотел бы вернуться на реку Тишину?"
– "Я хотел бы. В ночь ледостава".
– "Но отыщешь ли лодку хотя бы одну
И возможна ли переправа
Через темную Тишину?
В снежных сумерках, в ночь ледостава.
Не утонешь?"
"Не утону!
В городе том я знаю дом,
Стоит в окно постучать —
Выйдут меня встречать.
Знакомая одна. Некрасивая она.
Я ее никогда не любил".
"Не лги!
Ты ее любил!"
– "Нет! Мы не друзья и не враги.
Я ее позабыл.
Ну так вот. Я скажу: хоть и кажется мне,
Что нарушена переправа,
Но хочу еще раз я проплыть по реке Тишине
В снежных сумерках, в ночь ледостава".
"Ночь действительно ветреная, сырая.
В эту ночь, трепеща, дотлевают поленья в печах.
Но кого же согреют поленья, в печах догорая?
Я советую вспомнить о более теплых ночах".
– «Едем?»
– «Едем!»
Из дровяного сарая
Братья ее вынесут лодку на плечах
И опустят на Тишину.
И река Тишина у метели в плену,
И я на спутницу не взгляну,
Я только скажу ей: «Садитесь в корму!»
Она только скажет: "Я плащ возьму.
Сейчас приду…"
Плывем во тьму,
Мимо предместья Волчий хвост,
Под Деревянный мост,
Под Оловянный мост,
Под Безымянный мост…
Я гребу во тьме,
Женщина сидит в корме,
Кормовое весло у нее в руках.
Но, конечно, не правит – я правлю сам
Тает снег у нее на щеках,
Липнет к ее волосам.
"А как широка река Тишина?
Тебе известна ее ширина?
Правый берег виден едва-едва,—
Неясная цепь огней…
А мы поедем на острова.
Ты знаешь – их два на ней.
А как длинна река Тишина?
Тебе известна ее длина?
От полночных низин
До полдневных высот
Семь тысяч и восемьсот
Километров – повсюда одна
Глубочайшая Тишина!"
В снежных сумерках этих
Всё глуше уключин скрип.
И замирают в сетях
Безмолвные корчи рыб.
Сходят с барж водоливы,
Едут домой лоцмана.
Незримы и молчаливы
Твои берега, Тишина,
Всё медленней серые чайки
Метель отшибают крылом…
«Но погоди! Что ты скажешь хозяйке?»
– «Чайки метель отшибают крылом…»
– «Нет, погоди! Что ты скажешь хозяйке?»
– «Не понимаю – какой хозяйке?»
– «Которая в корме склонилась над веслом».
– "О! Я скажу: "Ты молчи, не плачь.
Ты не имеешь на это права
В ночь, когда ветер восточный – трубач —
Трубит долгий сигнал ледостава".
Слушай!
Вот мой ответ —
Реки Тишины нет.
Нарушена тишина".
Это твоя вина.
Нет!
Это счастье твое.
Сам ты нарушил ее.
Ту глубочайшую Тишину,
У которой ты был в плену.
1929
Май{32}
Я родился в начале мая,
И прекрасно я понимаю,
Что такое разлив весенний:
Это – ветер и гребни в пене,
Это – вывернутые коряги
И затопленные овраги
В ночь, когда над стерней колючей
Подымаются сизые тучи,
Возвращеньем зимы угрожая.
Но и снег в середине мая —
Даже он, говорят, к урожаю!
1930
Ермак{33}
Еще торчит татарская стрела
В стволе сосны на берегу тобольском,
Смердят непогребенные тела
Там, на яру – еще от крови скользком.
"Мы голову Кучуму отсечем! –
Сказал Ермак.– Сибирь на меч подъемлю!"
Он вынул меч. И боевым мечом
Ударил в землю и разрыхлил землю.
Подходит пленник. Он хитер и стар,
Мурза татарский с жидкими усами.
«Ермак могилу роет для татар?»
Ермак в ответ: «Ее вы рыли сами!»
И засмеялся. Острием меча
Он продолжает рыть еще упорней.
Он рушит дерн. И слышно, как, треща,
Растений диких лопаются корни.
Земля, на меч налипшая, жирна:
В ней кровь, в ней пепел от лесных пожаров.
"Кольцо! Достань-ка горсточку зерна,—
Немолотое есть у кашеваров".
…Глядят на атамана казаки
И пленники – праправнуки Батыя.
Летят из атамановой руки
В сырую землю искры золотые.
«Я много ль сеял на своем веку?» —
Так думает страны завоеватель.
Иван Кольцо подходит к Ермаку,
Его помощник и большой приятель.
Ивану заглянул Ермак в лицо,
И шепчет он – тревогой полон голос:
"Как думаешь, дружок Иван Кольцо
[25]
,
Не вытопчут? Взойдет? Созреет колос?"
1930
Подсолнух{34}
1
Сонм мотыльков вокруг домовладенья
Порхал в нетерпеливом хороводе,
Но, мотыльков к себе не допуская,
Домохозяин окна затворил,
И мне, судьбой дарованному гостю,
Открыл он двери тоже неохотно.
Я понял, что ночное чаепитье
Организовано не для меня.
Я это понял.
Что же было делать?
Вошел я.
Сел к столу без приглашенья.
Густое ежевичное варенье
Таращило засахаренный глаз;
И пироги пыхтели, осуждая;
И самовар заклокотал, как тульский
Исправник, весь в медалях за усердье,—
Как будто б я всё выпью, всё пожру!
«Она приехала!» – сказал художник.
И вот я жду: поджавший губки ангел,
Дыша пачулями
[26]
, шурша батистом,
Старообразно выпорхнет к столу.
Но ты вошла…
Отчетливо я помню,
Как ты вошла – не ангел и не дьявол,
А теплое здоровое созданье,
Такой же гость невольный, как и я.
Жена ему?
Нет! Это толки, враки.
Рожденному в домашнем затхлом мраке,
Ему, который высох, точно посох,
Вовек не целовать такой жены!
Я это понял.
Одного лишь только
Не мог понять: откуда мне знакомы
Твое лицо, твои глаза, и губы,
И волосы, упавшие на лоб?
Я закричал:
"Я видел вас когда-то,
Хотя я вас и никогда не видел.
Но тем не менье видел вас сегодня,
Хотя сегодня я не видел вас!"
И, повторяя:
"Я вас где-то видел,
Хотя не видел…
Чаю?
Нет, спасибо!" —
Я встал и вышел.
Вышел на веранду,
Где яростно метались мотыльки.
Ты закричала:
«Возвратитесь тотчас!»
Я на веранду дверь раскрыл широко,
И в комнату ворвалось сорок тысяч
Танцующих в прохладе мотыльков.
Те мотыльки толклись и кувыркались,
Пыльцу сшибая с крылышек друг другу,
И довели б до головокружения,
Когда б я не глядел в твои глаза.
2
Не собирался он писать картину,
А вынул юношеские полотна
В раздумий: нельзя ль из них портянки
Скроить себе? И' тупо краску скреб.
Затем его окликнули соседи.
Надевши туфли, он пошел куда-то,
Оставив полотнище на мольберте
И ящик с красками не заперев.
Заманчивым дыханием искусства
Дохнули эти брошенные вещи,
И я – хотя совсем не живописец —
Вдруг ощутил стремленье рисовать.
Тут маковое масло из бутыли
Я вылил, и на нем растер я краски,
И, размягчив в нем острый хвостик кисти,
Я к творчеству бесстрашно приступил.
Тебя я рисовал.
Но вместо тела
Изобразил я полнокровный стебель,
А вместо плеч нарисовал я листья,
Подобные опущенным крылам.
И лишь лицо оставил я похожим
У этого бессильного подобья —
Прекрасного, но пленного растенья,
Ушедшего корнями в огород.
И хрен седой растет с тобою рядом,
И хнычут репы, что земля на грядах
Черна.
И всех своим нехитрым ядом
Перетравить мечтает белена.
И солнца нет.
За облаками скрыто
Оно.
И огородница подходит,
Морщинистыми, дряхлыми руками
Схватила за прекрасное лицо…
Художник тут вбежал,
Он крикнул:
«Кто вам позволил рисовать?»
– "Идите к черту!" – ему я сдержанно сказал
И тотчас
Покинул этот серый, пыльный дом.
3
"Вы ночевали на цветочных клумбах?
Вы ночевали на цветочных клумбах? —
Я спрашиваю.—
Если ночевали,
Какие сны вам видеть удалось?"
Покинув дом, где творчество в запрете,
Весь день метался я, ища квартиру,
Но ни одна квартирная хозяйка
Меня не допустила ночевать.
Они, крестясь, захлопывали двери
И плотно занавешивали окна
Дрожащими руками.
Слишком страшен
Был вид и взгляд мой…
Наступила ночь,
И сумрачно постлал я одеяло
Меж клумб под сенью городского сада.
Но сон не брал. И травы щекотались.
И вороны рычали с тополей.
Так ночь прошла.
Рассвета не дождавшись,
По улицам сырым, туманным, серым
Я вышел за город.
В глазах двоились
Тропиночки, ведущие в поля.
И был рассвет!
Земля порозовела.
В ней зрели свеклы.
Я стоял, вдыхая
Все запахи земли порозовевшей.
Рассвет прошел. И день настал в полях.
Я не стоял – я шел вперед, вдыхая
Медвяный запах длящегося полдня,
Ища чего-то и не находя.
Но голоса растений властно шепчут:
«Ищи, ищи!»
И вдруг на перекрестке
Дорог, ведущих в будущие годы,
Ты появилась как из-под земли.
Ты закричала:
"Где вы ночевали?
Чем завтракали?
Сколько беспокойства
Вы причинили мне своим уходом!
Вторые сутки, как я вас ищу!"
Всё кончилось…
На розовой поляне
Пьем молоко, закусываем хлебом,
И пахнет перезрелой земляникой
Твой теплый хлеб…
Июльская земля
Нам греет ноги.
Ласкова к скитальцам
Всезнающая, мудрая природа.
Подсолнух!
Из чужого огорода
Вернулся ты в родимые поля.
1932
Сон подсолнуха{35}
Старый хрен растет со мною рядом,
Стонут репы, что земля черна,
И детей своим нехитрым ядом
Отравить мечтает белена.
Солнце! Скрылось ты за облаками.
Скоро огородница придет,
Мощными, шершавыми руками
По венцу тихонько проведет.
"Семя,– говорит она,– созрело!
Мы его поджарим и сгрызем".
Так открутит голову. А тело
Упадет, ломаясь, в чернозем.
Уцелею ли, простой подсолнух,
Если не сумею в эту ночь
Напряженьем сил, еще неполных,
Цепкость этих рук превознемочь?
Ну, рванись! Употреби усилья,
Глядя ввысь, в лазоревую ширь,
Листья, превращаемые в крылья,
Над землей упрямо растопырь.
Ну, рванись! Употреби усилья!
Ведь летает даже нетопырь.
Листья, превратившиеся в крылья,
Над землею мощно растопырь.
Пусть бегут и улица и дворня,
Пусть кричат:
«Сгрызем его, сгрызем!»
Взвейся в небо, осыпая с корня
На головы жирный чернозем!
Но земля,
Упорная, за корень
Уцепилась:
"Ты куда? Постой!
Поволнуйся, горд и непокорен".
Это и зовется красотой!
1933