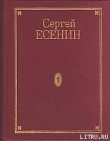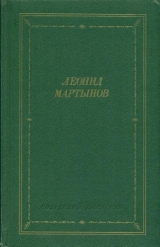
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Леонид Мартынов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
Летит меж снежных туч.
Косяк безгрешных душ
Ему наперерез.
Пути, зима, завьюжь!
В снегах Эрцинский лес.
В снегах Эрцинский лес,
В снегах Эрцинский лес,
Чьи корни до сердец,
Вершины до небес!
1933, 1945
«Замечали – По городу ходит прохожий?..»{55}
Замечали —
По городу ходит прохожий?
Вы встречали —
По городу ходит прохожий,
Вероятно, приезжий, на нас непохожий?
То вблизи он появится, то в отдаленье,
То в кафе, то в почтовом мелькнет отделенье.
Опускает он гривенник в щель автомата,
Крутит пальцем он шаткий кружок циферблата
И всегда об одном затевает беседу:
«Успокойтесь, утешьтесь – я скоро уеду!»
Это – я!
Тридцать три мне исполнилось года.
Проникал к вам в квартиры я с черного хода.
На потертых диванах я спал у знакомых,
Приклонивши главу на семейных альбомах.
Выходил по утрам я из комнаты ванной.
"Это гость,– вспоминали вы,– гость не незваный,
Но, с другой стороны, и не слишком желанный.
Ничего! Беспорядок у нас постоянный".
«Это гость»,– поясняли вы мельком соседу
И попутно со мной затевали беседу:
«Вы надолго к нам снова?»
– "Я скоро уеду!"
– «Почему же? Гостите. Придете к обеду?»
– «Нет».
– "Напрасно торопитесь. Чаю попейте.
Отдохните да, кстати, сыграйте на флейте".
Да! Имел я такую волшебную флейту.
За мильоны рублей ту я не продал бы флейту.
Разучил же на ней лишь одну я из песен:
«В Лукоморье далеком чертог есть чудесен!»
Вот о чем вечерами играл я на флейте.
Убеждал я: поймите, уразумейте,
Расскажите знакомым, шепните соседу,
Но, друзья, торопитесь,– я скоро уеду!
Я уеду туда, где горят изумруды,
Где лежат под землей драгоценные руды,
Где шары янтаря тяжелеют у моря.
Собирайтесь со мною туда, в Лукоморье!
О! Нигде не найдете вы края чудесней!
И являлись тогда, возбужденные песней,
Люди. Разные люди. Я видел их много.
Чередой появлялись они у порога.
Помню – некий строитель допрашивал строго:
«Где чертог? Каковы очертанья чертога?»
Помню также – истории некий учитель
Всё пытал: «Лукоморья кто был покоритель?»
И не мог ему связно ответить тогда я…
Появлялся еще плановик, утверждая,
Что не так велики уж ресурсы Луккрая,
Чтобы петь о них песни, на флейте играя.
И в крылатке влетал еще старец хохлатый,
Непосредственно связанный с Книжной палатой
"Лукоморье! Изволите звать в Лукоморье?
Лукоморье отыщете только в фольклоре!"
А бездельник в своей полосатой пижамке
Хохотал: «Вы воздушные строите замки!»
И соседи, никак не участвуя в споре,
За стеной толковали:
«А?»
– «Что?»
– «Лукоморье?»
– «Мукомолье?»
– «Какое еще Мухоморье?»
– «Да о чем вы толкуете? Что за исторья?»
– «Рукомойня? В исправности».
– «На пол не лейте!»
– «Погодите – в соседях играют на флейте!»
Флейта, флейта!
Охотно я брал тебя в руки.
Дети, севши у ног моих, делали луки,
Но, нахмурившись, их отбирали мамаши:
"Ваши сказки, а дети-то все-таки наши!
Вот сначала своих воспитать вы сумейте,
А потом в Лукоморье зовите на флейте!"
Флейту прятал в карман.
Почему ж до сих пор я
Не уехал с экспрессом туда, в Лукоморье?
Ведь давным бы давно уж добрался до гор я,
Уж давно на широкий бы вышел простор я.
Объясните знакомым, шепните соседу,
Успокойте, утешьте,– я скоро уеду!
Я уеду, и гнев стариков прекратится,
Злая мать на ребенка не станет сердиться.
Смолкнут толки соседей, забулькает ванна,
Распрямятся со звоном пружины дивана.
Но сознайтесь!
Недаром я звал вас, недаром!
Пробил час – по проспектам, садам и бульварам
Все пошли вы за .мною, пошли вы за мною,
За моею спиной, за моею спиною.
Все вы тут! Все вы тут!
Даже старец крылатый,
И бездельник в пижаме своей полосатой,
И невинные дети, и женщина эта —
Злая спорщица с нами, и клоп из дивана…
О, холодная ясность в чертоге рассвета,
Мерный грохот валов – голоса океана,
Так случилось —
Мы вместе!
Ничуть не колдуя,
В силу разных причин за собой вас веду я.
Успокойтесь, утешьтесь!
Не надо тревоги!
Я веду вас по ясной, широкой дороге.
Убедитесь: не к бездне ведет вас прохожий,
Скороходу подобный, на вас непохожий,—
Тот прохожий, который стеснялся в прихожей,
Тот приезжий, что пахнет коричневой кожей,
Неуклюжий, но дюжий, в тужурке медвежьей.
Реки, рощи, равнины, печаль побережий.
Разглядели? В тумане алеют предгорья.
Где-то там, за горами, волнуется море.
Горы, море… Но где же оно, Лукоморье?
Где оно, Лукоморье, твое Лукоморье?
1935, 1945
«От печки Я оттер бы Гоголя…»{56}
От печки
Я оттер бы Гоголя.
"Свои творения губя,—
Я крикнул бы ему,– не много ли
Берете, сударь, на себя?!"
И, может быть, хоть пачку листиков
Я выхватил бы из огня,
Чтоб он послушался не мистиков
И не аскетов,
А меня!
1945
Путешественник{57}
Друзья меня провожали
В страну телеграфных столбов.
Сочувственно руку мне жали:
"Вооружен до зубов?
Опасностями богата
Страна эта! Правда ведь? Да?
Но мы тебя любим, как брата,
Молнируй, коль будет нужда!"
И вот она на востоке,
Страна телеграфных столбов,
И люди совсем не жестоки
В стране телеграфных столбов,
И есть города и селенья
В стране телеграфных столбов
Гулянья и увеселенья
В стране телеграфных столбов!
Вхожу я в железные храмы
Страны телеграфных столбов,
Оттуда я шлю телеграммы —
Они говорят про любовь,
Про честь, и про грусть, и про ревность,
Про то, что я все-таки прав.
Твоих проводов песнопевность
Порукой тому, телеграф!
Но всё ж приближаются сроки,
Мои дорогие друзья!
Ведь я далеко на востоке,—
Вам смутно известно, где я.
Ищите меня, телефоньте,
Молнируйте
[59]
волю судьбы!
Молчание…
На горизонте
Толпятся немые столбы.
1945
След{58}
А ты?
Входя в дома любые —
И в серые,
И в голубые,
Всходя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш
И на вопрос даря ответ,
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?
1945
Ночь{59}
Кто дал тебе совет, закончив счет побед,
А также и потерь,
Теперь, замкнувши дверь, угреться и забыться?
Ты этому не верь! Так не случится!
Не спишь?
Не ты один. И ей всю ночь не спится.
Она полна машин, полна афиш, витрин
И вновь полна мужчин, смеясь не без причин,
Не спит
Столица.
Ничто не спит во мгле —
Кипит асфальт в котле, кипит вино в бутылях,
Не спят, летя на крыльях, не спят в автомобилях,
Не спит огонь в золе.
И зреет на земле
Очередное чудо.
Предугадать его
Имеешь полномочья.
Быть может, оттого
Тебе не спится
Ночью!
1945
Правда{60}
В равнинах Востока, багряных от зноя,
Где водит июль соляные смерчи,
Тревожно сжимается сердце родное…
Ты просишь меня:
"Отвечай! Не молчи!.
Ведь скоро и осень.
И ливень осенний
Ударит о крыши, железо дробя.
Ответь!
Не молчи!"
Но, взамен объяснений,
Я песню пою про тебя, про тебя!
Нет! Я не молчу.
Мы увидимся скоро,
Тебя обниму я, всё больше любя.
Но слышишь! – взамен телефонного спора,
Ты слышишь! – взамен телеграфного вздора
Я песню пою про тебя, про тебя!
Где я?
Я в народом наполненных залах,
В высоких мансардах, в богатых дворцах.
Бываю на пристанях я и вокзалах,
На пашнях, в болотах и на солонцах.
Я в небе бываю, где солнце цветное,
Могущество туч и ветра горячи.
Я в шахтах и там, за магнитной стеною,
Где денно и нощно куются мечи.
Я всюду!
И ты.
Ты повсюду со мною!
Не надо тревожиться, сердце родное.
А ты говоришь: «Отвечай! Не молчи!»
Волнуешься ты.
И последних известий
У старого радио трепетно ждешь.
Но ты не тревожься.
Мы вместе! Мы вместе!
А всё остальное – глубокая ложь.
1945
Народ-победитель{61}
Возвращались солдаты с войны.
По железным дорогам страны
День и ночь поезда их везли.
Гимнастерки их были в пыли
И от пота еще солоны
В эти дни бесконечной весны.
Возвращались солдаты с войны.
И прошли по Москве, точно сны,—
Были жарки они и хмельны,
Были парки цветами полны.
В зоопарке трубили слоны,—
Возвращались солдаты с войны!
Возвращались домой старики
И совсем молодые отцы —
Москвичи, ленинградцы, донцы…
Возвращались сибиряки.
Возвращались сибиряки —
И охотники, и рыбаки,
И водители сложных машин,
И властители мирных долин,—
Возвращался народ-исполин…
Возвращался?
Нет!
Шел он вперед,
Шел вперед
Победитель народ!
1945
«Пластинок хриплый крик…»{62}
Пластинок хриплый крик,
И радиовещанье,
И непрочтенных книг
Надменное молчанье,
И лунный свет в окне,
Что спать мешал, тревожа,—
Мы оценить вполне
Сумели только позже,
Когда возникли вновь
Среди оторопенья
Моторов мощный рев,
И музыка, и пенье,
И шелест этих книг,
Мы не дочли которых,
И круглый лунный лик,
Запутавшийся в шторах,
И в самый поздний час
Чуть зримый луч рассвета…
Подумайте! У нас
Украсть хотели это!..
1945
Облака{63}
Облака!
Не достать вас руками.
Да и это ли надобно мне?
Облака!
Окружен облаками,
Я бы мчался на черном коне
Через горы, к восточной стране,
К дому с низкими потолками,
Чтобы там за семью замками
С холодеющими щеками
Ты бы вышла навстречу мне.
Но уходит он в дальние дали,
Путь, который весь в тормозах.
И на самом последнем вокзале
Ты одна в карболовом зале
[60]
Со слезами в зеленых глазах.
Облака!
На высокую крышу
За Москвою-рекою взойду
И увижу я всё и услышу…
Вот и ласточка вьется в саду
На свою, на мою ли беду…
Облака
В сорок пятом году!
1945
Баллада про великий путь{64}
Великий путь!
Великий путь!
Когда идет состав-колосс,
В чугунном рокоте колес
Я слышу голос:
"Не забудь!
Отец твой
[61]
строил этот путь!" -
Кричит мне каждый паровоз.
Я вспоминаю эти дни
По сорок градусов в тени —
Кочевничьих урочищ лень,
Даль, где ни сел, ни деревень.
Я вспоминаю этот путь —
Сквозь степь, где блещут солонцы.
Стальную нить вперед тянуть
Вы шли, упорные отцы!
Отец мой скважины бурил,
Водой пустыню одарил,—
Я помню котлованов муть.
Отец мой строил этот путь.
С Урала – прямо на Восток,
На Золотой далекий Рог
[62]
,
Отцы сумели дотянуть
К началу века этот путь.
Служебный помню я вагон —
Был, как огонь, багряный он.
А я, ребенок, из окна
Под насыпь глядя, под откос,
Среди полыни и берез
То зебру видел, то слона.
В чем правда этих детских грез?
Не зря играл я в ту игру —
Коров считал за кенгуру,
За тигров принимал телят,
Когда в кустах они шалят.
Псы-львы рычали у дорог,
Ведущих прямо на Восток.
Уже среди ребячьих игр
Я знал, что уссурийский тигр
Совсем не сказка, явь почти…
А что-то дальше на пути?
И говорил отец:
"Мечтай!
Поедешь в гости и в Китай,
А из Китая и в Сиам
[63]
,
А там – куда захочешь сам,
Поедешь в гости ты к друзьям!
С кем хочешь, будешь ты дружить,
Но по-соседски мирно жить
Ты с ними должен!
Не забудь!
Затем и строю этот путь".
Отец мой умер…
Но ко мне
Вчера явился он во сне.
Был в белом кителе своем,
Кокарда – якорь с топором —
Сверкала на фуражке.
Он
Искал служебный свой вагон,
Вагон багряный, как огонь…
Сказал отец:
"Событий суть
Ясна!
Я строил этот путь —
Путь через степь, и через лес,
И через горы до небес.
А в страны грез своих мосты,
Надеюсь, сам достроишь ты.
Осуществить твои мечты
Я не успел. Не обессудь!"
И грохотал из темноты
Толпой колес Великий путь!
1945
«Мне кажется, что я воскрес…»{65}
Мне кажется, что я воскрес.
Я жил. Я звался Геркулес.
Три тысячи пудов я весил.
С корнями вырывал я лес.
Рукой тянулся до небес.
Садясь, ломал я спинки кресел.
И умер я… И вот воскрес:
Нормальный рост, нормальный вес
Я стал как все. Я добр, я весел.
Я не ломаю спинки кресел…
И все-таки я Геркулес.
1945
Лукоморье{66}
Кто ответит – где она:
Затопило ее море,
Под землей погребена,
Ураганом сметена?
Кто ответит – где она,
Легендарная страна
Старых сказок —
Лукоморье?
Это я отвечу вам:
Существует Лукоморье!
Побывал мой пращур там,
Где лукой заходят в море
Горы хладные.
У скал
Лукоморье он искал —
Волшебную эту местность,
Страну великих сокровищ,
Где безмерна людская честность,
Ко немало див и чудовищ.
Здравствуй, северная Русь!
Ты, Югра-соседка
[64]
, здравствуй!
Сказка, здесь над былью властвуй!
Различить вас не берусь.
Ветер северный, могуч, гонит тучи снеговые,—
У них выи меховые. Белки валятся живые.
Соболя летят седые из косматых этих туч,
Прямо в тундру, за Урал.
Там мой пращур их и брал.
Мол, к нашим дырявым овчинам
Пришьем драгоценны заплатки
И сбудем заморским купчинам
Мы красного меха в достатке.
Что мой пращур?
Голытьба!
Он в лохмотьях шел тайгою.
Но свела его судьба с мудрой бабою-ягою,
То есть с женщиной в яге – в теплой северной одежде.
Я о встрече той в тайге вспоминаю и в надежде,
Что этнографы прочтут и обдумать им придется
Всё изложенное тут.
Шуба женская зовется
Там, на севере, ягой.
Знай, этнограф дорогой!
Баба-яга сердита.
"Ну,– говорит,– погоди ты!
Зря,– говорит,– не броди ты!
Женю я тебя на внучке,
Возьмет в золотые ручки".
Верно, пращур?
Было так?
Золотым копьем блистая,
Поджидала вас, бродяг, дева-идол золотая
[65]
,
Сторожила берега Мангазеи и Обдорья
[66]
,
Неприступна и строга, охраняла Лукоморье.
Злата шкура на плечах,
Золотой огонь в очах,—
Грейся, пращур, в тех лучах!
"Ах, гостеприимна,
В чуме вот только дымно!
В губы не целовала,
Мерзлую рыбу давала,
О чем она толковала?"
—"Пусть бьются князья с князьями —
Народы будут друзьями".
Ты остался, пращур, там?
Венчан снежными венцами?
Ложе устлано песцами?
Нет! К волшебным воротам
За тобою по пятам
Шел Куракин
[67]
со стрельцами,
Со стрельцами да с писцами за тобою по пятам.
Шли не с чистыми сердцами к Лукоморским воротам.
И закрылись ворота, и в туман укрылись горы,
Схоронилася в Обдоры дева-идол золота.
И волны гремели на взморье,
И ветры над камнем шумели:
Исчезло, ушло Лукоморье, —
Хранить вы его не сумели!
Лукоморье!
Где оно?
Не участвую я в споре
Тех ученых, что давно потеряли Лукоморье
На страницах старых книг, в незаписанном фольклоре.
Знаю я: где север дик,
Где сполоха ал язык,—
Там и будет Лукоморье!
Там, у дальних берегов, где гремят морские воды,
Где восстали из снегов возрожденные народы,—
Лукоморье там мое!
Там стоит она, богата,
Опираясь на копье, а быть может, на ружье,
Молодая дева Злата.
Я не знаю, кто она —
Инженер или пастушка,
Но далекая избушка, что за елками видна,
Снова сказками полна.
Здравствуй, дивная страна!
1945
Царь природы{67}
И вдруг мне вспомнилось:
Я – царь!
Об этом забывал я годы…
Но как же быть?
Любой букварь
Свидетельствовал это встарь,
Что человек есть царь природы!
Одевши ткани и меха,
На улицу я молча вышел.
Прислушиваюсь.
Ночь тиха.
Себе я гимнов не услышал.
Но посмотрел тогда я ввысь,
Уверенности не теряя,
И вижу:
Звезды вдруг зажглись,
Как будто путь мне озаряя
И благосклонно повторяя:
«Ты – царь природы! Убедись!»
Что ж, хорошо!
Не торопясь,
Как будто просто так я, некто,
Не царь и даже и не князь,
Дошел я молча до проспекта.
Как убедиться мне скорей,
Высок удел мой иль плачевен?
При свете фар и фонарей
Толпу подобных мне царей,
Цариц, царевичей, царевен
Я наблюдал.
Со всех сторон
Шли властелины без корон.
Я знал, что в этот поздний час
Царь воздуха, забыв про нас,
Витал меж туч.
Владыка касс
Свои расчеты вел сейчас.
Царь лыж блуждал по снежным тропам.
Царь звезд владычил телескопом.
А царь бацилл над микроскопом
Склонился, щуря мудрый глаз.
Я наблюдал.
Издалека
Заметил я: царь-оборванец,
Великий князь запойных пьяниц,
Ничком лежит у кабака.
А тоже царь. Не самозванец.
А вот я вижу пешехода,
Одетого вдвойне пестрей
Всех этих остальных царей
И при короне.
Брадобрей
Ему корону на полгода
Завил, как то диктует мода.
Эй, вы! Подвластна вам природа?
Ну, отвечайте поскорей!
Вам сотворили чудеса
В искусствах, равно как в науке,
Вам покорили небеса,
Вам атом передали в руки.
Цари вы или не цари,
А существа иной породы?
Быть может, врали буквари,
Что человек есть царь природы
Во множестве своем один?
"Эй ты, природы господин!
Скажи мне: царь ты или князь?
Дерзаешь ты природой править?"
А он в ответ: "Прошу оставить
Меня в покое!"
И, боясь,
Что, может быть, его ударю,
Что кулаки я, вздрогнув, сжал,
Он, недостойно государя,
По-мышьи пискнув, отбежал.
О царь! Прошу тебя: цари!
Вынь из ушей скорее вату!
К тебе, возлюбленному брату,
Я обращаюсь – посмотри!
Разбужен оттепелью ранней,
Услышишь завтра даже ты:
Она трубит из темноты
Со снежных крыш высоких зданий
В свой серебристый звонкий рог,
Сама Весна!
Ясак, оброк —
Как звать не знаю эту дань —
И ты берешь с природы. Встань!
Ведь это же твоя земля!
Твои обрубки тополя
Стоят, сучками шевеля,
Тебя о милости моля!
Прислушайся к хвале ручьев,
Прими посольство соловьев
И через задние дворы
Иди, о царь своей свободы,
Принять высокие дары
От верноподданной природы!
1945
«И, по земле моей кочуя…»{68}
И, по земле моей кочуя,
Совсем немногого хочу я:
Хочу иметь такую душу,
Чтоб гибло всё, что я разрушу;
Хочу иметь такую волю,
Чтоб жило всё, чему позволю;
Сердце хочу иметь такое,
Чтоб никому не дать покоя;
Хочу иметь такое око,
Какое око у пророка.
Вот что хочу,– хочу глубоко!
1945
Любовь{69}
Ты жива,
Ты жива!
Не сожгли тебя пламень и лава,
Не засыпало пеплом, а только задело едва.
Ты жива,
Как трава,
Увядать не имевшая права.
Будешь ты и в снегах
Зелена, и поздней Покрова
[68]
.
И еще над могилой моей
Ты взойдешь, как посмертная слава.
И не будет меня —
Ты останешься вечно жива.
Говори не слова,
А в ответ лишь кивай величаво—
Улыбнись и кивни,
Чтоб замолкла пустая молва.
Ты жива,
Ты права,
Ты отрада моя и отрава.
Каждый час на земле —
Это час твоего торжества!
(1946)
Северная сказка{70}
Ты был на рубеже Гипербореи,
Где, низменность болотистую грея,
Ночное солнце светит зло и косо,
Где хвойный лес с подземным углем сросся,
А в небесах полярные магниты
Меняют многоцветную окраску?
Эвакуирован во дни войны ты
В те страны не был?
Нет!
Так слушай сказку
Про жизнь на рубеже Гипербореи.
Ту сказку мне рассказывали реи,
Шептали пароходные колеса.
Был город у границ Гипербореи.
Чудесный город, где орнамент ставен,
Напоминая по рисунку плавень,
Напоминал порой осенний ливень,
А иногда и мамонтовый бивень,
И черепа таинственных животных,
Еще ужасных, но уже бесплотных.
Таких рисунков было много сотен
На дереве ворот и подворотен,
На стенах и карнизах, на заборах,
На тех домах, что вечно на запорах,
На тех домах, и нет уже которых…
Ну, хорошо! Под осень были ярки,
Я говорю: под осень были ярки
Закаты, камни, листья в старом парке,
Над крышами скрипучие флюгарки,
Бойницы, стены, каменные арки
И мостовая вся из плах еловых, древних…
А пировали мы тогда в харчевнях,
Где, разодеты в шубы меховые,
Охотники хохочут молодые,
А подают им девы роковые,
Подробно не опишешь – каковые;
Они имеют, дочери России,
Глаза гиперборейски-голубые
И волосы уральски-золотые —
Те девы мангазейски-пресвятые,
Те девы – Евы, чрева королевы.
Я не забуду, как перед печами
Уху они готовили ночами,
Чтоб стерлядь и на блюде вся дрожала б
И на несвежесть не было бы жалоб…
У сумрачных границ Гипербореи,
Близ гавани, где парусников реи,
Одетые тяжелыми холстами,
Среди тумана кажутся крестами
И иногда – грозящими перстами
У сумрачных границ Гипербореи.
Но посмотри!
Какие перемены
Вершатся в мире древней снежной пены,
Какое нынче озаряет пламя
Кают и рубок стонущие стены.
Послушай:
С городскими колоколами
Перекликается под куполами
Чей голос?
Чей голос?
То не льдина раскололась.
Не снег скрипит,
Не стонет санный полоз,
То не из трюмов, темных и огромных,
Стремительные хлюпают насосы,
То не гуденье стрел грузоподъемных,
Что мечутся над палубами, косы,
Под дробный хохот ржавых кабестанов
[69]
.
Но что это?
Спроси у капитанов.
Ответ их прост:
Отныне и навеки
Мы приобщили
К миру
Эту область —
Гиперборею, чьи волшебны реки.
В стране зимы
Жива лишь наша доблесть!
(1946)
«Еще черны и ус, и бровь…»{71}
Еще черны и ус, и бровь,
Еще танцует, приседая,
Еще толкует про любовь,
К руке губами припадая.
"Еще толкует про любовь,
К руке губами припадая?"
– "Да, да! Его седая кровь
Еще клокочет, оседая!
Ни в чем ему не прекословь!
Он завтра сам поймет, рыдая,
Что у него не только кровь,
Не только кровь уже седая…"
Смотри, он пляшет, приседая!
(1946)
Переправа{72}
Туман. Река. Клубятся облака.
Я жду. И вместе ждут у переправы
Охотники, солдаты, гуртоправы,
Врачи, крестьяне… Всех томит тоска.
Толкуют, что сюда не для забавы
Пришли. И переправа не легка.
И вообще дорога далека…
Так говорят. И я в ответ:
«Вы правы!»
Тут кто-то вдруг: «Паром! Паром!» – кричит.
А изо мглы не эхо ли звучит:
"Харон
[70]
! Харон!"
Я слышу это имя.
Вот перевозчик. Медленно гребет.
Приткнулась лодка. Кинулся народ.
И на борт я вступаю вслед за ними.
Мой правый берег, навсегда прости!
К твоим низинам не вернусь песчаным.
Вздымай, река, стремительно кати
Крутые гребни в сумраке туманном!
Но поведенье кажется мне странным
Гребца.
«Ты трезв?»
Молчит.
«Устал грести?»
Устал.
А в лодке душ до тридцати.
«Пусти на весла! Говорю, пусти! Пусти, проклятый!»
И, в бессилье пьяном,
Тут впрямь от весел отвалился он,
И ветер веет пепел с небосклона,
И на меня глядят со всех сторон
Все тридцать душ тревожно, напряженно.
А я неторопливо, монотонно
Гребу во мрак.
Меня зовут Харон!
И всё понятно.
Над водой встают дебаркадеры, статуи и зданья.
Всех городов я вижу очертанья,
Где находил когда-то я приют.
Я позабыл оставленный уют,
На деловые не пойду свиданья,
И той, что любит, слышу я рыданья.
Нет, я не тут!
Харон меня зовут!
«Харон! Харон!» – кричат на берегу.
Напрасный зов!
Не превознемогу
Стремительность подводного теченья.
И вёсел всё медлительней размах.
Ведь всё равно за Стиксом
[71]
на холмах
Все встретимся мы там без исключенья!
Так я решил.
И левый берег, крут,
Вдруг встал из мглы.
И веет с этой суши
Горячим ветром.
Трепещите, души!
Суд ждет вас здесь. Последний, Страшный суд!
Но почему такое равнодушье?
Не мечутся, не плачут, не клянут,
А слышу я:
«Причаливай вот тут!»
– "Да нет, не тут, а здесь вот, где посуше!"
– «Неужто вы не видите мостков!»
Эреб
[72]
! Эреб! Так вот ты есть каков!
Чу! Звон подков. Гудки грузовиков.
И лодочник, во всю орущий глотку,
Чтоб услыхал бы весь загробный мир:
"Озорничал вот этот пассажир!
Сам, видно, пьяный. Всполошил всю лодку!"
(1946)
Первый снег{73}
Ушел он рано вечером,
Сказал:
«Не жди. Дела…»
Шел первый снег.
И улица
Была белым-бела.
В киоске он у девушки
Спросил стакан вина.
"Дела…– твердил он мысленно,—
И не моя вина".
Но позвонил он с площади:
«Ты спишь?»
– "Нет, я не сплю".
– «Не спишь? А что ты делаешь?»
Ответила:
«Люблю!»
…Вернулся поздно утром он,
В двенадцатом часу,
И озирался в комнате,
Как будто бы в лесу.
В лесу, где ветви черные
И черные стволы,
И все портьеры черные,
И черные углы,
И кресла черно-бурые,
Толпясь, молчат вокруг…
Она склонила голову,
И он увидел вдруг:
Быть может, и сама еще
Она не хочет знать,
Откуда в теплом золоте
Взялась такая прядь!
Он тронул это милое
Теперь ему навек
И понял,
Чьим он золотом
Платил за свой ночлег.
Она спросила:
«Что это?»
Сказал он:
«Первый снег!»
1946
Слон{74}
Вот видишь:
Он —
Слон.
Беспокойно трубя,
Из хобота он
Поливает себя.
На небе нет туч,
И бетон раскален.
Водою, могуч,
Обливается слон.
И так она плещет, вода, холодна,
Что радуга блещет под брюхом слона.
Встает она в ливне дугой золотой,
Сияет на бивне, дрожит под пятой.
Но вот водоем почему-то стал пуст,
Послышался гравия тягостный хруст.
И прочь из бассейна кидается слон,
На холм земляной поднимается он.
И, эту иссохшую бездну топча,
Трубит и подземного ищет ключа,
Который от жажды мгновенно спасет.
Ты видишь —
Он хоботом землю сосет!
И, фыркнув, он пылью обсыпался вдруг,
И пылью весь мир напитался вокруг,
Чтоб, вырвана с корнем, летела трава,
И с ближних кустов повалилась листва,
И пылью покрылась твоя голова.
Ты пыль отряхнула, сказав:
«Не беда!..»
Шипела газированная вода,
А я, утолив свою жажду вином,
Сказал, что и я был однажды слоном
И пеплом, бушуя, посыпал главу…
Так
Топчем траву
И срываем листву
И тех, кто ждет радуг,
Купаем в пыли,
Нарушив порядок
Небес
И земли.
1946
«Уйдя, Вы дверью хлопнули…»{75}
Уйдя,
Вы дверью хлопнули;
Войдя, чтоб вновь начать,
Ногою об пол топнули…
Я буду всё прощать.
Вы будете кричать,
Браниться, волноваться,
Рычать, сопротивляться.
Я буду всё прощать.
Вас будет возмущать,
Бесить мое уменье
Прощать. Но тем не мене
Я буду всё прощать.
И это ощущать
Вам будет всё труднее.
Я буду всё прощать —
Я вас в сто крат сильнее!
1946
Гномы{76}
Нас ссорят гномы.
Много ли гномов?
Гномов великое множество.
Тут и там есть свой гном, но неведомый нам,
И, зная их качественное ничтожество,
Мы гномов не знаем по именам.
В самом деле —
Ссорили нас великаны?
Нет!
Исполины не ссорили нас?
Нет!
Разве могли бы гиганты забраться
В тарелки, графины, стаканы
И причинить нам хотя бы микроскопический вред?
Нет!
Это бред!
Лишь одни только гномы за нами гоняются вслед.
1946
Мороз{77}
Мороз был – сорок! Город был как ночью.
Из недр метро, как будто из вулканов,
Людских дыханий вырывались клочья
И исчезали, ввысь бесследно канув.
И всё ж на стужу было непохоже:
Никто ничто не проклинал сквозь зубы,
Ни у кого озноб не шел по коже.
Сквозь снежный блеск, бушуя, плыли шубы.
Куда? Конечно, в звонкое от зноя,
Давно уже родившееся где-то
Пшеничное, ржаное и льняное,
Как белый хлопок взрывчатое лето.
Казалось, это видят даже дети:
С серпом, силком и рыболовной сетью
То лето, величайшее на свете,
В цветы одето посреди столетья!
То лето – как великая победа,
И суховеи отошли в преданья,
И пьют росу из тракторного следа
Какие-то крылатые созданья.
И неохота ни большим, ни малым
Пренебрегать цветами полевыми,
И зной дневной скреплен закатом алым
С теплейшими ночами грозовыми.
Ведь нет сильнее этого желанья,
Мечта такая – сколько красоты в ней,
Что зимние студеные дыханья
Вернутся в мир в обличье чистых ливней!
Вот что хотелось увидать воочью,
И было надо настоять на этом.
Мороз был – сорок! Город был как ночью,
Как ночью перед ветреным рассветом.
1946
Печаль-путешественница{78}
Та река широка была,
Ты меня к воде подвела,
Ты сказала: "Печаль свою смой,
И, как прежде, ты будешь мой".
Я поплыл и печаль свою смыл
И, как прежде, стал тебе мил.
А печаль моя поплыла,
Поплыла по реке в Океан.
В Атлантическом океане
Пусть встречают ее англичане,
Пусть увидит норвежец и швед,
Пусть узнает весь белый свет:
Русы косы моей Печали,
Два крыла у нее за плечами,
Чтобы волны ее качали,
В Океане,
Там,
Далеко…
1946
«Ты Без меня…»{79}
Ты
Без меня —
Только дым без огня.
Ты
Без меня —
Это только одно
Блещущей цепи немое звено,
И не подымет, конечно, оно
Якорь, ушедший на самое дно.
Ты
Продолжалась бы после меня
Только бы разве как ночь после дня
С бледными
Звездами
Через окно.
Эхо мое!
Но, со мной заодно,
Ты повторяешь средь ночи и дня:
"Ты
Без меня —
Только дым без огня!"
1946
Вода{80}
Вода
Благоволила
Литься!
Она
Блистала
Столь чиста,
Что – ни напиться,
Ни умыться.
И это было неспроста.
Ей
Не хватало
Ивы, тала
И горечи цветущих лоз.
Ей
Водорослей не хватало
И рыбы, жирной от стрекоз.
Ей
Не хватало быть волнистой,
Ей не хватало течь везде.
Ей жизни не хватало —
Чистой,
Дистиллированной
Воде!
1946
Проходные дворы{81}
Проходные дворы,
Проходные дворы,
Вы наследье суровой военной поры.
Лишь война,
Лишь война только знает одна,
Сколько старых заборов сломала она!
Сколько старых сараев
Досталось печам,
Чтобы город и сам не пылал по ночам!
Вот звенят топоры,
И уже не нужны
Проходные дворы, порожденья войны.
Проходные дворы,
Проходные дворы,
Возле мусорной урны кошачьи пиры.
Ликвидировать это
Вы будьте добры.
Навсегда проходные забудьте дворы!
Но и ныне я вижу весь город насквозь,
И навеки я знаю его наизусть,
Знаю всё наизусть я: и радость и грусть,
И не буду блуждать никогда на авось.
1946
Семнадцатый год{82}
Хотя
Ничто
Былое
Не вернется —
Воспоминанья никуда не денутся.
И я умел смотреть на это солнце
Глазами беззаботного младенца.
Но это было не такое солнце,
А то, что, не желая закатиться,
Старается за вывески цепляться
И в бледные заглядывает лица.
Я видел это меркнущее солнце
Гостинодворца и охотнорядца.
И я увидел
Новое светило,
Которое из бездны небосвода
О собственном восходе возвестило
Скупцам, святошам, франтам, спекулянтам,
Когда январь Семнадцатого года
Вдруг изошел февральскою метелью
[73]
,
Чтоб обернуться мартом с красным бантом
[74]
И отступить, и место дать апрелю
[75]
,
И маю, и июню, и июлю,
И августу, когда не от прохлады,
А без пощады листья пламенели
[76]
,
Чтоб сквозь сентябрь,
Сметая все преграды,
Пришел Октябрь в распахнутой шинели.
1947
Кувшинка{83}
Цвела кувшинка на Руси…
В пруду, где дремлют караси,
Купался ты. И вдруг она
Всплыла, как будто бы со дна.
И ты спросил ее во тьме:
"Цветок! В своем ли ты уме?
А если я тебя сорву?"
– "Сорви! Не бойся. Оживу!"
…Кувшинкам трудно – до вершин,
Кувшинкам хочется в кувшин,
Хотя бы очень небольшой,
Но с человеческой душой.
1947
«С осторожностью птицелова…»{84}
С осторожностью птицелова
Я ловлю крылатое слово,
А потом отпускаю на волю
И его покупать никого не неволю,
Да его продавать ведь никто и не волен,
Чем я очень и очень доволен!
1947
Даритель счастья{85}
Когда б затеял написать я пьесу,
Чтоб занавес раздернуть как завесу
Над этим миром и людским бы взорам
Открыть просторы, нет границ которым,—
Ту драму я б назвал «Даритель счастья».
Ее герой бы одержим был страстью
В чужие судьбы вмешиваться смело,
Чтоб всем помочь, но делал это дело
Всегда смешно, наивно, неумело.
Так – в первом акте.
Действие второе:
Все дружно проклинали бы героя,
Что в жизнь друзей он путаницу вносит,
Убить грозили, если он не бросит
Совать свой нос куда его не просят,
И знал бы зал – пришлось герою туго:
Блеснул кинжал в руке злодея-друга,
Знакомые бежали от испуга.
Но показал бы в действии я третьем,
Что истина скрывается за этим
Столь бестолковым времяпровожденьем..
Всё кончилось бы пляскою и пеньем.
Такую пьесу всё мечтал создать я
И написал бы, драматург я будь бы,
Но не пишу, а вот ведь в чем проклятье
Мое это обычное занятье —
Вот так в чужие впутываться судьбы!
1947
«Я понял!..»{86}
Я понял!
И ясней и резче
Жизнь обозначилась моя,
И удивительные вещи
Вокруг себя увидел я.
Увидел то, чего не видит
Иной вооруженный глаз
И что увидеть ненавидит:
Мир я увидел без прикрас!
Взор охватил всю ширь земную,
Где тесно лишь для пустоты.
И в чащу он проник лесную,
Где негде прятаться в кусты.
Я видел, как преображала
Любовь живое существо.
Я видел Время, что бежало
От вздумавших убить его.
Я видел очертанья ветра,
Я видел, как обманчив штиль.
Я видел тело километра
Через тропиночную пыль.
О, вы, кто в золоченой раме
Природы видите красу,
Чтоб сравнивать луга с коврами
И с бриллиантами росу,—
Вглядитесь в землю, в воздух, в воду
И убедитесь: я не лгу,
А подрумянивать природу
Я не хочу и не могу.
Не золото – лесная опаль,
В парчу не превратиться мху,
Нельзя пальто надеть на тополь,