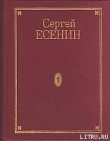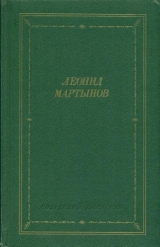
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Леонид Мартынов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
– "Ну ладно, не дерзи, преступница проклята,
Не то сейчас в острог препроводим назад!"
С дворянами знакомится аббат.
«Вам,– говорят,– уже готовим мы покои».
Но Дотерош на них замашет как рукою:
"Нет,– говорит он,– нет! Всё это ни к чему!
В котором я живу, в том буду жить дому,
С гостеприимным сим приютом не расстанусь.
Естественность люблю. У ратмана останусь!"
*
И то ли потому, что жить у нас он стал,
А может быть, чего он лишнего болтал,
Но только слух прошел про нашего аббата:
Натура, мол, его весьма чудаковата
И вовсе он не поп французский никакой,—
Не монастырский, мол, аббат он, а мирской,—
Во Франции, мол, есть аббаты разной масти,
И будто бы аббат он по научной части,
Затем и простоват. Так люди говорят.
Однажды утречком пьет кофий наш аббат,
Как вдруг увидела я повара Шабера.
"Где здесь,– он вопросил,– аббатская квартера?
Ему-де редкостей принес я кой-каких".
– «Ну-ну! – кричит аббат.– Показывайте их!»
Тут скорчил наш кухмистр гримасу воровату,
И что-то в пузырьке он предъявил аббату.
"Вот! Насекомое редчайшее одно.
В Китае,– молвит плут,– лишь водится оно,
И кормится оно одним зеленым чаем!"
Тут рассмеялась я: "Такую редкость знаем!
О, господин аббат! Пойдемте в огород —
Подобных рыжих мух у нас невпроворот.
Гоните, мой аббат, вы повара подале!
Мы редкостей таких во множестве видали".
Уходит этот плут, но дней так через пять
К аббату он тайком является опять.
Такую он еще проделать вздумал шутку:
Продать за три рубля обыкновенну утку,
Которая у нас копейки стоит две.
"Заметьте,– говорит,– к змеиной голове
Чудесно приросло всё туловище птичье!"
– "Уйди! – я говорю.– Не то возьмусь за бич я!
И вслед ему еще я выкрикнула так: —
Единоверец твой и все-таки земляк!
Зачем обманывать?" А плут и в ус не дует:
«Аббата не надуй, так он тебя надует!»
Я поняла: Шабер француз хоть, а мужик
И к благородной он компанье не привык.
К учености питал он зависть нехорошу.
А вскорости я так сказала Дотерошу:
"Коль редкостей искать – пойдемте на базар,
Там отовсюдова встречается товар".
– «Готов!» – сказал аббат. И на гостиный двор
[620]
мы
Приходим как-то раз. Заводим разговор мы
С торговыми людьми… Китайские чаи,
Морошка северная, курски соловьи
Для тех любителей, из Курска кои родом.
Орехами базар богат и медом.
Бухарцы
[621]
привезли в тот раз каракульчу.
Чего тут только нет! Всё показать хочу.
Вот рухлядь мягкая с Обского Лукоморья
[622]
,—
Об этом завожу с аббатом разговор я.
"Там молятся, мол, бабе золотой
[623]
!"
– "Та баба,– он спросил,– блистает красотой?"
– "Сама не видела, а коли верить слухам,
Она – скуластая да с выпученным брюхом,
А чиста золота пудов в ней есть до ста,
Но, впрочем,– говорю,– в глухие те места
Не проникал никто, а проникали кабы,
Там бы давным-давно не уцелело бабы".
– "Да,– молвил Дотерош,– нет слов, ваш край богат.
Олень тут, говорят, у вас вдвойне рогат,
И всевозможных руд не трудно тут сыскати.
Град чуден ваш Тобольск
[624]
, что на восточном скате
Стоит Уральских гор уже двухсотый год.
Империи незыблемый оплот,
Воздвигнут город сей Востока при пороге.
Всё, всё я опишу, что видел по дороге!"
Откуда ни возьмись явился тут Антон,
К аббату подбежав, всё кланяется он:
"Исправлена ль труба, сгодится ли треножник,
В порядке ль окуляр?"
– "Да-да, мосье художник.
А что купили вы, сказать будьте добры?"
– «Я,– говорит Антон,– присматривал ковры».
Я ж слушаю: присматривал ковры ты!
Рассказывай, дружок, да ничего не ври ты.
Антон же между тем ведет в ковровый ряд
Аббата. Меж собой они тут говорят.
"Заняться я решил мануфактурой ткацкой,—
Антошка говорит,– к работе азиатской
Приглядываюсь я, чтоб кое-что понять…"
Ковровщик тут ковры как начал расстилать,
Ковров за пять минут сто развернул, не мене.
Бухарские ковры и наши из Тюмени
[625]
.
Вдруг закричал аббат: "Я по Европе всей
Проехал, но ковер тюменский дивный сей
Напоминает мне весьма неотдаленно
Изделья самого папаши Гобелена
[626]
!"
– "Да,– говорит Антон,– фигур лишь не хватат".
– "Магометанский стиль
[627]
,– ответствует аббат.—
Но коль сих мастеров заставить ткать бы шелком
Да производство то, мой друг, наладить с толком,—
Что, господин Антон, тужить насчет фигур!"
Антошке на ухо шепнул тут балагур,
А что, не поняла,– негромок был сей шепот.
«Да,– говорит Антон,– такой и мыслю опыт».
Беседуя, они весь обошли базар.
Кишмишу накупил аббат наш у бухар,
Ягушку
[628]
женскую он из гагачьих перьев
Купил, по простоте ее к себе примерив.
«Да это женская!» – ему я говорю.
"Ах так,– он отвечал.– Что ж, дамам подарю.
В Париж я привезу диковинных новинок…"
"Да, да! – я думаю.– Видать, что ты не инок,
Но бравый кавалер,– к любезности привык!"
Еще он приобрел себе моржовый клык,
Да стерляди живой, да туесок
[629]
морошки.
Поклажу ту нести велела я Антошке.
Вот так, покудова приготовленья шли,
Чтоб Венус наблюдать меж солнца и земли
Величественный путь, и телескоп покуда
Лудильщице лихой был отдан для полуды,
Всё хлопотала я, чтоб гость наш не скучал,
Чтобы плохих людей пореже он встречал,
А то ведь груб народ в углу у нас медвежьем
И посмеяться всяк мечтает над приезжим.
*
Успело лето тут вступить в свои права.
В зеленую листву оделись дерева…
Вечером как-то раз в сад я зову аббата.
А сад наш точно лес. Плывет луна щербата
Среди густых древес. Час поздний. Уж темно…
Каков весной Париж,– про игры в Рампоно
[630]
Болтает мой аббат да про бульварны фарсы,
Про то, какой парад видал на поле Марса
[631]
,
Про шумства школяров в тавернах у застав,
Да, кстати, и каков в Сорбонне
[632]
был устав,
С аптекарями как иезуиты спорят,
Как короля Луи
[633]
министры с чернью ссорят,—
О чем только аббат не толковал в тот раз!
С вниманием его я слушала рассказ —
Все любопытные известия на диво,
И излагает их аббат красноречиво,—
О многом он сказать умеет заодно.
Вот подле бани мы садимся на бревно.
Тут, тростью банных стен исследовавши гнилость,
Аббат вдруг вопросил: "Скажите мне на милость —
А вам, сибирякам, живется каково?"
А я ему в ответ: "Живется ничего…
Конечно, уж не столь резвимся на гуляньях".
– "А что,– он вопросил,– вы делаете в банях?"
– «Мы в бани,– говорю,– приходим, мыться чтоб».
– "Я слышал: нагишом кидаются в сугроб,
Из бани выбежав, люди в мороз трескучий".
Я говорю: "Таков бывает редко случай.
Идут на этот риск, кто слишком уж здоров…
Архиепископских спросите кучеров…
А те же,– говорю,– кто воспитаньем нежны,
Едва ли нагишом в сугробы скачут снежны".
– «А прутьями там бьют?» – вновь вопросил аббат.
"Нет,– говорю,– мосье. Ошибочен сей взгляд.
Вениками – да, парятся, кто хочет,
Березовый букет в воде горячей мочат
И парятся затем".
– «И польза велика?»
– "Вы это,– говорю,– прибыв издалека,
Извольте испытать. Вы попросите веник".
– «Так что ж,– ворчит аббат,– мне врал Шабер-мошенник?»
– «Известно,– я смеюсь,– что вздор он говорит».
– "А всё ж,– заметил Шапп,– сих бань причудлив вид
Гравюру закажу
[634]
, Антона как увижу.
Гравюру ту смотреть сбежится пол-Парижа!"
*
И наступил тот день… На городской крут вал
Всё население Шапп Дотерош позвал.
И губернатора со всем его советом,
И жены ихние, чтоб были бы при этом
Великом торжестве, как через солнца лик
Венус пройдет звезда. Свой телескоп велик
Поставил на валу на городском высоком
Аббат Шапп Дотерош… Толпа течет потоком.
Тут горожане, тут и мужики.
Татары скопищем пришли из-за реки…
"Алла! – кричат.– Алла
[635]
! Что в небе там?" – пытают.
"Ничто! – им говорят.– Там гурии
[636]
летают".
Павлуцкий тут как тут, безумный господин.
"Конца, мол, мира ждав, я дожил до седин.
Я Апокалипсиса
[637]
знаю откровенья:
Меж солнцем и звездой возможно столкновенье!"
Смеются все над ним. Сам губернатор наш
Стал выговаривать: «Оставьте эту блажь!»
Мол, женщины, вразнос торгующие репой
[638]
,
Не верят уж во бред Павлуцкого нелепый.
Приехал, наконец, архиепископ сам,
К аббату подошел, дивится чудесам,
Латинску речь завел тотчас архиепископ:
"Венера не пришла б к нам, грешным, слишком близко б,
Да не упасть бы ей на женский монастырь.
И так уж нравами прославилась Сибирь,
Особливо, аббат, все пригородны лавры —
Монахи тут у нас доподлинно кентавры!
Подобных им, аббат, едва ли где найдешь".
– "О нет! Повсюду так",– ответил Дотерош.
– "Всё ж вы, мой друг аббат, жалеючи народа,
Прелестную звезду гоните с небосвода!"
Да захохочет как! Смеется и аббат.
Как будто бы они о деле говорят,
А если разобрать,– так уноси святыни.
Но кто же тут учен церковной их латыни?
Ведь даже не поймут, о чем толкует он,
Премудрых мниха два – Нил и Галактион.
Обоих вижу я: стоят в соседстве тесном,
Знамением себя лишь осеняют крестным.
Смешно и поглядеть на этаких святош.
Вниманием меня не дарит Дотерош,
Среди он знатных лиц, а я всё ж не дворянка.
Вдруг замешательство в толпе и перебранка.
Расталкивает всех, немало горд собой,
Антошка со своей оптической трубой.
Ее он укрепил на деревянны ножки.
Мальчишество резвится вкруг Антошки.
А между ними и Павлуцкий-господин.
«Позвольте поглядеть в трубу хоть миг один!»
– "Нет,– говорит Антон.– Для вас тут нету места.
А будет Венус зрить со мной моя невеста!"
И тянет он меня, проклятый, за рукав.
И говорит он мне, хитер, весьма лукав:
"Твой господин аббат забыл тебя, драгая!
Смотри в мою трубу!" Но я, его ругая,
Зардевшись от стыда, отшатываюсь вспять.
Тут, дерзкий, за рукав цепляется опять.
И вот, уже без сил, смущаясь и робея,
Как он меня просил, приблизилась к трубе я.
И, как Шапп Дотерош стоит среди господ,
Так малый телескоп наш окружил народ.
"Ты, ратманская дочь,– я слышу восклицанья,—
Получше различи планетное мерцанье!"
– «Уж ладно!» – говорю…
И в этот самый миг
Венера наплыла на Гелиоса лик.
Всем возвестил сие аббата голос звонок.
Вдруг замер весь народ. И лишь грудной ребенок
Заныл среди толпы у бабы на руках.
Я помню вал, людей и небо в облаках.
И закопченные мерцают тускло стекла.
На солнце я гляжу. Нет! Солнце не поблекло.
Что вижу я? Ничто! Лишь огненную мглу.
Ах! Словно чья-то тень проходит по стеклу.
Ах, черная! Ах, пламень вспыхнул красный!
Не девы ль силуэт вдруг вижу я неясный?
Конечно, Венус то!
"Антон,– шепчу,– Антон!
Взгляни!"
Лицо свое с моим тут сблизил он.
«Ты видишь?»
– «Вижу!»
– «Что?»
– «Каку-то красну блошку!»
Я оттолкнула прочь презренного Антошку.
«Дурак,– шепчу,– болван. Гляди в трубу один!»
Но тут припал к стеклу Павлуцкий-господин,
Он чмокает, пыхтит, он напирает задом.
"Что делать,– думаю,– с такой фигурой рядом?
Мне надобно уйти!" – И боком, кое-как
Тут пробиваюсь я через толпу зевак.
Виденья своего я необыкновенность
Навеки сохраню. Я лицезрела Венус!
*
Был вечер. Городской уж обезлюдел вал.
Аббат же как ушел, так дома не бывал.
Отец мне говорит: "В честь обсерваций оных
Сегодня будет бал в палатах во казенных,
И обещал прибыть туда часам к восьми
Сам губернатор наш с женой и дочерьми.
Профосиха туда пойдет в античной маске.
Там будет фейерверк, каки-то игры, пляски,
И гостя ты домой не жди, пожалуй, дочь,
Поскольку, пиршество продливши целу ночь,
Поедут допивать на архирейску дачу".
Тут спать пошел отец. Сижу я, чуть не плачу,—
Обидно всё же мне – свет до чего спесив,
Что гостя увезли, меня не пригласив.
Хотя, конечно, мой папаша не из знати,
А всё же ратманом он в нашем магистрате.
Хоть из городовых он родом казаков
[639]
,
Но обходителен довольно и толков,
Избранник от людей торговых и посадских.
Нуждаются в его услугах магистратских,
А коли пиршество – не пустят до дверей!
Я губернаторских не хуже дочерей!
Французскую я речь не меньше разумею,
И танцы я плясать не хуже их сумею…
Ах, вижу, в небесах взметнулся фейерверк.
Он, тысячами искр рассыпавшись, померк.
Гляжу в оконце, жду другого фейерверка.
Вдруг вижу: во саду приотворилась дверка.
«Антон!» – я думаю. Шалишь ты! Не войдешь!
Нет! Вовсе не Антон. Аббат мой Дотерош!
В шинели голубой одетый он парадно,
Приблизился. Вином пахнуло преизрядно.
И, глянув на меня, мечтательно он рек:
"Чрез Вену ехал я, Брюнн
[640]
, Никольсбург
[641]
, Фридек
[642]
,
Австрийских видел дам, прельстительных полячек,
Но только никого нет краше сибирячек!
Прелестнее тебя я, дева, не видал!
Сегодня в телескоп Венеру наблюдал,
Но, чтоб Венеры путь видеть чрез диск солнца,
Лишь надо заглянуть в сей дом через оконце!"
О, боже! Таковы услышавши слова,
Бегу в сад, трепеща. Кружится голова.
У бани на чурбан бессильно опускаюсь,
За некий стебелек рукою я хватаюсь,
И, сей цветок сорвав, дрожит моя рука…
И звездочета речь звучит издалека:
"О! "Киприпедиум иль Башмачок Венерин
[643]
!
Небесный в этом знак, хоть я не суеверен".
Вот каковой тогда я сорвала цветок.
Он называется «Венерин Башмачок»,
Таежный сей цветок, расцветший подле бани,
Как будто бы судьбу свою он знал заране!
3
Осталось рассказать немного мне сейчас,
Подходит он к концу, подробный сей рассказ,
Хоть повествую я, быть может, и нескладно…
Есть сочинители ученые изрядно,
Но на французский лад да на латинский лад,
Как эхо мертвое, их голоса звучат,—
Я ж повести моей лишь в том и вижу ценность,
Что смело я иду на полну откровенность.
И, строги критики, мне дела нет до вас!
*
Прошло уж года три, как Шапп покинул нас,—
Всё замуж не иду. Архиепископ сам уж
Рек: "В нынешнем году дочь, ратман, выдай замуж!
Я ж думаю – придет еще моя пора!
Живу и не тужу. Сегодня что вчера:
Схожу в господен храм, схожу помыться в баню,
То набелюся я, то щеки нарумяню
Да очи подведу, чтоб стал приятней взор,
Зимою с ледяных катаемся мы гор,
Как девам следует, на легоньких салазках
И святки, как всегда, проводим в играх, в плясках.
А замуж не хочу – спокойней так душе.
Как лето подойдет, купаюсь в Иртыше
Среди других подруг. Я в камышах разденусь
И, отраженная зеркальной гладью Венус,
Июльскую в реке затею ворожбу.
Я знаю: зрит на нас в подзорную трубу,
За кручей скрыт, Антон, поклонник мой упорный.
Что мне? Пускай мечтой себя он тешит вздорной.
Ведь многие еще, во мгле по вечерам,
Речного берега по глинистым горам,
Из бурсы школяры да гвардии сержанты —
Блуждают в поздний час, когда поют куранты
Над башней ратуши, предвозвещая ночь.
"Купается сейчас, мол, ратманская дочь,
Венера здешняя!" Иртышски волны плещут,
Над яром же в кустах, что волчьи, очи блещут…
О, люди добрые! Обычай вам хорош —
Венеру наблюдать – оставил Дотерош.
Как обсерваторов клеймила я подобных!
Немало им я слов презрительных и злобных,
Бывало, говорю, коль явятся в наш дом.
Родитель, не поняв иль разобрав с трудом,
К чему мои слова, корит: "Ты злая дева!
Во власти ты всегда презрения и гнева!"
Нет, мой отец, была во власти я мечты,
Но тайную мечту не смог понять бы ты!
Я думала, что цел мой Башмачок Венерин,
Его в Париже след, я мнила, не потерян-
Мне снился всё еще чудесный этот сон.
Раз, помню, прибежал к родителю Антон:
"Ну вот, из Питера имею разрешенье
Я фабрику открыть за городом Тюменью!
Поможет выполнить мне это магистрат?
Довольно уж теперь я сделался богат.
Архиепископ сам мне оказал вниманье.
Я фабрикантом стать давно имел желанье —
Хочу производить я некие ковры.
Ткачих купить помочь мне будьте вы добры,
Как следует сие обдумав в магистрате.
Вы можете моим компанионом стати,
Коль скоро ваша дочь захочет то, отстав
От милых для нее девических забав.
А то останется она ведь стара дева!"
Затрепетала я от горя и от гнева,
Услышав, как сие выкрикивает он.
Я вышла, говорю:
"Послушайте, Антон,
Персона ваша вся мне до того отвратна,
Что где вы сядете, там вижу грязны пятна,
И, как уходите, там всё еще пятно…
Когда ты прочь пойдешь, и дверь я и окно
Стараюсь распахнуть, Антон, сколь можно шире
Подлей тебя никто не проживал в Сибири!"
*
А дальше вышло так. Угрюм, потупив взор,
Пришел к отцу писец: «Зовет, мол, прокурор!»
– "А для чего, дружок?"
– "Да так… По делу, лично.
Каку-то смотрит он картинку неприличну".
Ушел отец. Домой вернулся через час.
Глядит он на меня, ах, не спуская глаз.
Зовет к себе в покой. Дверь запер на задвижку,
Дрожащею рукой выхватывает книжку.
«Читай-ка, дочь!»
Едва губами шевеля,
Шепчу: "Вояж в Сибирь по воле короля
В год тысяча семьсот шестьдесят первый…
Которое в себе отчет содержит верный…"
– "Отец! Да это ж труд аббата Дотерош
[644]
!"
– "Да. Правильно! —отец сказал мне.– Ты не лжешь .
В Париже куплено у книжника Дебюра
[645]
! —
Взял книгу тут отец.– А вот сия гравюра!
Рисуночек хорош? Фигуры узнаешь,
Которы поместил в сей книжке Дотерош?
Вот на гравюре сей знакома ли фигура?
То вымысел, скажи? А может быть, натура?"
О, боже! Какова мерещится мне дрянь!
Гравюра такова: изображенье бань,
Каких в Сибири мы не видывали сроду
[646]
.
Он, дымный, адскому весьма подобен своду,
Свод этих мнимых бань. Взобравшись на полки,
Торжественно сидят нагие мужики,
А рядом – девушки и маленькие дети…
«Где ж бани таковы сумел он подглядети?»
– "Ты подожди-ка, дочь,– родитель молвит мой,—
Ужель не узнаешь ты здесь себя самой?
Ужель самой себя не можешь ты узнати?
Признал ведь прокурор, признали в магистрате…"
*
Так в величайшую попала я беду.
"Отец,– кричу,– отец! Я в монастырь уйду!
Чтоб скрыться от стыда, иное есть ли место?
Пусть буду я, отец, Христовая невеста!"
– «В монашки хочешь?»
– "Да! – безумно я кричу.—
Я ж опозорена. Покой найти хочу.
За грешны помыслы приму я наказанье,
А мне помогут в том посты и бичеванья.
Отец,– кричу ему,– иди же поскорей!
И всё ты разузнай насчет монастырей,
Как принимают в них, устав в котором строже…
О, боже! Помоги мне, всемогущий боже!"
Спровадивши отца, за книжку вновь берусь.
О, злой Шапп д'Отерош! Приехав к нам на Русь
Зрить через солнца лик Венеры прохожденье,
Премудрые весьма ты сделал вычисленья,
Чтоб с достоверностью все люди бы могли
Знать расстояние от солнца до земли.
Вот для сего, аббат, и книгу публикуешь,
Европа рада вся, и ты, аббат, ликуешь,
ту солнца параллакс
[647]
решил определить.
Затея доблестная, что и говорить!
Почто же, д'Отерош, служа своей науке,
Людей ты оболгал, меня обрек на муки?
Кому в угоду, Шапп, так опоганил ты
Невинные мои девически мечты?
Венерин Башмачок зачем ты брал в подарок?
…Ах, помню: был июль не по-сибирски жарок,
А осень – холодна. Осталась я одна.
Бывало, у окна сижу всю ночь без сна,
Одною лишь мечтой напрасною согрета:
Придет, мол, день златой позднего бабьего лета!
Что сделала тебе плохого я, аббат?
Зачем изобразил? Теперь ведь засрамят!
Бесстыдницей меня соседи все закличут.
И засмеют меня, и пальцами затычут.
Ах, опозорена! На рынок по утрам,
И в праздничные дни молиться в божий храм,
И на берег речной я выйти не посмею —
Все засмеют меня!
Но кто, подобно змею,
По древу за окном взбирается? Кто он?
Ах, кто же мог другой быть, кроме как Антон!
Не кто другой, как он, вернейший мой поклонник,
С древесного ствола ползет на подоконник.
Я вижу, из листвы, обрызганной росой,
Антон явился вдруг с напудренной косой,
В кафтане, в треухе.
«О, Венус! Люба Венус!»
– "Отворотись,– шепчу,– и жди, пока оденусь".
– "А что,– он говорит,– мы медлить будем тут
Да ждать, когда тебя в монашки постригут.
На древе добрый час сидел я. Ноет тело.
Весь слышал разговор. В монашки захотела!
Сей замысел оставь. Архиепископ прав,
Что во монастырях злой дух вдвойне лукав.
Доверься моему, о люба, разуменью:
На фабрику ко мне уедем под Тюменью".
– "Постой! – я говорю.– Опять ты что-то врешь!
Тебе… заказывал гравюру д'Отерош? ,
Я говорю, ты бань писал изображенье?"
А он в ответ:
«Спешим! За городом Тюменью…»
– "Нет,– говорю,– ответь: чертеж ты делал бань?
Ощерился Антон. "Эй,– он кричит,– отстань!
Пусть даже бы и я… Случайно это сходство".
– "Нет в вас,– я говорю,– ни капли благородства!
А он в ответ:
"Меня преследовал твой лик.
Свой искуплю я грех, хотя он и велик.
Что хошь со мной твори!"
– "Ах, так,– и, улыбнувшись,—
Вот получи за то!" – сказала. Размахнувшись,
Антону нанесла удар я по лицу,
И вслед за тем пинок дала я подлецу,
Да так, что сапожка носок воткнулся острый
Сквозь треснувший кафтан, и вмиг от крови пестрой
Одежда сделалась.
«Что? Получил, подлец!»
Тут на переполох является отец.
Я думала: в окно Антон захочет скрыться.
Но нет! Родителя нахал сей не страшится.
"О, ратман! – крикнул он.– Хоть дочь у вас глупа,
Хоть ранен ею я – давайте нам попа!
Немедленно прошу нас с девой обвенчати,
Извольте дать попа. Вы ж ратман в магистрате!
Пусть дела,– он кричит,– не будет никому,
Что опозоренную замуж я возьму!
Положим тем конец мы недоразуменью.
На фабрику к себе под городом Тюменью
Супругу юную хоть завтра увезу.
Три ткацкие станка лежат уж на возу.
Поедем напрямик мы по лесным дорогам!"
– "Ну, дочь,– сказал отец,– давай решайся.
С богом!"
– «Я не хочу!» – кричу. Вдруг вижу: покраснев,
Как будто б обуял его великий гнев,
Пошатнулся отец, рухнул на пол со стоном.
И оба тут к нему мы бросились с Антоном.
Ах, чем помочь? Хрипит. Неужто смерть близка?
За отставным лечу драгунского полка
Лекарем, что меня латыни учил когда-то.
(Поблизости он жил у старого солдата.)
«Сейчас бежите к нам! Папаша занемог!»
– "Нет, опасаюсь я,– бормочет старичок.—
Мне ратман не простит язычески соблазны!"
– «Оставьте,– говорю,– вы шутки эти праздны!»
И в дом наш лекаря тяну я за полу.
По-прежнему лежит родитель на полу.
Склонился лекарь тут. Промолвил, вздохнув тяжко:
«Да. Апоплексия. По-русскому – кондрашка!»
*
Колоколов еще печальный звон не смолк,—
Он всё мне слышался,– но, чую, шуршит шелк…
И погребальные еще чадили свечи —
фату венчальную несли уже навстречу.
На церемонию не стали звать людей.
Но на конюшнях уж готовят лошадей.
Архиепископ сам пособник был Антонов,—
Венчали впопыхах, таясь, в обход законов.
И ночью старый дом покинула я наш —
Каки-то господа втолкнули в экипаж.
Куда везут? Что мне! Хоть в монастырь на Конду
[648]
!
Я, в бархатну закутана ротонду,
Дрожу. А мой супруг бормочет во хмелю:
"Ты – Венус! Я тебя без памяти люблю!
Везу во храм лесной, в волшебные хоромы".
Мрак, гари черные, седые буреломы…
Но вот и фабрика. Кругом ее леса.
Приветственные я не слышу голоса.
Цепные воют псы. Распахивает кто-то
Все червоточиной изрытые ворота.
Вот тут-то я впервой и вижу этих дев…
"О, боже,– думаю, на них я поглядев,—
Как девушки сии унылы и несчастны!
Как лица их бледны, а взоры – безучастны!"
«Откуда,– говорю,– девицы таковы?»
Антон же мне в ответ: «Привез из-под Москвы».
– "И не бегут?"
– "Зачем! Им жизнь така в привычку.
А, впрочем, мы сейчас устроим перекличку".
…Колоколов еще печальный звон не смолк,—
Он всё мне чудился… Но выл таежный волк
За фабрикой в лесах. Ах, откликались девы.
Девически мечты, я спрашиваю, где вы?
*
О муж, постылый муж, домой вернулся ты!
На ненавистные гляжу твои черты.
Ты спишь. Лицо твое и сыто и усато.
А ведь любил меня и ты, Антон, когда-то!
Давно любовником ты быть мне перестал.
Иное на уме. Негоциантом стал.
В Санкт-Петербург себе ты проложил дорогу.
Кто знает про твою сибирскую берлогу?
Тюмени около, в урмане
[649]
ты сидишь,
А люди думают: уехал ты в Париж,
В Берлине побывал, не миновал и Вены,
В дворцах ветшающих скупая гобелены.
Так люди думают. Уехал, мол, в Париж
За гобеленами. А ты вот здесь храпишь.
Кто догадается, что вовсе не в Париже
Товар находишь ты, а кое-где поближе.
Любители ковров! Платите не скупясь.
Княгиня Дашкова
[650]
и вы, великий князь
[651]
,
Сим рукоделием обейте хладны стены!
Но не в Европе те добыты гобелены.
Есть баня. Тут, в лесу, на берегу речном.
Есть баня, говорю, со слюдяным окном.
Поверьте! Вот она таится за заплотом
[652]
.
Нетоплена она, но истекают потом
Здесь девы пленные. И в карцере таком
Висят тринадцать люстр под низким потолком.
Ах, множество свечей струят потоки света,
Чтоб девы пленные трудились до рассвета.
Да! Знают только лишь дремучие леса,
Какие среди них творятся чудеса,—
Отнюдь не для мытья, совсем не для гаданья
Стоит на берегу таинственная баня.
Ее б изобразил презренный д'Отерош,
И, верно бы, таков рисунок был похож,
Как сими парками
[653]
сибирскими лесными
Иль девками, сказать вернее, крепостными
Плетется нить судьбы, и властвует, суров,
Над подневольными ткачихами ковров
Не Зевс, но мой супруг – хитрейший спекулятор.
Архиепископ сам и даже губернатор
Содействуют ему. Права он получил,
Тринадцать бедных дев он в баню заточил,
рисунки сочинив, чтоб эти девы пленны
Не уставали ткать поддельны гобелены,
А между них и я хирела, пленена.
Все думают: "Париж! Французская казна
Мануфактуру сих ковров имеет только".
Не верьте никому: в том правды нет нисколько!
Тут вовсе ни при чем французская казна!
Мужичек-мастериц сокрыты имена,
Но догадаться всем нетрудно об обмане,
Узнавши, чье лицо глядит с роскошной ткани.
Искусниц-мастериц, каких не знал Париж,
О муж, ты тростью бьешь и голодом моришь,
Чтоб девушки сии, прикованные к бане,
Одно мое лицо сумели ткать по ткани!
Замыслил негодяй – ткачихи ткать должны
Венер, Юнон, Минерв с лицом твоей жены.
Не захотел другой изображать фигуры,
Не пожелал иной ты подыскать натуры.
И так уж сотни раз меня ты продаешь,
Как продал в первый раз аббату д'Отерош
В уплату, может быть, и дал совет он дельный —
В лесах производить сей гобелен поддельный.
Для всех обнажена, Антон, твоя жена,
Блудливых стариков я радовать должна,
Чужих любовных ласк я вижу откровенность,
В альковах у вельмож пригвождена я, Венус!
А здесь? Ах, боже мой, и здесь покою нет!
Со злобою глядят ткачихи мне вослед.
Ка к убедить мне их, что злоба их напрасна.
Не менее рабынь хозяйка их несчастна.
Меж всех его рабынь я первая раба —
какова моя несчастная судьба!
Мне не уйти из пут искусной этой пряжи,
Меня ткачихи ткут на рынок для продажи,
И так за годом год, за годом год идет.
Ценитель сих Венер ответа не найдет,
Откудова и как родился призрак странный —
Из пены ли морской, из сырости ли банной?
Так думала сама вчера еще. Но нет!
Ценители Венер, получите ответ!
Сего не разъяснив, в могилу я не лягу.
Подайте ж мне, прошу, чернила и бумагу!
Гусиное перо подайте, я прошу,—
Вам о судьбе своей я повесть напишу.
Будете если вы повесть сию читати,—
Знайте – жесток Эрот, да и насмешлив, кстати.
Где Венус? Где звезда? Я вспомнить всё хочу.
Вот, взявши со стола оплывшую свечу,
Ладонью заслоню, чтоб пламя не мерцало,
И, крадучись, к тебе я подойду, зерцало.
Я пристально гляжу. Неужто отекло
И дышишь тяжело ты, хладное стекло?
Зерцало! Трепеща, стою перед тобою,
Как дева молода, что, тешась ворожбою,
Стояла, ах, не раз в отеческом дому.
О хладное стекло! Туманишься к чему?
Нет, нет! Не может быть, чтоб ты не захотело
Бесстрастно отразить еще живое тело!
Еще не гаснет нимб вокруг моих волос,
Еще глядят глаза, зеленые от слез.
Глядят ли? Боже мой! В зерцале, полном света,
Лишь тусклый огонек я вижу… Только это!
Оплывшую свечу, и больше ничего!
Оплывшую свечу, и больше никого!
Где Венус? Где звезда? Где женщина раздета?
Оплывшую свечу я вижу. Я ли это?
Гусиного пера не надо! – я кричу.—
Свою свободу я вернуть себе хочу,
Покудова свеча еще не догорела,
Покуда есть душа, покуда дышит тело.
Так мсти же за звезду, оплывшая свеча!
Пусть сизый язычок рванется, трепеща.
Он скачет. Он растет. Пусть ринется на стены!
Пожрет он пусть и вас, прокляты гобелены!
Столб пламени затмит холодный лик луны,
Проснитесь, девушки, что здесь заточены!
Вас, безымянных дев, вас, безнадежных узниц,
Зову на помощь я, как мстительных союзниц!
О, боже! Дым густой валит через окно,
Трещит под потолком тяжелое бревно,
Но дымовая вмиг развеется завеса —
Вас, девы пленные, я выведу из леса!
Навстречу пламени вей, ветер ледяной!
Ах, небо звездное открылось надо мной.
Незримою тропой из темного урмана
Иду на белый свет – Венера домоткана!
1939
Поэзия как волшебство{691}
1
Известно, что в краю степном, в старинном городе одном
жил Бальмонт – мировой судья.
Была у Бальмонта семья.
Все люди помнят этот дом, что рядом с мировым судом
стоял на берегу речном, в старинном городе степном
По воскресениям семью судья усаживал в ладью,
Вез отдыхать на островки вверх по течению реки
за железнодорожный мост.
А то, в своих желаньях прост, вставал он утром в три часа!
свистал охотничьего пса
И, взяв двустволку, ехал в степь.
Но в будни надевал он цепь
И, бородат, широкогруд, над обвиняемыми суд,
законам следуя, творил,
И многих он приговорил.
Тот город Омб
[654]
тонул в пыли.
Сквозь город непрерывно шли стада рогатого скота
к воротам боен.
Густота
Текущей крови, скорбный рев ведомых на убой быков,
биенье трепетных сердец закалываемых овец—
Вот голос Омба был каков.
И в губернаторский дворец
[655]
, в расположение полков,
В пассаж, что выстроил купец, к жене чиновничьей
в альков.
В архиерейский тихий сад – повсюду крови терпкий
смрад, несомый ветерком, проник.
И заменял он аромат, казался даже сладковат для тех.
кто к этому привык.
Такая жизнь уже давно шла в Омбе. И не мудрено,
не удивительно, что здесь,
Где город кровью пахнет весь, и человечья кровь текла.
Раз Бальмонт разбирал дела,
Спокоен, справедлив и строг, десятка два гражданских
склок с утра до полдня разобрал.
…Тот оскорбил, другой украл.
Одна свирепая свекровь невестку исщипала в кровь,
Ей скалкою рассекла бровь, и до сих пор сочится кровь.
Вот из предместья Волчий Лог
[656]
домовладелец приволок
другого мещанина в суд.
Друг другу в бороды плюют. Лишь у судейского стола
унять их удалось с трудом,
разнообразные дела решались мировым судом.
И думал Бальмонт: "Что же в суд мне заявлений не несут
Бедняги-пастухи о том, как их вчера лупил кнутом
В воротах боен гуртоправ, всю кожу им со спин содрав?
Кто прав из них и кто не прав? Виновный уплатил бы
штраф!"
И тут, усмешку подавив, он объявляет перерыв.
И двери закрывает он. Оставшись в камере один,
он на машинке «Ремингтон»
[657]
выстукивает:
"Константин!
В Америке ты побывал, ты таитянок целовал, на Нил
взирал ты с пирамид. Талантлив ты и знаменит. Но не
видал ты гекатомб
[658]
! Так приезжай же в город Омб.
Закалывают здесь у нас по тысяче быков зараз. Забрызган кровью
город весь. Сочится кровь людская здесь. И думаю, что
в том я прав: ты горожан жестокий нрав смягчить сумеешь,
чтоб воскрес к возвышенному интерес. Ведь ты – поэт,
целитель душ, родня пророкам! И к тому ж,– такая мысль
приходит мне,– что по провинции турне тебе, наверно,
принесет весьма значительный доход. В том помогу по мере
сил. Целую крепко!
Михаил".
2
Свершилось, как судья желал. Встречать он едет на вокзал.
С экспресса сходит на перрон, носильщиками окружен,
рыжебородый господин.
Да! Это братец Константин!
Приехавший проговорил:
«Привет, о брат мой Михаил!»
– "Здорово, братец Константин! Ну, вот до наших
палестин добрался ты!"
И был ответ:
"С востока свет, с востока свет!
Коммерческого клуба зал по телеграфу заказал я