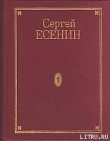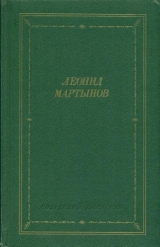
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Леонид Мартынов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
Как и с кем она боролась,
Чтоб из хаоса возникнуть,
Может быть, и не во имя
Обязательно нас с вами,
Но чтоб стали мы живыми,
Мыслящими существами,
И твердит Природы голос:
"В вашей власти, в вашей власти,
Чтобы всё не раскололось
На бессмысленные части!"
1965
«Мир не до конца досоздан…»{310}
Мир не до конца досоздан: небеса всегда в обновах астрономы к старым звездам вечно добавляют новых.
Если бы открыл звезду я – я ее назвал бы: Фридман
[253]
,– лучше средства не найду я сделать всё яснее видным.
Фридман! До сих пор он житель лишь немногих книжных полок – математики любитель, молодой метеоролог и военный авиатор на германском фронте где-то, а поздней организатор Пермского университета на заре советской власти… Член Осоавиахима. Тиф схватив в Крыму, к несчастью, не вернулся он из Крыма. Умер. И о нем забыли. Только через четверть века вспомнили про человека, вроде как бы оценили:
– Молод, дерзновенья полон, мыслил он не безыдейно. Факт, что кое в чем пошел он дальше самого Эйнштейна: чуя форм непостоянство в этом мире-урагане, видел в кривизне пространства он галактик разбеганье.
– Расширение Вселенной? В этом надо разобраться.
Начинают пререкаться…
Но ведь факт, и – несомненный: этот Фридман был ученым с будущим весьма завидным.
О, блесни над небосклоном новою звездою, Фридман!
1965
Венера{311}
Зал опустел.
Вот наконец нас двое.
Ты под землей погребена была.
Как там спалось?
Венера повела
Куда-то ввысь надменною ноздрею,
Как будто говоря мне:
"Посмотри
На небосвод сквозь каменные своды
Я в небесах плыла звездой зари,
А не в земле лежала эти годы!"
1965
В Париже{312}
В Париже
Я видел свечи
В форме березовых пней
И слышал русские речи
И прошлых и наших дней,
И русские видел сапожки
На ножках французских дам,
И русские чашки и плошки
В витринах я видел там,
Как будто бы в русские кубки
Французское льется винцо,
И смахивающее на полушубки
Заметил я пальтецо.
Дело в том, что «ТУ-104»
И быстрота «Каравелл»
[254]
Сближают всё в этом мире,
Чтоб этот мир здоровел.
И видел я, улетая,
Как в неопавшей листве
Снежинки кружились, тая,
В Париже, почти как в Москве.
1965
Подмосковье{313}
Не надо
Забираться даже в поезд —
Теперь почти дотуда и метро есть,
А там автобус,
Старый наш знакомец.
О, древняя глаголица околиц!
Расцвел подзол – поилец и кормилец.
Густ воздух от цветочного настоя.
Послушаем,
О чем поет здесь птаха?
Сельцо,
Крыльцо,
Кириллица перилец…
Но вовсе не в обличии монаха
Иную летопись колхозный Нестор
[255]
Печатает на пишущей машинке.
О чем?
О ценах на колхозном рынке,
О курочках, спорхнувших прочь с насеста,
И о вниманье к многолетним травам,
И обо всем, о чем полууставом
[256]
Нельзя писать, как и славянской вязью,
Когда добиться хочется успеха
В делах необычайного размаха.
Но все-таки
О чем поет здесь птаха?
О том, что по полям и по дубравам
Пройдет здесь осень шагом величавым,
А в зимний день запахнет лыжной мазью
Лес в шапке из искусственного меха,
И, пользуясь беспроволочной связью,
Столицы несмолкаемое эхо —
Через транзисторы зальется Пьеха
[257]
.
1965
Внутренний мир{314}
Вы
Во внутреннем мире
У ваших читателей были?
Все мерзлоты Сибири
Превратились там в рай изобилья.
Все нагие пустыни
В такую одеты одежду,
На которую ныне
Лишь только лелеем надежду.
И совсем как ответы
На сложнейшие наши вопросы,
Ярче, чем самоцветы,
Там горят плодоносные росы.
Тяготения гири
Давно превратились там в крылья.
Вы во внутреннем мире
У ваших читателей были?
Внешний мир изменился
Не настолько еще за полвека,
Чтобы в нем поместился
Весь внутренний мир человека.
1965
Верви{315}
В магазине
Хозяйственных изделий
Я подумал, что выставлены какие-то произведения скульптуры,
Но на самом деле это были разных сортов
Витые веревочные фигуры
С несомненными признаками носов и ртов.
Некоторые
Напоминали
связанных разными обстоятельствами.
Некоторые, будто бы и не виясь, и ничего не боясь,
Напоминали связанных данными обязательствами.
Словом, вместе с прямой тут была и обратная связь.
Некоторые верви
Крепки, как нервы
Либо арканы на шею врагам,
А потому и дают, наверно,
Как бы сами связать себя по рукам и ногам.
Некоторые связки веревок
Напоминали плутовок,
Так запутавших всё и такие кругом завязав узелки
Что нельзя без опаски предвидеть развязки.
И поэтому
Многие веревочные мотки напоминали сжатые кулаки
И мерцали веревочных статуй пеньковые глазки
Так, как будто от тренья дымятся в зрачках огоньки
1965
«В метрополитене, В универмаге…»{316}
В метрополитене,
В универмаге
И в шелестенье
Газетной бумаги —
От физического соприкосновенья
С тысячами сограждан
Я хотя б на одно мгновенье
Делаюсь как бы каждым.
Я пребываю
Как бы в их плоти
Всюду – в трамвае
И в самолете.
И пусть я не каждый,
Но знаю одно я:
Каждый однажды
Будет и мною.
Хоть на мгновенье
В движенье, в полете,
В метрополитене
И в самолете.
1965
«О, Россия!..»{317}
О, Россия!
Издревле живу на Руси я,
И могу проспрягать я:
"Азм есьм,
Ты еси…"
Я могу рассказать,
Чем жила ты, Россия.
Всё могу я поведать, о чем ни спроси.
О калине-малине, лаптях и булате
И о щах и о каше поведать берусь.
Если скажешь ты мне:
«Заберись на полати!» —
Заберусь и скажу:
"Исполать
[258]
тебе, Русь!"
Но уж эти слова ты забыла, пожалуй,
Не поймешь, что такое хотел пожелать.
"На полати,– ты скажешь,—
Ложись да не балуй.
Посулил же такое, чудак: испылать!"
1965
Два облика{318}
Два облака пронеслись,
Неясно видоизменяясь,
Как протоплазма или слизь.
Два облака в одно срослись,
Как будто бы обороняясь
От вражьих сил.
Да не спаслись —
Рассеялись!
Но это – высь!
А на земле при лунном свете
Две тени крепко обнялись,
Два облика в один слились,
В мечтах лелея
Нечто третье.
1965
Черные тучи{319}
Тучи
Чуть ли не с целого белого света
Мчатся, чтоб вызвать листвы пожелтенье
Слушая этой листвы шелестенье,
Ты ли, душа моя, ищешь приюта
В белых березах и вторишь кому-то,
Будто стволы их похожи на свечи?
Эти церковно-приходские речи
Мне надоели до осточертенья!
Впрочем, отвечу: и белые свечи
Могут отбрасывать темные тени,
Равно как самые белые ночи
Могут укутаться в серые тучи,
Равно как самые черные тучи
Дышат мерцанием белого снега,
Белого снега, летящего с неба.
Даже и не увидеть во сне бы
Столько прекрасного белого снега,
Белого снега.
Даже и полное благополучье —
Это отнюдь не ленивая нега!
1965
«Есть люди: Обо мне забыли…»{320}
Есть люди:
Обо мне забыли,
А я – о них.
У них у всех автомобили,
А я ленив.
Поверхность гладкая намокла
И холодит.
Через небьющиеся стекла
Едва глядит
В лицо мне некто, на пружины
Облокотясь,
Как будто вождь своей дружины —
Древлянский князь
[259]
.
И может быть, меня не старше
И не бодрей,
Не может он без секретарши,
Секретарей,
Но, может быть, иду я всё же
Пешком скорей,
Я, может быть, его моложе,
А не старей!
{1966)
Идиллия{321}
Лес
Был как лес:
На лужайке букашки паслись
Целым божьим коровником.
Гроза прошла. Все спаслись.
На тропиночках высохла слизь.
Но куст диких роз, называющихся шиповником,
Был всё еще мокр от слез.
Эльф
[260]
Подлетел
И углубился
В листву этих диких роз,
Где каждая ветка подобна терновой стезе
И на каждый шип нанизано по слезе,
То есть по грозному, грузному, грустному шару из влаги,
Готовому бомбообразно разъяться
При малейшем соприкосновении
С каждым дерзателем, пытающимся добраться
До цветущих розовых щек.
Но эльф
Лез и лез.
И вдруг,
Несмотря на свой микроскопический вес,
Он произвел такой толчок,
Что стряс
Весь груз
Слёз.
Вмиг
С глаз диких роз
Он сбросил груз слёз:
Чего их беречь! Испариться пора им!
И сорвалась вместе с ними
Вся грусть прочь с плеч диких роз.
Давай поиграем:
Я буду эльфом, а ты цветущим шиповником
Над божьим коровником,
А этот мир —
Раем!
(1966)
Библиотека Грозного{322}
"Неужели думаете серьезно вы,—
Спрашивают у меня друзья,—
Обнаружить библиотеку Грозного?"
"Да! – отвечаю я.—
Я не определил еще,
Где затаилось в земле
Это книгохранилище,
Но, возможно, и не в Кремле,
А скорее всего, уворовано
В годы смут, и по нынешний день
В Подмосковье оно замуровано
Под одною из деревень,
И как следует не дочитано,
Не разобрано до конца,
Под развалинами лежит оно
Я не знаю какого сельца.
Ведь бывали такие поместьица:
Если не по углам,—
На чердак иль в подполье, под лестницу
Сваливали книжный хлам.
И давно уж исчезло именьице
И бурьяном покрылся пустырь,
А в земле – никуда не денется —
Всё лежит: и старинный псалтырь,
И писанья премудрости греческой,
И с латинского перевод
О жестокости нечеловеческой,
А быть может, и наоборот —
О терпеливости ангельской,
И какое-нибудь письмецо,
Например, королеве английской,—
Все лежит тут как тут, налицо!
Но что бы там ни было обнаружено
Не изменится ничего,
Ибо люди дали заслуженно
Государю прозванье его,
И пускай это книгохранилище
Вдруг найдется хоть в шахте метро,
Никакая не сможет силища
Превратить злодеяний в добро.
И всургучься печать Иоаннова
В телевизор, в повторный фильм,—
Ничего не изменится заново!
Факту этому для простофиль
Отыскать подтверждение некое
Окончательно я хочу,
И поэтому библиотеку я
Всё настойчивее ищу!"
(1966)
«Небо Вновь набито сероватой…»{323}
Небо
Вновь набито сероватой
Ватой ватников и тюфяков
И халатов рванью дыроватой.
Человек
Довольно бестолков,
Если до сих пор еще не в силах
Привести в порядок небеса,
Понаделать облаков красивых…
Этот век
Еще не начался!
(1966)
Много прежде{324}
Что я пишу?
О, я хорошо соображаю, что я пишу,
Вновь и вновь преображаясь в мятущегося юношу,
С бурсаками припадавшего к медовоквасному ковшу
Много прежде, чем с буршами выпить кипучего пунша.
Я, когда-то
С казаками по Волге и Каме пробиравшийся на Тобол и Иртыш,
А оттуда на Пяндж
[261]
,—
О, не только затем, чтобы слушать восточные сказки и притчи,—
На края Зороастра
[262]
глядел по ту сторону гор-великанш
Много прежде, чем то, что сказал Заратустра,
Прочесть в изложении бедного Ницше
[263]
.
И оттуда
Мне очень отчетливо были видны
И высоты Парнаса, и Эдд
[264]
Скандинавские горы,
И за судьбы людские испытывал страх я и некое чувство вины
Много прежде того, как попались мне в руки труды Кьеркегора
[265]
.
И конечно,
Поныне в себе эти чувства как тяжкую ношу ношу́,
Опекая эпоху, свою опекуншу,
И об этом пишу, вот об этом-то я и пишу,
Вновь и вновь превращаясь в мятущегося юношу.
1966
Чет и нечет{325}
Попробуешь
Слова сличить —
И аж мороз идет по коже!
Недаром
«Мучить» и «учить»
Звучат извечно столь похоже.
Но и бывает смысл иной,
Доподлинно необъяснимый:
Казнящий ли владел казной,
Или казной владел казнимый?
Земля и тля. Вина – вино.
Апрель и прель. Мороз и проседь…
Всё это будто не одно,
Но от другого не отбросить!
Березка – розга. Лик и лак.
Увечить и увековечить…
Неужто это просто так,
Одна случайность —
Чет и нечет?
1966
Отчизна{326}
Мне
Хочется,
Чтоб ты оделась лучше —
Не в романтические облака,
Не в громовые-грозовые тучи,
А попросту – и в ситцы и в шелка.
И хочется,
Чтоб омывалась чаще
Ты самым освежающим дождем,
Блистающим всё чище и всё слаще.
К тому ведем
И к этому идем!
1966
Воры времени{327}
Всё
Острее
Споры времени,
Всё быстрей моторы времени,
Всё точней приборы времени.
Но спокойны воры времени.
Надевают маску времени,
Выкрасились в краску времени,
Проникают в кассу времени,
Похищают массу времени
Из казны богатой времени
И, объяты тратой времени,
Нежатся на лоне времени
Где-то на балконе времени,
Мол, у нас есть горы времени,
Целые просторы времени,
Вкруг домов заборы времени,
На дверях запоры времени.
1966
Сверлящий взор{328}
Я стар,
Я струны старых лир
Щиплю негнущимися пальцами.
Я стар,
Я помню старый мир
Со старыми его страдальцами.
Я помню
Вес пудовых гирь
И Русь былую с Китеж-градами
[266]
,
И помню старую Сибирь
С ее скитальцами номадами
[267]
,
И старый дом, и старый двор
С доисторической основою…
Но у меня сверлящий взор,
И явственно я вижу новое,
Которое для многих вас
Давно состарившимся кажется.
Я стар,
Но взор мой не угас!
В сознанье ваше не уляжется
Привычная вам новизна,
В которой вы столь слепо шаритесь,
А в чем она и где она —
Поймете, лишь когда состаритесь!
1966
Дневники{329}
Не странно ли,
Что дневники
Не днем ведутся, а ночами,
Когда мигают ночники
И ходят тени за плечами,
Напоминая, что от них
Не скроешься и за свечами,
Включив ночник,
Строча дневник,
Графленный лунными лучами!
1966
Алтай{330}
Ко мне
Алтаец подошел.
Я радовался от души,
И попросил я:
"Опиши
Пером или карандашом
Алтай своих целебных трав,
Алтай своих волшебных руд…"
И это был нелегкий труд —
Представить, ясно осознав,
Алтай своих святых основ,
Алтай своих горячих снов.
И стал Алтай мгновенно нов —
Алтай старинных колдунов,
Алтай шаманских диких чар,
Алтай автомобильных фар,
Алтай воздушный, как ангар…
Клубись,
Вершинами блистай,
Еще неведомый Алтай,
Вздымая ввысь за кряжем кряж,
Алтай себе свой верный страж.
Хоть взять и в руку карандаш
Еще алтаец не успел,
А только песню он запел,—
Иначе яви не создашь!
1966
«Я осенью Немного раздражен…»{331}
Я осенью
Немного раздражен.
Днем, грудь и спину солнцу подставляя,
Еще хожу я полуобнажен,
Но вечерами так уж не гуляю,
А думаю о куртке меховой
И как я в сапоги переобуюсь,
И, может быть, увидит домовой,
Как я его мохнатостью любуюсь.
Но домовой замкнулся на засов
В чулан.
И со «Спидолой» на крылечке
Сижу я до двенадцати часов…
А утром вновь я выкупаюсь в речке —
В глубокий омут кинусь головой
С туманистого берега речного,
И коль со мной не дружен домовой,
Быть может, разбужу я водяного.
Но, расположен впасть в анабиоз,
«Иди ты к лешему!» – он пробормочет.
И ладно!
Ринусь в чащу я.
Авось
Там, точно эхо, леший захохочет.
1966
Погасшая молния{332}
Там,
В лесу,
Когда умчались тучи
И раскаты грома отзвучали,
Будто бы обугленные сучья,
Молнии остывшие торчали.
И одну из них, посуковатей,
Выбрал я и спас от доли жалко-й:
Мол, не дам в чащобе догнивать ей —
Буду ей размахивать, как палкой.
Жгучести я больше не нашел в ней,
Но, в конце концов, и тишь и дрема
Состоят из отблиставших молний
И откувыркавшегося грома!
1966
Я научился сочинять стихи{333}
Я разучился сочинять стихи,
Но вспомнил я отвергнутые с детства
Обрывки незаконченных начал,
И не присочинил ни слова я
К ним, извлеченным из небытия,
И только дат я не обозначал,
И вы мне говорите: "Наконец-то
Ты научился сочинять стихи!"
1966
Вечный путь{334}
Сегодня ночью
Виснет Млечный Путь
Над кратером потухшего вулкана,
Как будто хочет с неба заглянуть
В немое жерло этого вулкана,
А может быть, исходит он и сам
Из кратера потухшего вулкана,
Свой звездный хвост вздымая к небеса
Из кратера потухшего вулкана?
Всё может быть. Пускай себе горит
Он над вершиной старого вулкана.
Быть может, завтра я метеорит
Найду на склонах этого вулкана,
А может быть, на склоне подыму
Лишь бомбу вулканическую.
В общем,
Доподлинно не ясно никому,
Какую бездну мы ногами топчем,
Не ведая, где верх ее, где низ,—
Всё так зыбуче, так непостоянно…
Мне кажется,
Что я и сам повис
Над кратером заснувшего вулкана.
(1966)
Ошибка Гершеля{335}
Не тайна,
Что высокомудрый Гершель
[268]
Предполагал, что Солнце обитаемо.
Он полагал, что солнечные пятна —
Подобья дыр в какой-то пылкой туче
Вкруг Солнца, а само оно не жгуче,
И жизнь на нем, считал он, вероятна.
Так утверждал высокомудрый Гершель,
И хоть не прав был астроном умерший,
Но заблуждения его понятны,
Для этого имелись основанья:
Он ощущал, что бытие земное
Похоже тоже не на что иное,
Как на отчаянное беснованье
Непрекращаемого зноя
Под ледяною пеленою,
И есть еще другое ледяное
Напластованье над районом зноя,
И, словно саламандры
[269]
, не сгораем мы,
Но и не замерзаем, и не таем мы,
И, даже обреченный, облученный,
Терзаемый и яростно пытаемый,
Пылает разум наш неомраченный…
Вот почему
Почтеннейший ученый
Мог допустить:
«И Солнце обитаемо!»
1966
«Какого цвета Ранняя весна?..»{336}
Какого цвета
Ранняя весна?
Ее ответа
Путаность ясна:
Возьми и внутрь деревьев посмотри —
Вся зелень где-то там, еще внутри,
Как звон еще внутри колоколов,
Как мысль еще внутри людских голов,
Еще от воплощенья далека…
И вешний месяц через облака,
Еще не собираясь на ущерб,
Глядит – какого цвета ветки верб,
Еще лишь грезящих про вербохлест.
Каков их цвет?
Ответ, конечно, прост:
Он как нутро еще не свитых гнезд!
1966
Черно-бурая жертва[270]
Если б в платье твоем прошлогоднем увидел тебя и сегодня я
То, возможно, и вовсе бы даже тебя не узнал,
Потому что ты выглядела бы старомоднее,
Чем любой прошлогодний, казалось бы модный, журнал.
Да и новые туфельки пыль подымают старинную
Не стерляжьи заостренным, а усеченным носком..
Но хотя и по-новому скроены шкурки звериные,
А одно остается, как древле…
О, как он знаком,
Этот запах лисы или норки, бобра или котика!
Я уверен, что ты занесешь и в иные миры
Этот запах! Сильнее не знаю наркотика,
Чем смешение этого духа духов и мездры.
И возможно, что будут поздней вспоминать,
Как о страшной жестокости, гадости,
Что какие-то дьяволы, шкурки содрав со зверьков,
Превращали их в шубки и шапки, чтоб ты, улыбаясь от радости,
Грелась смертью животных. О, мерзостный бред скорняков!
Но хотя и тебя всё сильнее влекут магазины синтетики,
Где прозрачные ангелы реют в химически-чистых плащах,
Ты несешь, отвергая законы эстетики, этики,
Черно-бурую жертву на розово-алых плечах!
1966
Проза Есенина{337}
Я перечел Сергея Есенина.
Вот что писал он в 1918 году:
«Художники наши уже несколько десятков лет подряд живут совершенно без всякой внутренней грамотности… В русской литературе за последнее время произошло невероятнейшее отупение».
Что он имел в виду?
А вот что:
«…Человек есть ни больше ни меньше как чаша космических обособленностей»,—
говорил он, указывая на творческую ориентацию наших предков в царство космических тайн.
Тут я упускаю несколько не идущих к делу подробностей.
А дальше читаем:
«…Дряхлое время… сзывает к мировому столу все племена и народы…»
И затем, пропуская несколько слов о том, что именно стоит на столе:
«Человек, идущий по небесному своду, попадет головой в голову человеку, идущему по земле».
И вслед за этим:
«Пространство будет побеждено, и в свой творческий рисунок мира люди, как в инженерный план, вдунут осязаемые грани строительства».
Это он мог, по всей вероятности, сказать когда-нибудь и в устной беседе и Петру Ивановичу Чагину
[271]
, и Айседоре Дункан
[272]
, и членам правительства… Очень и очень серьезно Есенин за этот вопрос брался:
«…Человечество будет перекликаться с земли не только с близкими ему по планетам спутниками, а со всем миром в его необъятности… Буря наших дней должна устремить и нас от сдвига наземного к сдвигу космоса».
И об этом же говорят и его стихотворения. Но я привожу лишь отрывки из прозы Сергея Есенина, чтобы видели вы из примеров, которые я перечислил, что Есенин не только лирически, но и космически мыслил. И вы, которые будете сегодня и завтра перелистывать Сергея Есенина, автора не только «Москвы кабацкой», но также и «Пантократора», перечитывая эти стихи его благоговейно, не пренебрегайте рассеянно прозой Сергея Есенина – современника Ленина, Циолковского и Эйнштейна.
1966
Случается{338}
Смеркается…
Садится солнце тяжело,
Как будто кается:
Зачем с утра взошло!
Брось каяться,
Не исходи тоской —
Ведь спотыкается
Не только род людской.
Случается,
Что даже и звезда
Взрывается
На небе иногда.
Взрываются
И люди, всё дробя,—
Что называется,
Выходят из себя!
1966
Классики{339}
Редко
Перечитываем классиков.
Некогда.
Стремительно бегут
Стрелки строго выверенных часиков —
Часики и классики не лгут.
Многое
Порою не по сердцу нам,
А ведь в силах бы из нас любой
Взять бы да, как Добролюбов с Герценом
{340}
,
И поспорить хоть с самим собой.
Но к лицу ли
Их ожесточенье нам?
…И любой, сомненьями томим,
Нудно, точно Гончаров с Тургеневым
{341}
,
Препирается с собой самим.
(1967)
Встреча с Таном{342}
расскажу
О Тане-Богоразе я.
Мне было двадцать лет,
И однажды пришла фантазия
Поступить на географический факультет.
Я написал стихотворение
И, напечатав его в «Звезде»
[273]
,
Приобрел себе новые брюки и клетчатую ковбойку,
Решив, что, прилично одет,
Буду легче принят в университет,
И поехал на дом к профессору Тану-Богоразу.
Я сказал ему прямо и сразу:
"Примите меня, пожалуйста, на географический факультет,
Но только без испытаний по математике!"
Он посмотрел и сказал:
«А кто вы такой?»
– "Я поэт".
– «Так прочтите стихотворение».
Я прочел. Он, прослушав, сказал:
"Нет!
Я не приму вас ни на географический факультет,
Ни вообще в университет,
Ибо не имею на то основания.
Вы – поэт, и поэзия ваше призвание.
А то, что вам мог бы дать географический факультет,
Приобретайте путем самообразования!"
(1967)
Во дни переворота{343}
Вообразите
Оторопь всесильных
Вчера еще сановников надменных.
Вообразите возвращенье ссыльных,
Освобождение военнопленных.
Вообразите
Концессионеров,
Цепляющихся бешено за недра,
Их прибылью дарившие столь щедро.
Вообразите коммивояжеров
В стране, забывшей вдруг о дамских тряпках
Вообразите всяких прокуроров,
Полусмиривших свой суровый норов
И как бы пляшущих на задних лапках
Уж не в своих, но в адвокатских шапках.
Представьте на волках овечью шкуру.
Вообразите дикий вихрь газетный
И запрещенную литературу,
Считаться переставшую запретной
Еще впервые!
И представьте город,
Как будто бы расколот и распорот
В часы, когда звенели, звезденели
Расшибленные стекла на панели,
И прыгали с трибун полишинели,
Как будто их сметала и сдувала
Ко всем чертям, ликуя небывало,
Душа народа, вырвавшись на волю
Из самого глубокого подполья
Для вольного и дальнего полета
Во дни Октябрьского переворота.
(1967)
Тетрадь{344}
Жалко, что кончается
Старая тетрадь.
Но не огорчается:
Трать бумагу, трать!
Только бы унылыми
Буквами не врать
Черными чернилами
В белую тетрадь.
1967
Тяга к солнцу{345}
Копал я землю,
В ней таилось много
Того, чего не быть и не могло,
Но попадались меж костей и рога
Железный лом и битое стекло.
Но ищут выход даже через донца
Изглоданных коррозией канистр
Живые всходы.
Ввысь их тянет солнце
Сильней, чем просвещения министр.
1967
Баллада о композиторе Виссарионе Шебалине{346}
Что,
Алеша
[274]
,
Знаю я о Роне
[275]
,
Что я знаю о Виссарионе
[276]
,
О создателе пяти симфоний,
Славных опер и квартетов струнных?
Мне мерещатся
На снежном фоне
Очертанья лир чугунных.
Это
Не украшенья
На решетках консерваторий.
Это будто бы для устрашенья,
И, конечно, не для утешенья
Выли ветры на степном просторе
Между всяких гнутых брусьев-прутьев
Старых земледельческих орудий,
Чтобы вовсе к черту изогнуть их
Безо всяких музыкальных студий.
Пусть
Десятки
Музыкальных судий
Разберутся, как скрипели доски
Старых тротуаров деревянных
В городе, где шлялись мы, подростки…
Это были первые подмостки.
Школа.
Разумеется, и школа.
Но и этот скрип полозьев санных,
И собор – наискосок костела,
Возвышавшийся вблизи мечети
[277]
,
Оглушая колокольным соло,
Да и крик муллы на минарете…
А из крепости, из старой кирки
[278]
,
Плыли воздыхания органа.
Но гремели
В цирке
Барабаны,
Ролики скрипели в скетинг-ринге,
Стрекот шел из недр иллюзиона
И, уже совсем не по старинке,
Пели ремингтоны
[279]
по конторам
В том безумном городе, в котором
Возникал талант Виссариона.
Старый мир!
Пузырился он, пухнул,
А потом рассыпался он, рухнул.
И уж если прозвучало глухо
Это эхо вздыбленного меха
И к чертям развеянного пуха,
То, конечно, уж определенно
Где-то в музыке Виссариона,
Чтоб внимало новому закону
Волосатое земное ухо.
Впрочем,
Музыка всегда бездонна.
Это значит —
Хвалят иль порочат —
Каждый в ней находит то, что хочет.
Хочет – сказки, хочет – были,
Крылья эльфов или крылья моли,
Колокол, рожок автомобиля…
Ведь свободны мы, как ветер в поле,
Ветер в поле, хоть и полном пыли,
Той, какую сами мы всклубили.
1967
«Не будь Увядшим гладиолусом…»{347}
Не будь
Увядшим гладиолусом,
Всё ниже голову клоня,
Не говори упавшим голосом,
Что это всё из-за меня.
Я силищей такой могучею
Не помышляю обладать,
Чтоб жгучим зноем, темной тучею
Твою нарушить благодать.
Ты это знала и тогда еще,
В начале ветреного дня.
И не тверди мне убеждающе,
Что это всё из-за меня!
1967
«Он залатан, Мой косматый парус…»{348}
Он залатан,
Мой косматый парус,
Но исправно служит кораблю.
Я тебя люблю.
При чем тут старость,
Если я тебя люблю!
Может быть,
Обоим и осталось
В самом деле только это нам,—
Я тебя люблю, чтоб волновалось
Море, тихое по временам.
И на небе тучи,
И скрипучи
Снасти.
Но хозяйка кораблю —
Только ты.
И ничего нет лучше
Этого, что я тебя люблю!
1967
Лета{349}
Ночь.
Отмыкается плотина.
И медленно, почти незримо,
По Истре
[280]
проплывает мимо
Не только муть, солома, тина,
Но цвет люпина, зерна тмина
И побуревшая от дыма
Неопалимая купина
[281]
Из Нового Иерусалима
[282]
.
И, как из Ветхого завета,
Поблескивают зарницы,
Напоминая издалёка
Про старого Илью-пророка,
Который не на колеснице
Носился, а на самолетах.
В своих трудах, в своих заботах
Там, на верховьях, жил он где-то.
Отгромыхал и отворчался…
Струисты
Воды старой Истры.
На берегу клочок газеты
Шуршит, кто жив, а кто скончался
А берега ее холмисты,
И бродят, как анахореты,
По ним поэты.
Но появляются туристы,
«Победы» и мотоциклеты.
И в заводях из малахита,
Где водорослей волокита
Не унимается всё лето,
Зияют ржавые канистры.
Дар проезжающих…
Всё это
Ты видишь, старая ракита,
Застывшая над устьем Истры,
Как будто
Эта Истра —
Лета.
1967
Вятичи{350}
В роще,
Где туристами
Ставятся шатры,
Есть над быстрой Истрою
Древние бугры.
Где стоят горелые
Мертвые дубы,
Вылезают белые
Старцы, как грибы.
Это племя вятичей
Обитало там,
Где течет назад ручей
По глухим местам.
Это смотрят вятичи
Из своих бугров
И, на мир наш глядючи,
Молвят: «Будь здоров!»
Вопрошают вятичи:
"Кто такие вы,
Мужи-самокатичи,
Мятичи травы?
Вы автомашинычи,
Газовая чадь,
Или как вас иначе
Звать и величать?
Вы кричите, воете,
Жжете вы костры,
Бестолково роете
Старые бугры.
С банками-жестянками
Мечете вы сор,
Чтоб из ям с поганками
Вырос мухомор".
Это правда истая,
Ибо так и есть
Здесь над быстрой Истрою,
Где бугров не счесть.
И сочит закат лучи,
Чтобы их стеречь,
И уходят вятичи
В Горелую Сечь.
1967
Лето{351}
Вот
И лето на пороге:
Реют пчелы-недотроги,
Величаво карауля
Привлекательные ульи,
Чтобы всякие тревоги
Потонули в мерном гуле,
Как набаты тонут в благовесте,
И в июне,
И в июле,
И в особенности
В августе.
1967
Еще не всё я понимал глубоко{352}
Еще существовал
Санкт-Петербург,
В оцепененье Кремль стоял московский,
И был юнцом лохматым Эренбург,
Да вовсе молод был и Маяковский,
И дерзости Давида Бурлюка
[283]
У многих возмущенье вызывали,
И далеко не все подозревали,
Насколько все-таки
Она близка.
Но вот
На Польшу
Пал шрапнельный град
[284]
,
И клял тевтона Игорь Северянин
[285]
,
И Питер превратился в Петроград
[286]
,
И говорили: тот убит, тот ранен.
Георгиевские кресты
[287]
Посеребрили зелень гимнастерок,
И первые безмолвные хвосты
У булочных возникли:
Хлеб стал дорог!
Я был
Еще ребенком.
О войне
Читал рассказы и стихотворенья,
И было много непонятно мне,
Как толки о четвертом измеренье,—
Куда от мерзкой яви ускользнуть
Мечтали многие из старших классов,
Хотя и этот преграждался путь
Толпой папах, околышей, лампасов.
А я
Не в эту сторону держал,
И даже, нет, не к Александру Грину
[288]
,
Но гимназический мундирчик жал
[289]
,
Я чувствовал: его я скоро скину.
Меня влекли надежда и тоска
В тревожном взоре Александра Блока
[290]
,
Еще не всё я понимал глубоко,
Но чуял:
Революция
Близка!
1967
Прятки{353}
Трудолюбив,
Как первый ученик,
Я возмечтал: плоды науки сладки.
Но, сконцентрировав мильоны книг
На книжных полках в умном распорядке,
Я в здравый смысл прочитанного вник
И не способен разгадать загадки:
Когда и как весь этот мир возник?
И все подряд предположенья шатки.
И тут
Инстинкт мне говорит:
"Проверь
Всё это мной!"
И вот брожу, как зверь,
Я в дебрях книг, и прыгаю, как птица,
Я в книжных чащах и, как червь, точу
Бумагу их – так яростно хочу
Всему первоисточника добиться.
И в мотылька, который -на свечу
Летит, ловчусь я снова превратиться,
И, будто спора некая, лечу
Туда, куда ракетам и не взвиться,
И чувствую, что, может быть, теперь
Мне разрешит Вселенная:
"Измерь
Температуру жуткой лихорадки,
Которой пышет солнца смутный лик,
И ощути, как мчатся без оглядки
Планет и звезд бесплотные остатки,
Уверены, что ты их не настиг".
И кажется, что в тайну я проник.
Но дальше что?
И снова лишь догадки,
И вновь
Луна
Чадит мне, как ночник,
И бездна вновь со мной играет в прятки.
1967
Евразийская баллада{354}
О, Венгрия,
Не из преданий старых
Я черпаю познанья о мадьярах
[291]
,
А люди вкруг меня толпятся, люди…
И наяву – не где-нибудь, а в Буде
[292]
–
Я с Юлиушем
[293]
встретился, скитальцем,
И через Русь указывал он пальцем
На грань, которая обозначала
Монгольского нашествия начало.
И точно так же в Пеште
[294]
с пьедестала,
Как будто не из ржавого металла,
А въявь пророкотал мне Анонимус
[295]
Про ход времен, его необратимость.
И Вамбери
[296]
я забывать не стану:
Знакомец мой еще по Туркестану,
Старательно искал он на Востоке
В конечном счете общие истоки
Потока, что в разливе евразийском
Слил Секешфехервар с Ханты-Мансийском
[297]
,
Жар виноградный с пышностью собольей.
И знаю я, над чем трудились Больяй
[298]
И Лобачевский
[299]
! Равны их дерзанья,—
Тот в Темешваре
[300]
, а другой в Казани
С решимостью своей проникновенной
Построили модель такой Вселенной,
Какая и не мыслилась Эвклиду
[301]
.
А эти двое, столь угрюмы с виду,
Но ближних возлюбившие всем сердцем,—
Тот – Кошут
[302]
, а другому имя Герцен,—
Они мечтали о вселенском счастье
И толковали даже и отчасти
О том, о чем по телеграфным струнам
Гремели позже Ленин с Бела Куном.
Вот что о всех их думаю я вместе,
И это всё прикиньте вы и взвесьте,
И дело тут не в страсти к переводам,
И что Петефи
[303]
был Петрович родом,
А дело в том, что никаким преградам
Не разлучить века идущих рядом
Здесь, на земле, где рядом с райским садом
Порядочно попахивает адом.
1967
Поэзия{355}
"Поэзия – мед Одина!" – вещали
Когда-то скальды. Кто же Один? Он
В Асгарде
[304]
богом распри был вначале,
Но, вечной дракой асов
[305]
утомлен,
Сошел на землю. Но хребты трещали
И здесь у всех враждующих сторон,
И вот затем, чтоб стоны отзвучали,
И чтоб на падаль не манить ворон,
И чтоб настало умиротворенье,
Сменил он глаз на внутреннее зренье
[306]
,
И, жертвенно пронзив себя копьем
[307]
,
Повесился на Древе Мировом
[308]
он,