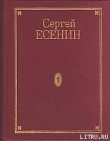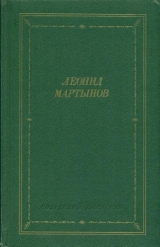
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Леонид Мартынов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
«Соймонов не известен вам?»
– "Как звать?"
– «А Федор его звать: Федор Иванович. Моряк».
– «Нет! Про такого не слыхать. Соймонова как будто нет» – бабенки молвили в ответ. «Ну, до свиданья, коли так. Искать, как видно, труд пустой».
Прислушивалась к речи той старушка некая:
«Постой! Какой-то Федька есть варнак. Да вот гляди-кося, в углу там в сенцах, прямо на полу, тот, в зипуне».
Седой, в морщинах, полунаг, тут поднял голову варнак.
«Вы обо мне?»
– «Как имя?»
– «Имя не забыл. Соймоновым когда-то был, но имя отняли и честь, лишили славы и чинов. И ныне перед вами есть несчастный Федор Иванов!»
Конец истории таков: освобожденный от оков, Соймонов – губернатор наш. Сполняют флотский экипаж и сухопутные войска приказы Федьки-варнака.
С церковных говорят кафедр попишки часто про него, что злее беса самого он – выходец острожных недр. Неправда! Милостив и щедр. Хотя горяч. На то моряк. К тому вдобавок и старик. А на Байкале он воздвиг Посольску гавань и маяк. В Охотске, в каторге где был, морскую школу он открыл
[579]
. И знает сибиряк любой: проклятие над Барабой
[580]
, и вся сибирская страна той Барабой разделена как надвое. И долог путь, чтоб те трясины обогнуть. Туда Соймонов поспешил, обследовал он ту страну. Сибири обе слить в одну – Восточну с Западной – решил. Соединить Сибири две, приблизить обе их к Москве и верстовые вбить столбы в грудь Барабы! Дорогу через степь найти, по ней товары повезти, отправить на Восток войска, коль будет надобность така. То сделал губернатор наш. Невольно честь ему воздашь. Но был бы вовсе он герой, коль совладал бы с мошкарой. Опять воспрянула она. Взять Карла Львова, шалуна… Иль Киндерман
[581]
– шалун второй. Кормить сосновою корой своих задумал он солдат. Премного сделался богат от экономии такой. Торгует выгодно мукой…"
9
Ночь за окошками снежна.
"Ильюша! – говорит жена.– Остановись-ка, помолчи
Слышь, кто-то ходит у окна".
Встает ямщик.
Не оглянувшись на жену, идет к окну.
Но в тот же миг жена бросается к печи.
"Хотя бы пожалел детей ты, грамотей! – кричит жена. —
Тебя учить еще должна! Ужо дождешься ты плетей!
Елизавета померла. Соймонова плохи дела.
Слова, какие пишешь ты,– на всех начальников хула!
А коли рукопись найдут? Тебе дыба и первый кнут.
Узнаешь, каковы клещи!"
И свиток ежится в печи, где угли пышут, горячи.
Он вспыхивает.
Точно вздох или дальний выстрел, тих и глух,
Та вспышка. Милосердный бог! Всё пеплом стало.
Он потух!
"Ах, дура! Как могла посметь! Сего тебе я не прощу,—
Кричит Илья. Схватил он плеть.– Тебя я, дура, проучу!"
– "Проучишь? Ну, давай учи!
Уж лучше ты меня хлещи, приму побои на себя,
Да не желаю, чтоб тебя пытати стали палачи!"
– «Ну, баба! С бабами беда. Сколь, норов бабий, ты упрям!»
Бросает плеть, идет к дверям.
«Куда?»
– «В царев кабак пойти хочу».
– «Вот что задумал! Не пущу!»
И, в душегрее меховой, пряма, румяна и гневна,
Как неприступный часовой, склад сторожа пороховой,
стоит в дверях его жена.
10
Соймонов дома, во дворце.
С ожесточеньем на лице доклады выслушал чинуш, стяжателей, чернильных душ.
Вот, кабинет на ключ замкнув и уши ватою заткнув,
Облокотился на бюро. Схватил гусиное перо.
Его немножко покусал. Распоряженья подписал.
Другие отложил дела. Берет тетрадку со стола.
Воспоминанья о царе, об императоре Петре,
Историк Миллер
[582]
попросил. Что ж, услужу по мере сил!
То сделать… И еще одно. Сей труд кончать пора давно:
«Сибирь есть золотое дно»
[583]
.
…"Сибирь есть золотое дно". Один нырнуть сюда готов, яко ловитель жемчугов,
Другой в цепях идет на дно…
Но нет! Писать не суждено. Скребется кто-то у дверей.
«Что надо? Говори скорей!»
– "Из Омска!" – крикнул казачок,
Соймонов отомкнул крючок.
В передней хохот громовой. Там некто в шубе меховой.
Косматая над головой папаха. Рыжий лед с усищ.
Ух! От подобных голосищ избави бог!
"Погода очень много плох! Испорчен много переправ!
Федор Иванович! Будь здрав!"
Соймонов сумрачно в ответ:
«Прошу, Карл Львович, в кабинет пройти ко мне».
11
Вошли.
Взглянувши на портрет, что здесь повешен на стене,
Гость вымолвил:
«Елисавет?»
– «Она!»
Ночь за окошками снежна.
"То дочь Петра… А где же внук
[584]
?"
– "А внук… Повешен будет…"
– «Как?»
Негодованье и испуг.
«Я понимаю не вполне!»
– "Ну да! Повешен на стене портрет сей будет. В полный рост.
(Что, милый друг? Не так я прост. Ответ каков?)"
Ночь. За окошком снег и мгла.
Елизавета умерла. Сварлива к старости была, а всё ж могла вершить дела,
На небесах она теперь, Петра пленительная дщерь.
А хилый внук взошел на трон.
Что дед воздвиг, то рушит он!
"Карл Львович! В Омске как дела?
Вода в верховьях прибыла?"
– «Есть! Прибыла».
– «Зима суровая была?»
– "О, да! Она была суров.
Нам много не хватало дров. Шпицрутены
[585]
пришлось
пожечь, чтобы топить в казармах печь.
Ха! Даже нечем было сечь – вот сколько не хватало дров!"
– "Что ж ты с солдатами суров,– Соймонов молвит.—
Всё бы сек!
Скажи, что ты за человек? Большой любитель ты наук,
но человечеству не друг.
Ты поступаешь, как злодей! Ты мучаешь своих людей.
Что задираешь ты орду! Большую натворишь беду.—
Кричит Соймонов сам не свой.– Что думаешь ты головой?"
12
Пыхтит в передней бледный гость. Он еле сдерживает злость.
«Ауфвидерзейн! Спокойна ночь!»
Кричит Соймонов:
"Пшел ты прочь, злодей, палач!
Ишь выбежал. Помчался вскачь!.."
Соймонов в кабинет идет.
Пожалуй, волновался зря.
Пожалуй, до государя
Карл Львович дело доведет.
Да и защиту там найдет.
…Болит ноздря.
Залечена, а всё ж нет-нет да и кольнет. То нерв задет.
Грехи. Ругаться не к лицу. Всё ж дал острастку наглецу!
И долго бродит по дворцу Соймонов. Подошел к окну.
Сибирь! Ты у снегов в плену.
Вот голый куст, как хлыст, торчит из снежной мглы.
А здесь, в дворце, скрипят полы. Так душны темные углы-
Ах, только сердце не молчит! Томительно оно стучит.
Идет Соймонов. Тяжелы его шаги, ох, тяжелы,
Как будто всё еще влачит он каторжные кандалы.
13
Вот с божьей помощью в Притык, в кабак,
приткнувшийся к горе, добрался все-таки ямщик,
Кто лается там на дворе? Казак как будто. Вовсе бос.
Ишь выкинули на мороз.
Спросил Илья:
«А ты, дружок, босой не отморозишь ног?»
Кричит казак:
"Друг, помоги! Во целовальников
[586]
сундук мои попали сапоги.
С какими-то ворами пить черт дернул.
А пришло платить: «За нами, говорят, беги!»
А я бежать не захотел.
Ну, целовальник налетел: «Давай в уплату сапоги!»
Сапог в сундук, меня – за дверь.
Не знаю я, как быть теперь. Ни в чем не виноват, поверь!
Как взять обратно сапоги? Хоть ты советом помоги!"
«Ты кто?»
– "А я Игнатий Шпаг, из Омской крепости казак.
Фрауэндорф нас взял в конвой".
Илья качает головой:
"Зело несчастный ты, казак. Ну, ничего!
Идем в кабак!"
В избе дымище, духота. Как пекло адское точь-в-точь.
Вот целовальникова дочь раскрыла пухлые уста.
Накинулась на казака.
«Вернулся? Прочь из кабака!»
Илья ей молвит:
«Не реви! Свово папашу позови. Эй, целовальник!»
– «Что, Илья?»
– "Обижены мои друзья. Страдает здесь Игнатий
Шпаг, из Омской крепости казак.
Над ним строжиться не моги. Отдай Игнашке сапоги!"
– «Сейчас!»
– «Ну вот. Давно бы так!»
С Ильей целуется казак:
«Ямщик, я друг тебе навек! Ты справедливый человек!»
Шумит Притык, ночной кабак.
Сам целовальник льет вино:
Илья, мол, не бывал давно. Он редкий гость у нас – Илья
«Готова рукопись твоя?»
Молчит Илья. Он, морщась, пьет.
Глядит, каков кругом народ: бродяги и посадский люд
А вон хитрец – искатель руд… Семинаристы тут как тут
студенты школьные
[587]
, а пьют!
Увидели Илью, орут:
"Аз, буки, веди, глаголь, добро, яко медведи страшны
Ведро «Винум крематум» выпей, Илья! Готова летопись твоя?"
Прислушался Игнашка Шпаг:
«А что за летопись, Илья?»
– "Да ничего… Болтают так".
– «О летописи о какой их речь?»
Махнул Илья рукой.
«Студентов школьных кто глупей? Давай, Игнаша, лучше пей!»
И глупы пьют, и мудры пьют!
Тут поднялся искатель руд. Магический волшебный прут показывает:
"Господа!
Сей прут вонзается туда, где под землею есть руда.
Всё видит в недрах он земли. Продам его за три рубли!"
Толпится вкруг посадский люд. Взглянуть охота им на прут.
Толкуют люди так и сяк.
Шумит Притык, ночной кабак.
Сказал казак Игнашка Шпаг:
"Коль прут сей видит в глубь земли, так стоит он не три рубли,
А коль он стоит три рубли, так он не видит в глубь земли!
Нет, не пойду искать руду!
Друг! Нам рублей из серебра не даст уральская гора-
А вот железа для ядра…"
– «Не шумствуй!»
– "В Омске генерал на хлебе держит и воде.
Я убежал бы за Урал. Да там помещики везде".
– "Не шумствуй! Больно уж ты резв!
Я вижу, ты зело нетрезв".
"Ты грамоте учен, ямщик?
Что ведомо тебе из книг?"
Шумит кабак ночной, Притык.
"Что ведомо из старых книг? Чему быть ныне суждено? —
Тут головой Илья поник.—
Что ж ведомо из старых книг! Едва ль их мудрость я постиг.
Бывает многое от книг, а многое и от плутыг…
Непостижимо для ума на свете многое весьма".
Ого! В дверях стоит Кузьма.
"Илья! – кричит.– Ты здесь, Илья?
Послала женушка твоя сказать, чтоб шел домой на ям.
Тебя курьеры ищут там.
Ямщик им надобен хорош. Фрауэндорфа повезешь!"
14
Тобольск проснулся на заре. Кремль розовеет на горе.
Как будто в беличьи меха укутан город весь до крыш.
Звон ведер. Пенье петуха.
"Пой! Весну раннюю сулишь!
Не за горами и апрель. Сосульки. Будет днем капель.
Через недельку развезет".
Фрауэндорфа повезет Илья, как сказано, с утра.
Что не гостишь? Примчал вчера, а нынче утром и назад?
И отдохнуть у нас не рад? Была баталья, говорят?
Чуть свет – уже в обратный путь!
"К дворцу подашь, да не забудь, кто твой седок! – сказал Кузьма.—
Фрауэндорф-то зол весьма,
Свой экипаж-то не готов. Дал кучеру он сто кнутов.
Потребовал – вынь да положь: «Ямщик мне надобен хорош!»
Вот ты его и повезешь…"
Кремль розовеет на горе. Кресты сияют на заре…
Дворец… Ворота… Шумный двор.
Соймонов вышел. Мутен взор.
С Фрауэндорфом разговор, брезгливо морщась, он ведет
Вот кончили.
К Илье идет.
«Везешь?»
– «Так точно».
– "Ну, вези. Смотри не вываляй в грязи.
Иль вверх тормашками на лед не выверни. Он зол. Прибьет".
– «Прибьет? А если я прибью?»
Соймонов смотрит на Илью:
«Что? Стал ты вовсе сущеглуп? Ты вежлив должен быть, не груб».
Сух генеральский голос, тих:
«Марш! Чтобы жалоб никаких!»
15
Лохматых фырканье коней…
Гарцуют позади саней Фрауэндорфа казаки.
На них папахи высоки и нахлобучены до глаз.
Болят головушки у вас? Что, казаки,– охота спать?
Не удалось вам отдохнуть.
Вчера явились и опять сегодня утром в дальний путь.
А вот и сам Игнашка Шпаг! Ну, как дела твои, казак?
Притык понравился – кабак?
Фрауэндорф брюзглив и зол,
В тяжелой шубе меховой садится в сани.
«Живо! Пшел!»
По деревянной мостовой несутся кони.
Казаки, качаясь в седлах, как спьяна,
Рванули следом.
У реки на яме свищут ямщики.
О, дом родимый! Из окна кто выглянул? Никак – жена.
"Бог свят! Дорога далека. Храни Ильюшу-ямщика,
Владычица, мать преблага!" – наверно, молится она.
Крут взвоз. Отвесны берега. Подтаивают снега. Мост. Перевоз.
У прорубей дерьмо, навоз.
Кой-где видна уже вода поверх лысеющего льда.
Татарский движется обоз. «Айда! – кричат.– Айда, айда!»
Орда! Товар везет издалека. Иртыш – великая река.
16
Но вдруг брезгливая рука толкнула в бок.
"Живей! Гони! – кричит седок.– Гони живей!
Вот мой приказ, чтоб этот город скрылся с глаз!"
Просить не надо ямщика. Бич щелкнул. Кони понеслись.
Но снова голос седока:
"Поторопись! Поторопись!
Ты сочиняешь летопись! Аннал строчит твоя рука
[588]
.
Вожжу держать не разучись!"
Как знает он? От старика, от губернатора узнал.
"Ты, сочинитель! Твой аннал ты много долго сочинял.
Но препаршивый твой Пегас, он хуже водовозных кляч!"
Ага! Галопом хочешь? Вскачь? Ужо узнаешь ты сейчас.
Уважим, коли просишь нас.
Хулишь ты коней? Кони – львы! Узнаешь – кони каковы!
17
Лед блещет неба голубей, но мутны очи прорубей…
Глух сзади топот казачья.
«Отстали, милые друзья!»
Дорога… Прорубь… Полынья…
Рвануло. Встал горбом сугроб.
Плеснуло. Брызнуло.
В галоп!
В галоп несутся казаки.
Но, друг от друга далеки, один отстал, другой отстал…
Обрывы. Берег дыбом встал…
Крут яр. Там свищет гибкий тал
[589]
.
Ага! Ожгло? Пригнись! Вот так!
Ну. пронесло! Теперь овраг.
Перелетим на всем скаку?
Уж треуголка на боку! Слетит, пожалуй, с головы!
Узнал ты – кони каковы?
Руками ветер не лови! На помощь стражу не зови.
Не радуйся, что тот казак других опередил людей,
Ведь это же Игнашка Шпаг!
Ты думаешь, тебя, злодей,
Игнашка хочет отстоять?
На сабельную рукоять
Игнашка руку положил, клинок он полуобнажил,
Но не меня рубить, Илью, а голову отсечь твою!
Уразумел? Завыл, как волк?
Ага! Откинулся. Замолк.
Смерть! Смерть близка!
Но тут, на счастье седока, выносит леший мужика
из придорожного леска
Дерьма навстречу целый воз. Везут навоз на перевоз.
Мелькнула, издали видна, сарая ветхая стена.
Куда дорога завела?
Пес выскочил из-за угла.
И мчится тройка, как стрела, по шумной улице села.
18
Аж в пене морды лошадей.
Крут поворот.
К саням сбегается народ. Тревожны голоса людей.
Вот наконец нагнал казак.
Конечно, он: Игнашка Шпаг.
Он мчался, шашку обнажив!
"Седок-то жив?
Я думал – вывалишь в овраг!"
Глядит казак на ямщика, глядит ямщик на казака,
Седок согнулся и молчит.
"Подымется, как закричит, ударит…– думает Илья.—
Прощай, головушка моя!"
Но нет. Сидит недвижен, нем.
«Да он без памяти совсем!»
Нет. Притворяется. Хитер! Начать он медлит разговор-
Вот смотрит, жалобно стеня,
Промолвил:
"Подыми меня!
Ямщик! О, помогай мне слезть!
Мне очень много дурно есть.
Ямщик! Веди меня в избу!"
Ты слаб. Испарина на лбу. Теперь веди тебя в избу!
Вошли. Ложится, истомлен, на бабьи шубы. Говорит:
"Ох! Внутренность совсем горит.
Отбита внутренность моя.
О! Ты злодей, ямщик Илья!
Ты захотел меня убить…
Я не велю тебя казнить,
Мне сам Христос велел прощать.
Ни слова больше! Замолчать!"
А! Чуешь, для чего клинки вытаскивали казаки на всем скаку в глухом лесу.
«Воды!»
– "Сейчас я принесу".
– «Скорее».
Из-под шуб и дох тяжелый раздается вздох.
19
На шумной улице села толпа гудит невесела.
А всё ж смеются казаки, довольны чем-то мужики.
Глядят они на ямщика.
«Намял ты барину бока! Он, слышно, очумел слегка».
– «Злодей бы вовсе околел, да губернатор не велел!»
…Соймонов стар, Соймонов сед. Не хочет он держать ответ.
И так уж на своем веку он претерпел немало бед.
Отставку скоро старику дадут за выслугою лет.
И мирно доживет свой век птенец петровского гнезда.
Эх, господа вы, господа! Орлы! Кто ж крылья вам подсек?
На шумной улице села толпа гудит невесела.
И липнет теплый вешний снег к подошвам стоптанных сапог.
О, села у больших дорог! К вершинам гор, к низовьям рек
Пути на запад, на восток, пути в столицу и в острог…
Трудна дорога, далека. Но ведомы для ямщика
Все полосатые столбы с Кунгура
[590]
вплоть до Барабы.
…Теплом пахнуло из избы.
Лучина дымная горит. С полатей смотрит мужичок.
Задумчивый, он говорит:
Фрауэндорф-то занемог! Плашмя уляжется в возок.
Сенца бы надо подостлать… А то тебе несдобровать!"
– "Не сомневайся. Довезу… И не таку тяжелу кладь перевозили на возу!"
1937
Домотканая Венера{690}
1
Гусиное перо подайте, я шепчу.
Вам о судьбе своей я рассказать хочу,
Глядящая на вас с любого гобелена.
Вы ведаете ли: Прекрасная Елена
[591]
,
И Венус
[592]
, и Сафо
[593]
, и Нимфа у ручья,—
Не кто-нибудь иной, но – я, и только – я!
Оборотилась в них кому-то я в угоду.
Но русскую свою мне не забыть природу!
Так дайте ж мне перо, прошу я, поскорей,
Пока ничьих шагов не слышно у дверей,
Покуда еще есть бумага и чернила,
Хочу я наконец всё рассказать, как было.
*
В Тобольске, если вам случится побывать,
Несчастную мою вы помяните мать.
Погребена она на том погосте дальнем,
За валом городским, на кладбище Завальном
[594]
,
Над коим шелестят густые древеса,
Как будто мертвецов звучат там голоса
На разных языках, и речь бояр надменных
Там слышится, и ропот шведов пленных
[595]
,
И всех, кого судьба к нам привела сюда,
Кто за наживой шел, кого гнала беда.
Все, все приют нашли на дальнем том погосте,
Их там, в сырой земле, соприкоснулись кости.
И простолюдины лежат там, и князья.
Вот там погребена и матушка моя.
Ушла она, презрев сей жизни огорченья,
Оставивши меня отцу на попеченье,
И нянчиться со мной родитель был бы рад,
Да только отнимал досуги магистрат
[596]
–
Все дни он проводил в палатах магистратских,
Избранник от людей торговых и посадских.
Но вот, из Питера однажды возвратясь:
"Довольно вышивать,– сказал он мне,– да прясть,
На задний двор глядеть в оконце слюдяное!
Ты нынче, дочь моя, возьмешься за иное:
В столице побывав, я, дочь, видал виды,
И ты уразумей: там девы молоды,
Графини да княжны, принцессы ангальт-цербтски
[597]
,
Они себя ведут совсем по-кавалерски!
А почему у нас, у добрых сибирян,
Не может это быть? Нам тоже разум дан!"
– "Отец,– я говорю,– ученье к лицу знати".
– "Нет. Я вот из простых, а – ратман
[598]
в магистрате!
Незамедлительно учиться ты пойдешь,
Наставник для тебя находится хорош,
Наставит он тебя премудрости заморской!"
– "А кто же он?"
– «Шабер, кухмистер прокурорский».
– "Отец,– я говорю,– ведь этот повар плут:
Его, и на базар когда приходит, бьют".
– «Нет. Чтоб не плутовал, я с ним имею сговор».
И начал обучать меня французский повар…
Училась языку неплохо я весьма,
Но затруднения пришли насчет письма.
Шабер нам говорит: "Науку знаю устно,
А в каллиграфии рука, мол, неискусна!"
Расстались с поваром. Попала к чудаку,
Лекарем состоял при драгунском полку.
Но как угнали полк на Иртыша верховья,
А лекарь от своих отстал по нездоровью,
То дал ему отец квартиру и харчи,
«За то,– сказал,– мне дочь наукам обучи»,
И начал лекарь тот учить меня латыни…
Но, боже! Не могу забыть я и поныне,
Как лекаря сего отец погнал мой прочь:
"Чему ты обучил невинную мне дочь?
Зачем ей показал язычески соблазны
[599]
?
Преследуют ее виденья неотвязны,—
То некий римлянин, то обнаженный грек.
Кто в этом виноват? Ты, дерзкий человек,
Понеже вздумал ей гекзаметры читати.
Забыл ты, кто я есть? Я – ратман в магистрате!"
Отец заботится, а толку нет никак.
Соседи говорят: "Упрямый он казак,
Задумал дочь свою наукам обучати,
Не знает только он, с какого конца начати",—
Так люди говорят, что вхожи в магистрат,
В полицейместерской конторе говорят.
Которые скорбят, которые смеются,
Мол, замыслы его никак не удаются.
*
А время между тем всё движется. Не ждет.
Семнадцать мне уж лет, осьмнадцатый пойдет.
Не девочка теперь, но зрелая девица.
Отец задумался: «Не поздно ли учиться?»
И помню, как-то раз сказал мне наконец:
"Послушай. Не пора ли, дочка, под венец?
О прелести твоей заводит речь подьячий,
Не прочь бы взять тебя и сотник наш казачий…
Да, кстати, дочь моя, художник-то, Антон,
В соборе приступив к писанию икон,
Тебя изобразил как деву пресвятую…"
– "Ах! – говорю.– Как смел. Вот в голову пустую
Пустая лезет блажь. Пошто ж так дерзок он?
Мне,– говорю,– отец, не нравится Антон,
Пришлец из дальних стран, оттуда убежавший,
Убивший ли кого, кого ли обокравший".
– "Нет,– отвечал отец,– прибыв из-за Карпат,
Весьма он человек неглупый, говорят.
К какой-то, верно, там был схизме
[600]
он причастен.
Но он раскаялся. И снова в ересь впасть он
Не собирается. Повинен был бы в чем,
Не стали бы его в архиерейский дом
Впускать, как доброго, и не был с ним столь близок, б,-
Заметь-ка, дочь моя,– сам наш архиепископ!"
– "Архиепископ наш и сам из поляков"
[601]
,—
Отцу я говорю.
"Ну что ж? Зато толков!
И за примером, дочь, ходить недалеко нам:
Он похвалу дает Антоновым иконам.
И надо понимать, что, в Кракове учен
[602]
,
Не токмо малевать умеет сей Антон,—
Мечтает некую открыть мануфактуру
[603]
,
Неутомимую имеет он натуру.
Стать фабрикатором решил. И, например,
Сравниться ль может с ним хотя б дурак Шабер.
Есть иноземцы разные, я вижу.
Сей выехал Шабер из города Парижу,
Чтоб, ездя по миру, в ступе воду толочь.
По бедности им жить на родине невмочь —
Бродягами они становятся, ворами,
Иные ж, как Шабер, в Тобольске поварами.
Антон же не таков. Будь униат
[604]
, будь грек
[605]
,
Добро пожаловать, коль мудр ты человек,
Способный сотворить любое рукоделье.
Бывает, что и росс дичает от безделья,
А сей пришлец готов к полезному труду!"
– "Нет! – закричала я.– Я замуж не пойду!"
Перед родителем ударилась я в слезы.
Тогда печально так, хотя и без угрозы:
«Смотри, в девицах ты останешься навек!» —
Ответствовал отец. Нехитрый человек,
Все дни он проводил в палатах магистратских,
Избранник от людей торговых и посадских.
Судьбу мою решить имел ли он досуг!
Он в ратуше, а я резвлюсь среди подруг,—
То в церковь мы пойдем, то мыться ходим в бани,
По ягоды идем речными берегами,
Являюсь на базар – торгую что хочу:
Бухарские шелка, московскую парчу
Иль рухлядь мягкую
[606]
, везомую с Ял-Мала…
[607]
В Тобольске-городе всего у нас немало!
А как вернусь домой – скрипят во тьме полы,
Лампады по углам мерцают среди мглы.
Этих древних стен бревна ноздреваты
Девства моего вдыхают ароматы.
*
Суровая весьма приспела тут зима.
Казалось, что стучится в наши терема
Татарска бабушка, сама падера вьюга
[608]
,
Несуща вьюжный вьюк, что стужей стянут туго.
Говорит отец: "Тысяча семьсот
Шестьдесят первый год у городских ворот
Нелюбезно стучит. Ходят глупы толки.
Перепугалися все наши богомолки,
Тревожатся купцы в гостином ряду,
Господин Павлуцкий, тот вовсе ждет беду
[609]
–
Трепещет прямо весь, как жук на булавке,
Стал вовсе сущеглуп чиновник сей в отставке!"
– "Болтает он про что?" – спросила я отца.
"Про то же самое! Всё мира ждет конца,
Антихриста приход пророчит нынче летом
[610]
,
Да только, дочь моя, вздор, враки! Суть не в этом.
А будут хлопоты! Из Питера гонец
Известье подтвердил".
– "А что?"
Молчит отец.
Нахмурился, суров: «Неважно это, дочка!»
Но поняла и я: как наступает ночка,
Простого званья люд и губернатор сам,
Все головы дерут, я вижу, к небесам.
Муллы татарские, из юрт придя окрестных,
О том же говорят – о знаменьях небесных.
А что за знаменья, каков их будет вид,
Кого я ни спрошу – никто не объяснит.
Отец же мне опять: "Неважно это знати.
Что надобно, о том мы знаем в магистрате!"
Вот мимо башни я иду монастыря
И вижу: меж собой о чем-то говоря,
Нил и Галактион, ученых два монашка,
Глядят на небосклон, вздыхают оба тяжко.
Тут с башни сходит Нил. Меня благословил.
Сказала: "Отче Нил, хоть ты бы разъяснил
Про сей небесный знак немудрой мне девице!"
Нил отвечает так: "Тебе, отроковице,
Не нужно поднимать к зениту головы!"
А я ему опять: "Всё ж знаки каковы?
К чему они? К войне? Взбунтуются калмаки?"
– "Нет! – отвечает Нил.– Совсем другие знаки.
Не должно знать про них девице молодой!"
Ушел лукавый мних
[611]
. Уж верно, знак худой.
И сердце тут мое сказало: «Берегись!»
Всё ж запрокинула головушку я ввысь
Так круто, что на снег боброва пала шапка.
Гляжу на небеса. Мерцают звезды зябко.
Нет знака. Подняла я шапку и опять
Гляжу, как дура, ввысь, стараюсь разгадать,
Каков небесный знак, что он сулит. Однако
Я никакого там не усмотрела знака.
*
Минуло Рождество. Гадать пришла пора.
А я кидать башмак не стала со двора,—
Пес башмак унесет – вот и конец гаданью!
Для ворожбы хочу уединиться в баню.
Няня мне говорит: "Туда я не пойду,
Баня наша стоит далеко во саду,
До потолка она в снегах-сугробах тонет,
Над крышею сосна вершину низко клонит…"
И не пошел никто со мною из подруг.
Вот в бане я одна. Очерчиваю круг
Мелом на полу, а на приступе печки
Зеркало ставлю я и по бокам две свечки.
Пред зеркалом сажусь, от робости дрожу,
Но в зеркало меж тем я пристально гляжу.
Покажется ли мне в зеркале кавалер мой,
Придет ли он в сей год, семьсот шестьдесят первой?
Боже мой! Слышу я: где-то вдруг хрустнул снег,
Будто бы за окном топчется человек.
Нет! То не за дверьми снега я скрежет слышу —
Прямо над головой! Кто-то взошел на крышу.
Сажа шуршит в трубе, как будто кто залез.
То нечисть банная
[612]
? Глух сад наш, точно лес.
Снега да темнота. Забилось мое сердце.
Ну, ладно! Будь что будь! Вскочив, открыла дверцу.
"Эй, кто на крыше там? – я закричала.– Прочь!
Приказываю вам я, ратманская дочь!"
Ах! Это же Антон. Вот кто на крыше банной!
А рядом с ним предмет таинственный и странный,
Напоминающий огромна паука
На членистых ногах, идущих от брюшка.
Сие чудовище, на крыше стоя банной,
В отверстие трубы вперило глаз стеклянный.
О, господи! Весьма Антон хитер!
Но не решился бы пристойный кавалер
Ночью на баню влезть и сей предмет поставить.
Кричу: "Как смел, Антон, ты на меня направить
Чрез банный дымоход подзорную трубу?
Расстроил ты, Антон, всю мою ворожбу.
Папаше на тебя я жаловаться стану!"
– "Не для тебя совсем взошел на крышу банну,—
Нимало не смутясь, ответствует Антон
И тычет ввысь перстом: – Взошла на небосклон
Венус – любви звезда. Ее воспел Гораций
[613]
,
Воспел ее Назон
[614]
. А я для обсерваций
Имею телескоп. На бане я сидел
Часа, пожалуй, два – всё в небо я глядел.
Не знал, кто в бане есть, как ты вошла – не видел.
Тому порукой – честь! Пардон,– когда обидел!"
От смеха говорю я, закусив губу:
– "Что ж в зрительную ты увидеть мог трубу?"
– "Венус пройдет, звезда, на расстоянье близком,—
Сказал он,– меж Землей и Гелиоса диском
[615]
.
В июне месяце то нужно ожидать.
Явление сие приедут наблюдать
К нам академики, весьма учены мужи.
А я уже готов. Я их ничем не хуже!"
– "Лжешь! – говорю ему.– Тут что-то да не так!"
"Но,– думаю сама,– теперь понятен знак,
О коем не хотел мне объявлять родитель".
"Про Венеру стишок послушать не хотите ль? —
Спрашивает Антон.– Прочту тебе, позволь!"
– "Нет,– говорю,– Антон, от этого уволь!
Латинского чтеца уж выставил за двери
Папаша как-то раз!"
– "Тому я не поверю.
Он мудрый человек!"
– "А вот поди спроси,—
Смеясь, я говорю,– Венерам на Руси
Не поздоровится. Иди-ка восвояси!
Для Венус места нет у нас в иконостасе.
Великомучениц усерднее пиши!"
А он: "Конечно, в том спасение души,
Но я изображать умею и натуру,—
Хвою вот, например, сладчайшую фигуру,
Твой лик, что для меня священнее икон!"
Чуть слышно я шепчу:
«Прочь уходи, Антон!»
Прелестные его не слушаю я речи,
От бани прочь бегу, не потушив там свечи
И зеркальце забыв. И вот уже одна
Я дома. Из окна я в сад гляжу, бледна.
А в бане та свеча долго еще мерцала,
Как будто б чья-то тень гляделась там в зерцало.
2
Он не солгал, Антон! Так вышло по весне:
Соседка-попадья вбегает раз ко мне.
"Магус
[616]
, астролог,– кричит,– волшебник едет!"
«Что,– думаю я,– с ней? Она наяву бредит».
«О магусе каком, соседка, говоришь?»
– "Голубушка моя! Знашь город ты Париж?
Оттуда прибыл гость, негадан и непрошен.
Французский звездочет. Зовется Дотерош он"
[617]
.
Тут подоспел отец: "Что ж, попадья, ты врешь?
Совсем не магус он, аббат сей Дотерош.
Духовное лицо. Как твой супруг. Понятно?
Ученый астроном. На солнце ищет пятна.
А нынче,– этого не стоит уж скрывать,—
Венеру он звезду прибыл обозревать,
Которая пройдет по солнечному диску!"
Я вижу – звездочет уже подъехал близко,
И мой родитель тут в окошко поглядел.
Заторопился он, регалии надел.
"Пойдем-ка, дочь моя, добрых гостей встречати!
Там я обязан быть. Я ратман в магистрате.
А ты с французского нам всё переведешь,
Коль разговаривать захочет Дотерош!"
Тем временем ямщик подвозит гостя к дому.
Выходим мы, спеша навстречу астроному.
Вокруг его саней уж толпится народ.
Но всё посадский люд. Не вижу я господ.
По-видимому, их предупредить заранье
Не преуспел гонец, и спят еще дворяне.
Чуть оробела я. Но зов мово отца
Мгновенно мне помог сойти на двор с крыльца.
Вот гость! Откинул он кибитки волчью полость,
Воззрился на меня. В глазах его веселость,
Лицо духовное, но брит и моложав.
Тут кланяется он. И, губы вдруг поджав:
«Хочу я,– говорит,– стаканчик русской водки!»
Вот, думаю, и верь соседушке-трещотке!
На магуса ничуть сей путник не похож.
Не в остром колпаке явился Дотерош.
Магическа жезла в руках нет никакого.
Француз он как француз. Приветственное слово
Любезно говорит. Но кто ж тебя поймет,
Кроме меня одной, заморский звездочет!
Милый ты мой, никто не разберет твой говор.
Ну, что ж! Не зря учил меня лукавый повар!
Я говорю: «В наш дом пожалуйте, аббат».
– "Спасибо! – он в ответ.– Я буду очень рад!"
Вот вылез. На меня глаза свои таращит.
Отец зовет людей – пускай, мол, перетащат
Его пожитки в дом – сумы да сундуки,
Довольно тяжелы они и велики.
Тут на его багаж все навалились скопом.
"А вы,– кричит аббат,—полегче с телескопом!
Боюсь я, что труба попортилась в пути,
Прошу ее за мной в апартамент внести.
Сибирская езда страшней землетрясенья —
За свой я телескоп имею опасенье!"
И опасения те были неспроста.
Снимаючи с вещей футляры из холста,
Бормочет Дотерош: "Проклятая дорожка!
Погнулася, увы, у телескопа ножка".
Вот, наконец, труба. Наверно, пуда три
Весит сия труба. Шепнул отец: "Смотри!
Сей телескоп длиной, пожалуй, в двадцать футов.
Его аббат дурной вез, кошмами укутав,
И, говорю тебе,– погнулася труба,
Ибо красная медь тут для заклепок слаба!
Венус как будет зрить в трубу сию горбату?
Задай-ка, дочь, вопрос об этом ты аббату".
Но и астроном сам, однако, понял тож,
Сел, пригорюнившись. Папаша молвит: "Что ж!
Непоправимыя беды я в том не вижу.
Приехавши сюда из города Парижа,
Он догадаться б мог, что красна медь мягка,
Но телескоп, даст бог, поправим тут слегка.
Пусть господин аббат сомненья бросит тяжки —
Дуньку-лудильщицу возьмем из каталажки
[618]
,
Куда заключена за блуд и воровство!"
Перевожу я речь папаши моего.
"Так, господин аббат! – я говорю.– А ножки
Получим для трубы у некого Антошки".
Тем временем, гляжу, астронома встречать
Является, спеша, вся городская знать.
Сам губернатор наш, я вижу, шлет майора,
Во двор к нам экипаж въезжает прокурора,
Архиепископ тож к нам служку посылат:
"Французский, мол, у вас находится аббат?
Впоследствии пусть к нам заглянет благосклонно!;
И живописца я увидела Антона.
"Антон! – его зову.– Поди-ка ты сюды!
Аббата Дотерош ты выручь из беды —
Для телескопуса отдай ему треножник!
Вот,– говорю,– аббат, церковный наш художник.
Венеру наблюдать он начал прежде вас…"
Полицеймейстерский я вижу тарантас,
В нем баба дерзкая поводит красным носом,
Сопровождаема не кем-нибудь – профосом
[619]
,
Лудильщица въезжает к нам во двор.
"Ну, Дунька, не подгадь! – кричит ей прокурор.—
Вот прежде поклонись аббату-звездочету,
А вслед за тем берись за важную работу.
На зрительну трубу ты погляди-ка, Дунь!"
А Дунька, осмотрев: "Тут даже не латунь,
Обыкновенна жесть тут надобна, как вижу.
А что до мастеров из городу Парижу,
Так это прямо срам – поставить сплав таков!
Как видно, есть и там немало дураков!
Глаза,– она ворчит,– где ж были у аббата?"