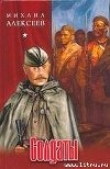Текст книги "Глубокая борозда"
Автор книги: Леонид Иванов
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц)
Гребенкин оказался в конторе и встретил вроде бы радушно…
– Вот и хорошо – заглянул-таки в наши края! Пойдем, Вера чем-нибудь тебя накормит.
Я сказал, что обедал у Соколова.
– Наверное, критический материал ищешь, – рассмеялся Гребенкин и здоровой рукой провел по лысеющей голове. – А я собирался на новостройку. Составишь компанию?
Я пошел с ним.
Деревня выглядела неважно: многие избенки покосились, окна в домах маленькие, деревянных домов вообще мало – больше глинобитные.
– Не нравятся хатенки? – спросил Гребенкин. – И мне не нравятся. Вот и решили с жилья начать.
За деревней, на бывшей поскотине, кипела работа: возводились саманные стены множества домов. Я попробовал считать, но Гребенкин перебил:
– Можешь не считать – ровно сорок. Мы свою трехлетку по строительству домов составили: каждый год – сорок домов. Через три года деревня вся новая станет.
Гребенкин обходил строителей и с каждым обменивался замечаниями.
– График держишь? – спрашивал у одного.
– Не забыл, Михаил Петрович, – предупредил он другого, – первого октября новоселье – гулять приду.
– А ежели раньше построюсь? – весело отозвался Михаил Петрович.
– Сильно не гони, – рассмеялся Гребенкин. – В уборочную про гулянье забудем. Да и тебе придется на току действовать.
– Это конечно, Сергей Устиныч. Но, по всему видать, деньков через восемь управлюсь. Вот только леску на потолок маленько не хватит.
– Завтра машина привезет – тебе и Михееву. На двоих должно хватить.
– Хватит, Сергей Устиныч! Большое спасибо.
– Лесу всем хватит! Еще двести кубов купили.
Обходя стройку, Гребенкин находил, о чем поговорить с каждым, узнавал нужды. А часа через два, возвращаясь обратно, он рассказал о стройке. Это ему пришла мысль заново перестроить деревню. Он ездил в один целинный совхоз и увидел там, как строят саманные дома. А те делали их по примеру рабочих совхоза, строившихся еще в тридцатые годы. Многолетний опыт показал, что в саманных домах теплее, чем в каменных, а с деревянными и тем более сборными щитовыми и сравнивать нечего. В условиях степи, когда зимой дуют сильные ветры, любой деревянный дом продувает насквозь. Новоселы строили саманные дома на каменном фундаменте, с полом и потолком. По предложению Гребенкина и в колхозе решили строить так же. Плохо было с кровельным материалом, но старожилы посоветовали делать камышовые крыши.
– Скотные дворы строишь? – спросил я Гребенкина.
– А ты что, хочешь посмотреть? Строим и дворы. Ты видел у Соколова? Ну, вот и мы делаем такие: стены, как в новых хатах, фундамент и столбы кирпичные.
– Кирпич из города?
– Пока нет. Заняли в одном колхозе – вернее, поменялись: мы им лес, а они нам кирпич. В будущем году свой будет.
– А лес где взял? В колхозе лесов ведь нет.
– Это длинно рассказывать. Вообще, конечно, безобразие! Но для пользы дела можно. Мне город помогает: съездишь, поговоришь, дают наряд. По старой памяти. Правда, мы тут и на райпотребсоюз нажали – двести кубов взяли. А без этого, – Гребенкин развел рукой, – нельзя! Пока нельзя… И досада берет. Вон сосед никак лесу достать не может. И черт его знает: в Сибири, и без лесу. Все-таки это безобразие! Далеко ли тайга? Река через всю область, пароходов и барж до черта, а в колхозах стройки срываются.
– Смотри, у тебя сколько лесу, – показал я на штабель.
– Это на столбы. Застройщики вкопали, видишь? А в воскресенье начнем ставить по всей деревне. У нас к зиме электричество будет и радио. Для этого и столбы бережем.
К нам подошла смуглолицая девушка.
– Сергей Устиныч, – сказала она, – доярки послали к вам. Надо бы новые дворы закрепить за бригадами.
– А чего закреплять, Тоня? Столбы еще не сложены.
– Столбы почти все поставлены, фундамент есть, саман готов… Мы хотели, Сергей Устиныч, и сами поработать… Доярки, пастухи. В свободное время. У вас скоро хлебоуборка начнется, людей мало, а мы сейчас бы помогли… На своем дворе, – уточнила Тоня.
– Видал их! – подмигнул мне Гребенкин. – Вот что, Тоня! Раз твоя бригада проявила такую инициативу – сами себе и двор выбирайте.
– Любой можно? – обрадовалась Тоня.
– Любой! Только мне потом скажете.
– Так мы, Сергей Устиныч, возьмем с того краю.
– А почему? – удивился Гребенкин. – Ближний-то почти со всеми столбами уже.
– Да мы уж подумали, Сергей Устиныч. – Тоня потупилась. – В той бригаде плотники-то – мужья двух наших доярок…
– Ну, ясно! – рассмеялся Гребенкин. – В той бригаде и Степан?
– Вы уж сразу и в краску вводить.
– А ты не сердись. На свадьбу все равно приду.
Девушка смутилась окончательно и смолчала.
– Ладно, Тоня, начинайте. Крайний двор – твой!
– Спасибо, Сергей Устиныч. – И Тоня торопливо зашагала по деревне.
– Вот видишь! – кивнул ей вслед Гребенкин. – Дополнительную нагрузку выпросила, да еще и рада. Как, по-твоему, почему люди добровольно идут на дополнительную работу?
– Видимо, заинтересованы.
– Видимо! У тебя и выражения-то все с осторожностью. Видимо! Видимо, ты не все понимаешь! – Гребенкин усмехнулся. – Да, по правде, сначала и я не понимал. Дело тут сложное. Люди истосковались в отстающих ходить. А вот фундамент двора увидели, обрадовались, поверили, что двор будет. Это, брат, не только понять надо. Прочувствовать! Только начни хорошее дело – сразу сотня помощников найдется.
– Выходит, заложи фундамент двора – и сразу энтузиазм поднимется?
– Ох, браток! Оказенился ты совсем. – Гребенкин повернулся назад и, показав на штабель бревен, сказал: – Вот и этот штабель вызывает, как ты выражаешься, энтузиазм! И не только у председателя. Главное – у колхозников. И вот те сорок домов будущих – тоже энтузиазм! И фундаменты будущих дворов! И поля!
– Хлеба хорошие?
– Потом посмотришь. А когда дело с места чуть тронулось да маленько пошло, тогда можно и «Дубинушку» гаркнуть.
Контора была уже на виду, когда Гребенкин, вдруг вспомнив что-то, остановился.
– Заговорился я с тобой и забыл совсем. Пошли обратно! – Он решительно повернул назад и, когда поравнялся с нужным ему домом, сказал:
– Надо объявить бригадиру первой бригады, что Тоня повела своих двор достраивать. – Гребенкин подмигнул мне и шагнул в хату.
Когда он вышел оттуда, вслед за ним выскочил пожилой человек, который на ходу надевал телогрейку.
– Так нам, значит, Сергей Устиныч, ближний двор?
– Конечно, ближний. Твоя бригада стариковская, сам знаешь, ну и решили дать вам который больше отстроен.
– Вот спасибо-то, Сергей Устиныч… Мы это… подмогнем!
– Вот и пошло дело, – удовлетворенно промолвил Гребенкин, обернувшись ко мне, – а ведь я и сам хотел предложить такой ход, но все ждал: догадаются или нет. Ну, понимаешь меня? Загорятся ли сами? Загорелись!
В конторе Гребенкин познакомил меня с секретарем партийной организации.
– Ты, Сергей Устинович, Тоню Быкову не встречал?
– Только что разговаривал.
– Двор ей определил?
– Определил.
– Хороший народ у нее в бригаде! Я с ними беседовал в обеденный перерыв, разговорились о подготовке к зимовке. Все как один: сами двор поможем достроить. Значит, разрешил? Тогда я пойду со второй бригадой поговорю. Надо и их…
– Поговори, поговори, – улыбнулся Гребенкин. – Только самого-то Самсона надо на лошади догонять.
– Так ты с ним, наверное, уже виделся, – догадался парторг.
– Да. Но и тебе побеседовать не мешает. Ближний двор – для них.
Парторг ушел. А Гребенкин вызвал к себе бухгалтера.
– Ну как, Петр Петрович, изыскал деньги?
Петр Петрович – уже немолодой человек в очках, с взъерошенной шевелюрой.
– По два рубля наберем, Сергей Устинович.
– И то хорошо! А за сентябрь, Петр Петрович, надо по три рубля дать.
– Если вы гарантируете, Сергей Устинович, что в закуп дадим десять тысяч центнеров, тогда найдем денег. По три рубля найдем.
– А где найдем?
– По другим счетам пошарим… Временно, до получения денег за пшеницу.
Должно быть, у Гребенкина не было настроения выяснять до конца, как бухгалтер будет шарить по другим счетам. Да по всему было видно, что Петру Петровичу он доверял и на слово.
– Тогда пишите объявление. Самыми крупными буквами, избача вызовите – он мастак.
– Хорошо, позовем, – оживился Петр Петрович. – Только какие слова написать? – Петр Петрович взял лист бумаги.
– Слова? Самые простые. – Гребенкин подумал немного. – Пишите так: «Товарищи колхозники! Правление доводит до сведения, что аванс на трудодни за август будет выплачиваться пятого сентября»… Будут деньги к пятому сентября?
– Лучше бы, Сергей Устинович, шестого. Надежнее.
– Ну, шестого! Значит, шестого сентября, из расчета по два рубля за трудодень. А ниже – еще крупнее буквы пустите. Напишите так: за сентябрь аванс будет выдаваться из расчета три рубля за трудодень, выработанный в сентябре. Сегодня же вывесить такое объявление! Во второй бригаде – тоже. Ясно?
– Сейчас мы это организуем, Сергей Устинович. – Бухгалтер заспешил к выходу.
Я снова спросил Гребенкина про хлеба.
– Не торопись – все покажу. Только по порядку. Сначала на кукурузу.
Мы подходили к полю, на котором торчали редкие и низкорослые растения кукурузы.
– Вот полюбуйся. Почти вся такая, а мы сдуру махнули сразу шестьсот гектаров. Пропал труд. Пшеницы тут наросло бы центнеров по десять с гектара. А теперь только натуроплату плати.
Я назвал несколько колхозов, где видел хорошую кукурузу. На это Гребенкин возразил:
– Думаешь, я хорошей не видел? Видал, брат. А вот тут кто виноват? Я главный виновник. И виноват в том, что послушал совета несерьезных людей. Зачем было сразу на шестьсот гектаров замахиваться? Ну, двести, а то и сто для начала. Да посеять-то их разными способами: и вкрест и широкорядно – все надо было проверить, этот самый брод-то изучить, узнать!
По пути на другое поле Гребенкин рассказал о своей недавней поездке в совхоз к известному в области директору Никанорову.
Уже вечерело.
Гребенкин заторопился в контору: у него каждый вечер руководители участков собираются, чтобы дать отчет за день и получить задания на следующий.
Мне давно хотелось спросить Гребенкина, как его жена Вера восприняла переезд в колхоз. Я знал, что Вера – извечная горожанка. А сейчас случай удобный: Гребенкин в хорошем настроении.
– Об этом вечером поговорим. Хотя зачем вечером! – остановился Гребенкин. – Ты шагай к моему дому. Вон там – под тесовой крышей – видишь? На высокой жердине скворечник висит. Вот и шагай. Ты сам Веру и допросишь, чтобы, – Гребенкин рассмеялся, – чтобы без нажима с моей стороны, беспристрастно, так сказать.
Вот и дом под тесовой крышей. Под окнами дома палисадник. На грядках цвели георгины, гладиолусы и еще какие-то не знакомые мне цветы. И тут я вспомнил, что Вера последнее время работала в школе с юннатами и что школа была участником выставки в Москве именно по цветоводству.
Зайдя в ограду и поднявшись на крыльцо, я увидел огород Гребенкиных. На грядках виднелись небольшие кочаны капусты, зеленые помидоры, горох, мак и много другой зелени. А вдоль жиденькой ограды в три ряда тянулись яблоньки. Они были совсем маленькие и высажены, по-видимому, прошедшей весной.
Гребенкин явился домой в тот момент, когда у нас с Верой, полнеющей, но все еще красивой, разговор был в самом разгаре.
Переехав в колхоз, Вера стала преподавать биологию в местной школе, организовала кружок юннатов. Она жаловалась на мужа: не разрешил ей работать агрономом колхоза. Гребенкин посчитал роскошью держать агронома в сельхозартели, где председатель сам агроном.
– Ну, как тут популяризатор шаблона, Верочка? – с такими словами Гребенкин ввалился в комнату.
– А ты не можешь поделикатней? – улыбнулась Вера.
– А жена-то у меня дипломат! – рассмеялся Гребенкин.
Вера стала накрывать на стол, и разговор как-то незаметно перешел на воспоминания о далекой уже студенческой жизни.
…Рано утром мы с Гребенкиным отправились на колхозный огород и неожиданно увидели Савелия Петровича, который вчера привез меня. Он запрягал коня.
– Вы еще не уезжали?
– Да вот, скажу вам, лошаденку пожалел… Пусть, думаю, отдохнет, – явно смутился Савелий.
– Рассказывай! – рассмеялся Гребенкин. – Разведчик!
– А вы, Сергей Устиныч, сразу на военный язык, – улыбнулся Савелий. – Это по-военному – разведчик, а в мирное время, это, скажу я вам, называется: по соседям в гости ездить, знакомиться, что и как…
4
В конце сентября я опять поехал в Дронкинский район.
В последней сводке по хлебосдаче, напечатанной в областной газете, Дронкинский район занимал место, как выразился Обухов в беседе со мной, «ниже среднеобластного».
Я попытался успокоить Обухова. Первые восемь мест в сводке заняли северные районы области. А хлеба они все вместе сдают чуть больше, чем один Дронкинский район. К тому же там возделывается озимая рожь, а ее начинают убирать дней на десять раньше, чем на юге пшеницу.
– Нашел чем успокоить, – усмехнулся Обухов. – Меня не спрашивают: рожь или пшеницу сдаю. Дай процент! А мы из-за этого хваленого Соколова два места потеряли. – Обухов порылся в бумагах и с упреком проговорил: – Ты тут летом Соколова в газете расхвалил: руководитель там, видите ли, вдумчивый, опирается на народный опыт… А вот не напишешь, что он весь район подводит!
– Каким же образом?
– Очень просто! По графику в той пятидневке он обязан был сдать шестьсот тонн. А он четыреста отвалил. А теперь, изволь радоваться, с семнадцатого на девятнадцатое место район съехал. – Обухов взял в руки газету со сводкой. – Вот видишь, как оно получается: если бы Соколов сдал шестьсот тонн, у нас процент поднялся бы на три десятых. А выше нас кто стоит? Лабинский и Тарасовский, а у них у обоих процент на две десятых выше нашего. Понял, в чем дело? Слышал вчера, на перекличке меня порадовали: Обухов на два места ниже скатился… С этим Соколовым надо…
В окно было видно, как у райкома остановилась машина.
– Председателя своего пришлось посылать, – раздраженным голосом продолжал Обухов, – воспитывал там Соколова.
«Своим» председателем Обухов называл Павлова – предрика. Запыленный, похудевший, он вошел в кабинет. Обухов встретил его словами:
– Ну, всыпал ты нашему «передовому мыслителю, вдумчивому руководителю»?
Павлов присел к столу, обтер лицо платком.
– Дело очень сложное, Михаил Николаевич, – проговорил он, покачивая головой. – Соколов объявил аврал на уборке: все поднял! Бригадир Орлов и тот в ночную смену сцеп комбайнов водит – подменяет основных комбайнеров. Животноводов на уборку перебросили: днем коров доят, ночью на соломокопнителях…
– Ты очень уж красочно описываешь, – перебил Павлова Обухов. – Эти описания ты не отнимай вот у них, – Обухов кивнул в мою сторону, – у товарищей корреспондентов. Для них побереги… Выполнит он график в эту пятидневку?
Павлов облизнул пересохшие губы.
– Нет, не выполнит, Михаил Николаевич.
– Так какого черта ты там целый день пропадал? Тебя за сказками, что ли, туда посылали? За сказками, да? – Глаза Обухова метали искры.
На худом, загорелом лице Павлова появились темно-красные пятна.
– Дело очень серьезное, Михаил Николаевич! – чуть повысил голос Павлов и поднялся со стула. – На месте Соколова я так же поступил бы.
– Тебе, я вижу, и надо быть на месте Соколова, а не районом руководить…
– Я, Михаил Николаевич, был председателем, и в любое время… если доверят.
– Ага! Трудностей испугался? Чего там наделал твой Соколов? – последние слова были произнесены в тоне примирения, и это, видимо, успокоило Павлова: он опять сел на стул.
– Хлеб перестоял, Михаил Николаевич, зерно осыпается страшно. А тут, как на грех, ветры чертовские, как с обеда начнет, так и до ночи. Только ночью и тихо. Я сам проверил у Соколова: шапку бросишь, – Павлов снял свою военного образца фуражку, – за пять минут два-три зерна в нее попадает, а в день – самое малое центнер с гектара… Соколов думает дней за пять все махнуть с корня, пока погода хорошая. Я заезжал на станцию – прочат дождь в ближайшие дни.
– Дождь? – испугался Обухов. – Так мы же на тридцатое место слетим, ты понимаешь это?
– Надо, Михаил Николаевич, поговорить с обкомом, просить машин, хотя бы сотню. Тогда мы и хлеба уберем без больших потерь и вывозку…
– Говори сам! – крикнул Обухов.
– Давайте о деле, Михаил Николаевич. – Павлов сказал это твердо, решительно, и Обухов невольно задержал взгляд на худом, потном лице предрика. Павлов снова начал доказывать, что за три дня можно потерять половину зерна – осыплется, но если в эти три дня вывозка зерна на элеватор и сократится, то потом можно ее усилить и план перевыполнить. Обухов отверг и эти доводы Павлова. Тогда тот заявил еще более решительно:
– Не знаю, Михаил Николаевич, но я дал такую установку и Григорьеву и Коновалову. Все надо бросить на уборку урожая, это мое твердое убеждение! И это будет по-государственному. Хлеб ведь гибнет, безвозвратно гибнет хлеб!
– Не паникуй. Ты забыл про график?
– Но поймите, Михаил Николаевич, природа графиков не признает. Поговорите с обкомом… Все равно наши машины сейчас в день по одному рейсу на элеватор делают, в очередях там простаивают… Ведь каких-нибудь пять-семь дней, и хлеб будет прибран. Тогда и…
– Хватит, Павлов! Прекратим болтовню. – Обухов присел к столу, снял телефонную трубку и вызвал совхозную метеостанцию. – Как погода? – Выслушав ответ, он сердито бросил трубку на рычаг. – Ты слушал: через два-три дня дождь!
– Вот и осыплется весь неубранный хлеб. Весь, начисто!
– А мы обязаны и хлеб убрать и график выполнить! Понял? Давай такую команду: все машины – понял? – все машины, до единой, только на вывозку хлеба на элеватор! А колхозы должны изыскать средства на отвозку зерна от комбайнов. Все, Павлов. Ты сейчас же поезжай… – Обухов назвал несколько колхозов. Сам он взял на себя Соколова и его соседей, у которых успел побывать Павлов. – И до дождя на эти три дня все автомашины – только на хлебосдачу!
– Я возражаю!
Обухов как-то оторопело взглянул на Павлова. Таким незнакомым, по-видимому, показался ему тон, каким были произнесены слова.
– Я возражаю! – так же твердо повторил Павлов. – И прошу созвать внеочередное бюро.
– Вон ты как? Не выспался, наверное… Бюро соберем первого октября и, если по твоим колхозам график хлебовывозки будет сорван, поставим вопрос о нашем председателе райисполкома. Ясно? – Обухов встал и, забрав папку, вышел из кабинета.
Павлов устало приподнялся со стула, неторопливо надел фуражку.
– Вот так мы заботимся о хлебе, – тихо проговорил он. У порога остановился, в раздумье добавил: – О государственном, народном хлебе…
Начинать разговор с Павловым я счел просто неудобным и пошел искать попутный транспорт.
В редакции районной газеты мне сказали, что колхоз «Сибиряк» по хлебосдаче отстает.
– А по уборке как?
– По уборке сводок не печатаем, – ответил редактор.
Я посмотрел подшивку газеты. В последних номерах склонялось имя Соколова. Его называли уже и неумелым организатором, забывшим интересы государства, и многими другими обидными словами.
К Соколову я попал только на следующий день к вечеру. Парторг Василий Матвеевич сказал, что Соколова найти трудно: он где-то на полях.
– Вчера был Обухов, а Соколова так и не мог отыскать, – хитро улыбнулся Василий Матвеевич.
Он рассказал мне, что на днях по докладу Соколова партийное собрание приняло решение: спасать хлеб! Все машины, весь транспорт закрепили за комбайнами. А чтобы участвовать в хлебосдаче, было решено в эту пятидневку часть зерна ссыпать на глубинный пункт, открытый в новом зерноскладе. Василий Матвеевич был назначен ответственным за работу на току и за сдачу зерна. Когда он доложил Обухову, что за пятидневку они оформят в сдачу тонн четыреста, тот заявил: не меньше тысячи!
– И как же? – спросил я.
– Оформим и засыплем четыреста, – сказал Василий Матвеевич. – На глубинку зерно принимают с влажностью семнадцать, а у нас пока идет девятнадцать.
– А если разрешат с более высокой влажностью?
– Все равно четыреста. Склад-то у нас один, а пятидневка-то не последняя, да и график не последний, – улыбнулся Василий Матвеевич.
Уже ночью на попутной машине я добрался до одного из комбайновых агрегатов. За штурвалом комбайна оказался бригадир Орлов. Еще издали при свете электрических лампочек выделялась его коренастая фигура в кожанке.
– Нажимаем! – крикнул Орлов, когда я взобрался на мостик.
С мостика комбайна открывалось красивое зрелище: по обширному полю двигались огни. Пересиливая грохот моторов, пронзительно ревели сирены. Тревожные сигналы в степи – это сигналы о бедствии: ждем транспорт! Берите намолоченное зерно!
– Все восемь сцепов на ходу! – выкрикивал Орлов, показывая на светящиеся островки. – Душа радуется! Красота!
Действительно, в степи двигалось восемь огненных шаров. Темноту между ними то и дело прорезывали снопы еще более яркого света – это шоферы спешили за зерном. И чем чаще раздавались сигналы сирен, тем стремительнее двигались эти снопы электрического света.
Вот и Орлов подал сигнал. Вскоре к его комбайну примчалась трехтонка. Агрегат остановился, в кузов машины забила мощная струя зерна. При ярком электрическом свете она казалась огненной, с золотистым отсветом по краям.
Пока агрегат разгружался, Орлов и его помощники хлопотали у комбайнов, открывали и закрывали разные заслонки, лили на цепи густую смазку. А когда оба комбайна разгрузились, на мостик поднялся высокий человек в комбинезоне, с защитными очками.
– Чего это, Иван? – удивился Орлов и посмотрел на свои часы. – Твоего отдыха еще час остался.
– Хорошо отдохнул… Говорят, у Сереги не ладится.
– Ну, тогда жми! Я все проверил, пока нормально. – И Орлов спустился с капитанского мостика. Он, оказывается, только на четыре часа подменял этого комбайнера и теперь должен был сменить другого, работавшего на соседней загонке.
– Понимают задачу ребятишки! – сказал Орлов, когда агрегат двинулся в темноту.
Орлов радовался, что и правление артели «подбодрило» комбайнеров: за каждый гектар, убранный в ночное время, работники агрегата получают сверх установленной законом оплаты еще восемь килограммов пшеницы.
– Деньков пять да столько же ночек, и наша бригада все как есть уберет.
Я спросил о второй бригаде. Орлов ответил, что та немножко отставала, но ей помогает «сам Соколов».
– А он мужик хитрый: чего-нибудь придумает, а не то у Гребенкина комбайнов выпросит.
– Разве Гребенкин может дать комбайны?
– Уже дает. Наш колхоз пообещал ему сортовых семян этого… нового сорта, вот они и рады: за наш колхоз сдали тонн сто пшеницы, а Иван Иванович отвел им одно поле с этой пшеницей: убирайте, говорит, и прямо домой возите. А это большая помощь второй бригаде.
– Успевают отвозить зерно от комбайнов? – продолжал я допытываться.
Оказалось, что Соколов разрешил в крайнем случае намолоченное зерно ссыпать на временные площадки, устроенные возле каждого поля. Если нет транспорта, то комбайнер выводит свой агрегат к площадке и ссыпает зерно на землю.
А рано утром, когда проводится технический уход за машинами и заправка горючим, весь транспорт переключается на отвозку зерна с временных площадок.
– Иван Иванович запретил комбайнам стоять! – с некоторой торжественностью произнес Орлов.
В стороне послышался конский топот. Орлов прислушался.
– Неужели Соколов?.. Он! Больше некому.
Топот приближался, но в кромешной темноте осенней сибирской ночи ничего не было видно.
– Иван Иванович! – крикнул Орлов.
– Ты, Степан Петрович? – послышался голос Соколова. Не слезая с коня, он стал расспрашивать Орлова о работе комбайнов.
– Молодцы ребята, – похвалил Соколов. – Скоро к вам на подмогу придет еще трехтонка.
– Где это отыскалась? – заинтересовался Орлов.
– Гребенкин две машины дал… На пятидневку…
– А где же Гребенкин машины берет? – не удержался я от вопроса.
– Сергей Устиныч… он знает дороги, – неопределенно ответил Соколов. – Мы с ним соревнуемся…
Соколов слез с коня: он решил здесь дождаться подхода комбайнов, огни которых светились еще далеко.
В темноте не было видно лица Соколова, но по его голосу, по тому, как тяжело опустился он на копну соломы, можно было понять, что Иван Иванович сильно утомлен. Однако он оживился, когда начал рассказывать о соревнованиях с Гребенкиным.
– Это, понимаешь, Сергей Устиныч придумал, – начал он. – Как-то приезжает чуть не всем правлением. Посмотрели наше хозяйство, на полях побывали, а потом он, Устиныч-то, и завел разговор про соревнование. «Давайте, – говорит, – соревноваться не за то, кто кого обгонит, а за общий подъем обоих колхозов. Клятву, – говорит, – дадим друг другу – помогать во всем. Плохо у вас, трудности, – считаем, что это и наши трудности. У нас тяжело – считайте, что это и ваше горе, помогайте. А если кто хорошее надумал и сделал, сразу соседу сообщить». Наши правленцы поначалу не шибко, понимаешь, обрадовались. Как-никак, а тот колхоз послабее. Наши толкуют: Гребенкин хитрит, не поехал небось к Григорьеву. А когда получше обсудили, решили: убытка от такого соревнования не будет, а польза, может, и получится.
– Расскажите, как присягу принимали, – рассмеялся Орлов.
– Почитай, что и присягу… А все Устиныч придумал. Выстроил своих членов правления в один ряд против наших и клятву вроде прочитал… Обязуемся, мол, не давать отставать соседу, и все такое. Потом руки пожали друг другу. А на другой день Сергей Устиныч присылает машину: дайте кирпича. Домов они много строят, а печки класть не из чего. Видать, они кирпич-то наш поприметили: на своем заводе делаем. Наши сразу зароптали: обошли, мол, Соколова. Потом мы помогали им ток механизировать. Как у нас, уже нельзя было построить, но сортировочку с бункерами наши плотники и кузнецы помогли им сделать. Ну, потом наш животновод, понимаешь, к ним ездил на пятидневку – помог кое-какими советами.
– А Гребенкин как? – не выдержал я.
– Долг платежом красен. Теперь и они нам помогают… Ох, как сильно выручают! Тут мы семян им решили дать хороших…
– Я говорил уже товарищу корреспонденту, – перебил Орлов.
– Так вот, с семенами, – продолжал Соколов, – мало того, что сами они домолачивают то поле. Устиныч по первому слову дал нам две трехтонки и обещал еще две прислать. Шефов хороших нашел, те ему в машинах не отказывают.
Соколов вдруг притих, и вскоре мы услышали легкое похрапывание.
– Пусть минут десяток отдохнет, – негромко произнес Орлов.
С каждой минутой нарастал гул комбайнового агрегата, а когда он оказался метрах в двадцати от нас, Соколов проснулся.
– Ну как? – спросил он, проворно поднимаясь.
Нас осветили фары трактора, и теперь я видел лицо Соколова, наблюдавшего за приближающимся агрегатом. Оно преображалось на глазах: морщины будто разглаживались, рот медленно приоткрывался, и казалось, сейчас Соколов воскликнет: «Вот хорошо!»
Орлов сменил комбайнера, Соколов отдал тому свою лошадь, чтобы быстрее доехал до полевого стана – к месту отдыха, наказал ему поторопить автомашину.
Некоторое время мы шли вслед за комбайном, а на повороте загонки свернули в сторону и очутились на какой-то дороге. Соколов рассказывал, и в его словах чувствовалась досада.
– Первого октября мне обязательно нагоняй будет… Михаил Николаевич тридцатого сентября сам нагрянет, будет требовать, чтобы оформляли квитанцию на зерно, которое на току, несортированное, влажностью выше нормы. Пригрозит наказанием… Конечно, это важно – хлеб рано сдать. Только пять дней позднее, пять дней раньше – тем более, все равно в глубинку, – по-моему, значения большого не имеет… для государства. Для Михаила Николаевича, конечно, имеет. А вот если на пять дней раньше уборку закончить, это, понимаешь, все равно что дополнительно много миллионов пудов хлеба дать государству. Много миллионов! – повторил Соколов и остановился, услышав сирену. – Маленько ведь не успел, – укоризненно проговорил он, наблюдая за снопами света, что далеко отбрасывали фары мчавшейся к агрегату автомашины.
…Из колхоза уезжать не хотелось. Люди работали так горячо, что о каждом можно было писать большой очерк. В колхозе не было ни одного человека в возрасте от двенадцати до восьмидесяти лет, кто не участвовал бы в уборке.
Но в ночь на тридцатое сентября пошел дождь: сначала только побрызгал, а к утру разошелся как следует. Все небо затянули рваные темно-серые тучи. К обеду комбайны остановились, а к вечеру забуксовали и машины. На полях все затихло.
Но зато шумно стало в колхозной конторе.
Удивительно было то, что дальнейшие события развернулись так, как и предсказывал Соколов.
Вечером тридцатого на вездеходе примчался Обухов. Узнав, что график хлебосдачи не выполнен, он расшумелся и пошел с Соколовым на ток. В одном складе работали веялки, действовал и мехамбар – он был под навесом. Но очищалось семенное зерно – последние дни убирали семенные участки. Увидев горы насортированного зерна, Обухов порекомендовал «оформить» его на глубинку, то есть как бы сдать государству, а позднее заменить его зерном с производственных участков.
– А что это даст? – спросил Соколов.
– График выполнишь!
– Нет, Михаил Николаевич, семена сдавать не буду. Партия приказала заботиться о семенах. Хорошие семена – половина урожая.
– Так это же на день-два. Странный человек! – возмутился Обухов.
– Это же, Михаил Николаевич, обман государства. Сдаем, понимаешь, вроде в бирюльки играем. Семена в сводке мы уже показали, а теперь вы советуете показать их еще и в государственных закромах. Один и тот же хлеб…
Обухов, видимо, понял, что разговор об оформлении семян вести бесполезно.
– Дело твое, Соколов, – сказал он. – Я только посоветовал. А теперь как хочешь. Не забудь: завтра в семь вечера на бюро.
И уехал дальше.
А на другой день за невыполнение графика хлебосдачи Соколову был объявлен выговор.
Дожди продолжались целую неделю. В колхозе «Сибиряк» оставалось еще на корню больше тысячи гектаров пшеницы, или десятая часть посевов. В большинстве других артелей района было не убрано до трети урожая. Хлеба прибило к земле, и когда вновь приступили к уборке, то даже у Соколова стали намолачивать по три-четыре центнера с гектара, хотя перед дождем получали еще по восемь-десять.
Позднее Соколов сказал мне, что октябрьские дожди отняли у колхоза не меньше пяти тысяч центнеров зерна. По его подсчетам, сохранив этот хлеб, можно было бы выдать колхозникам на каждый трудодень еще по два килограмма пшеницы. Вот что значит не убранная вовремя тысяча гектаров хлеба!