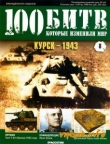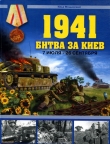Текст книги "Дневники 1932-1947 гг"
Автор книги: Лазарь Бронтман
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 49 страниц)
7 декабря.
Проснулся сегодня ни свет, ни заря: в 12 часов дня. Вчера был выходной вместо 5 декабря. Рано лег и выспался. На дворе солнце и морозно, хотя все последние дни стояла теплынь, все развезло, были лужи, грязь.
Прочел два том де-Гара «Семья Тибо». Сколько психологии и наблюдательности, сплошная игра на чувствах. Это проходит где-то выше меня, я этому по пояс, не выше.
Создали выборную группу. Постановлением редколлегии от 1 декабря руководство компанией возложено на Слепова. Его заместителями на время выборов утверждены я и Корнблюм, руководителем московской группы назначен Володя Верховский, бригады по Сталинскому округу – Капырин. Таким образом, у меня в отделе на эти два месяца остаются только двое: Марты и Иткин. Но вчера я прослышал, что Мартын опять харкает кровью. Надо опять принимать срочные меры.
Мне поручено сделать в декабре 7 полос: переделать три «конституционных» в «выборные» и дать еще четыре: УССР, БССР, Киргизию и Таджикистан. Заказал. Все делаются собкорами, только в Сталинабад решил послать Толкунова.
13 декабря.
Сегодня утром разбудила мама: пошла на рынок, и у нее стащили разом: пенсионную книжку, пропуск в Кремлевку, хлебную карточку, станд. справку, паспорт, деньги, записную книжку и т. д. Она убита.
Все дико жалуются на безденежье. Цены на рынке резко полезли вверх. Мясо – 100 рублей кг. Хлеба не продают почти совсем. Парикмахеры нашей мастерской жалуются на отсутствие клиентов.
Холодно. Уже несколько дней 20–25 мороза. Два дня назад выпустили Валерку из больницы. Пробыл он там по поводу желтухи с 15 ноября по 10 декабря. Поправился, выглядит отлично. В доме сразу стало веселее.
Говорил с Заславским. Он назначен нач. кафедры журналистики ВПШ. Поспелов как-то сказал, что хорошо бы мне специализироваться при этой кафедре. Заславский – «за». Он считает, что можно мне: а) читать лекции по журналистике для слушателей газетного отделения ВПШ, б) вести семинар, с)написать учебник по информации, д) в дальнейшем – защитить диссертацию.
1947 год
12 января.
Надо записать. 26 декабря мы были в Музее Изобразительных искусств им. Пушкина. Смотрели картины бывш. Дрезденской галереи. Они еще не открыты для общего обозрения, но разговорами о них полна вся Москва уже давно.
Ход через библиотеку. Два зала наверху – один небольшой, второй побольше. Картины висят вплотную. По чести говоря, если бы не знать заранее, что это картины Дрезденские, то, за исключением нескольких полотне, мы не отличили бы их от основного собрания музея. Как раз пару месяцев назад я был на открытии музея – послевоенном – и тогда был просто подавлен его богатством.
Три картины и произвели сейчас на меня наибольшее впечатление. «Портрет старика» Рембрандта – он может сниться, а его глаза все время в памяти, как нарисованные перед тобой. «Спящая женщина» – французского художника, имени которого не запомнил – одновременно вызывающая и светлое восхищение, и желание лечь рядом. И, наконец, «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Недаром о ней столько говорили и говорят. Она висит на стене малого зала среди других картин и открывается неожиданно и неправдоподобно. Неужели это она и есть. Ибо, ждешь ее одну, а не в сообществе живописи.
Сначала я не заметил ничего особенного. В глаза только бросилась ее необычная простота и ясность. Потом я почувствовал желание постоять около, потом посидеть. И смотреть, смотреть. Нам попался очень толковый гид Ротенберг. Он раскрыл нам художественные особенности картины, и она начала доходить до нас вся. Так же, как Белинский в 1848 г, мы начали видеть, что Иисус на руках – не младенец, а будущий властелин. И образ мадонны, держащей в руках не сына, а будущее мира, осветленной провидением исторической роли сына.
В нашей группе были Заславский, Кононенко, Курганов, Полевой, Лукин, Гершберг и др. Полевой вспомнил, как увозили эту картину из-под Дрездена. Директор музея Меркуров рассказывает, что все эти картины найдены в горах, спрятанные немцами, и являются военными трофеями. За «Мадонной» из Москвы прислали специалиста. Стал вопрос транспортировки. Командир фронта Конев дал свой самолет. Специалист отказался:
– А если он разобьется?
– Это мой личный самолет, – сказал Конев. – Я, маршал, летаю на нем и не боюсь, что разобьется.
– То – маршал, а то – мадонна! – ответил тот.
Окончив осмотр картин, мы поднялись в зал скульптуры. Там всеобщее внимание привлекла полуразрушенная фигурка Гулящей античной девки (мрамор), полная динамики, экспрессии, и потрясающего мастерства исполнения. А вся она – с пол-аршина!
На выходных встретились с директором музея скульптором Сергеем Дмитриевичем Меркуровым. Широкий, черный, чернобородый, энергичный, шумный, умный, любящий себя показать, с нарочито грубоватой. и двусмысленной речью. Ему за 60, но проворен юношески. Обожает анекдоты, острые словечки, остроты. Острит непрерывно.
Он заявил, что узнав о посещении правдистов, решил им сам все показать. И потащил нас знакомиться с фондами музея. То, что я когда-то собирался писать «В подвалах такого-то музея». Мы не пожалели.
Меркуров спросил, как нам понравилась «Мадонна», и рассказал по этому поводу две занятные истории.
1. Один художник, посмотрев Мадонну, вернулся домой и изрезал в куски свою картину. Меркуров рассказал об этом Ворошилову. Тот рассмеялся и заметил: «А из него толк выйдет!».
– Это был молодой художник? – спросил я.
– Конечно, молодой. – ответил Меркуров. – Старые считают, что это Рафаэль должен резать картину.
2. Показывал Меркуров Мадонну одному хозяйственнику. Тот спросил: «Сколько она стоит?». Меркуров ответил, что оценить трудно, но, во всяком случае, многие десятки миллионов долларов. Хозяйственник долго смотрел картину, подошел, пощупал и недоумевающе сказал: «А с виду – обыкновенное полотно».
По сему поводу Меркуров заметил:
– Он не знал, что на рояли играют и «Чижика» и «Кампанеллу».
Вообще же к собранию Меркуров относится с величайшей почтительностью, хотя заявляет, что в живописи ничего не понимает, но сознается:
– Если бы я видел все это 47 лет назад – я бы заново учился. Или хоть бы сейчас мне было бы 30 лет!
Он мучится, что музей тесен, грезит о новом помещении, говорит, что добивается в ЦК расширения за счет ИМЭЛа:
– Перефразируя известное материалистическое положение, я могу сказать, Что у нас количество заедает качество.
Фонды музея действительно грандиозны. Мы видели сложенные штабелями, как дрова, папки с подлинниками рисунков виднейших художников Запада и Востока (а их в музее десятки тысяч), гигантскую коллекцию фарфора в подвали – навалом (Меркуров не удержался и сострил: «Одна генеральша спрашивает: а где же тут сервизы?») – и впечатление действительно не музея, а магазина посуды Кузнецова и K° (по словам Меркурова), смотрели чудесные ткани Египта, золотые изделия Тибета. Куда все это ставить?
Рассказывал он, кстати, занятную историю из молодости, которую можно использовать в рассказе:
Сидел он с приятелем в кафе. Тот пьян в дым. Вдруг входят и садятся напротив два человека – вылитые близнецы. Меркуров решил воспользоваться этим, чтобы уговорить приятеля больше не пить.
– Хватит тебе, ты пьян.
– Кто? Я? Ничуть!
– Ну я тебе докажу. Сколько сидит человек напротив?
Тот посмотрел.
– Конечно, один!
Концовка сцены была очень комичной.
31 января.
Уже несколько дней (с 29-го) у нас идет партийное собрание, посвященное вопросу об идеологической работе партии. Докладывал редактор отдела пропаганды генерал-майор Д.Т. Шепилов. В своем докладе он обрисовал значение идейного фронта, исключительное внимание, которое партия в последнее время уделяет этим делам. Он провел целую цепь последних решений по этому вопросу, начиная от постановлений по «Звезде» и кончая решением об открытии Академии общественных наук и ВПШ.
Коротко сказал он о философской дискуссии. По его словам, основные указания Хозяина по книге Александрова «История западноевропейской философии» сводится к следующему:
объективистский книжный подход к изложению философских систем.
изложение идей дается в аполитическом духе.
не вскрыта до конца реакционная сущность немецкой философии конца 19 века.
не показана ярко разница между боевой революционной марксистской философией и разными теоретическими течениями.
Выступая в прениях, Рабинович (из «Большевика») привела еще одно замечание: книга – это галерея портретов философов без марксистской оценки их мировоззрения.
Сказал Шепилов и о том, что сейчас выходит краткая биография Сталина, и вскоре – Ленина, и привел при этом высказывание (без ссылки на автора), что издание биографий великих людей имеет очень большое значение, т. к. знакомит самые широкие круги с их жизнью и деятельностью, а через жизненные факты – с нашей программой, борьбой и ее историей, тем самым подготавливает их к изучению «Краткого курса» и Сочинений.
Собрание идет уже два дня и будет продолжаться завтра. Идет оно довольно активно.
Интересным было выступление Хавинсона, рассказавшего о современных социологических школах и воззрения США.
7 февраля.
Сегодня закончилось партийное собрание. Всего заседали четыре дня на протяжении двух недель. С большой речью сегодня выступил Поспелов.
Он сказал, что указания по книге Александрова имеют важнейшее теоретическое значение, и более подробно, чем остальные, изложил их, подчеркнув, что ЛИЧНО присутствовал при беседе у Хозяина.
Важнейший недостаток книги – изложение философских систем оторвано от истории, экономики, политической борьбы того времени. В результате она приобрела характер аполитичный.
Изложение различных философских систем дается в духе объективного изложения, пересказа. Не показаны их подосновы, классовые основы той или иной системы. В книге не объяснено, например, почему особенного развития достигли философские воззрения в Греции. А дело заключается в том, что в Греции был расцвет культуры, греки много ездили по миру, и к ним много ездили, торговые связи выходили далеко за пределы страны. Здесь имеется некоторая аналогия с эпохой Возрождения в Италии. Греки много видели, сравнивали и делали попытки объяснить явления мира.
Особенно подробно Хозяин останавливался на критике немецкой идеалистической философии. Главная критика в книге должна была идти с точки зрения направленности всей философии Гегеля, а этого нет. А ведь Гегель был напуган французской революцией и поэтому пытался создать стройную философскую систему, которая оправдывала бы существовавший в Пруссии порядок и тянула назад от идей французской революции.
Хозяин подчеркнул, что неправильно называть Гегеля просто консерватором. Если правильно оценить тогдашнее положение, что надо сказать, что он тянул человечество назад, все, что угодно – только не идти по стопам французских материалистов, создать систему, которая опрокинула бы идеи французской буржуазной революции.
Хозяин говорил о значении идеологии марксизма, как символа веры, как жизненной основы нашего мировоззрения, и со всей силой подчеркивал, что Маркс и Энгельс – не догматики, а живые вожди живого учения, и этого никогда нельзя забывать. Правда, Маркс использовал некоторые положения Гегеля, но Гегель писал очень противоречиво, сам себе противоречил, и Маркс воспользовался этими противоречиями.
Особенно важно не допускать аполитичность в научных статьях. В них должна быть боевая политическая направленность. Важнейшей задачей Хозяин поставил – будить сознание у советских людей, воспитывать любовь к партии, которая бессмертна.
В заключение беседы Хозяин подчеркнул, что книга интересная, и что никто из философов такой книги не написал, т. е. исправить ее можно. В книге нет боевого политического духа и надо основательно поработать, чтобы переработать ее по-настоящему.
11 февраля.
Ну, кажется, в основном закончили избирательную компанию. Я делал номер на 9-ое, 9-го парились с материалом до 8 ч. утра, вчера я сидел до 7. Пора возвращаться в свой отдел, а то там дела совсем развалились.
Компанию, как будто, провели неплохо. Сегодня у нас крутили кино («Глинка»), я сидел рядом с Поспеловым, и он выражал мне свое большое удовлетворение.
Я совершенно измучился за эти три выборных месяца, похудел, щеки впали до языка, нарушился сон – ложусь и ворочаюсь по несколько часов.
24 февраля.
Дня три назад был в ВОКСе на очередном приеме. На этот раз – Ливанской и Сирийской делегаций культурных связей с СССР.
Встретил там Ботвинника – как всегда подтянутого, светского, уверенного, с насмешливым блеском очков, в обычном темно-сером костюме. Он был один, жена танцевала в спектакле, в Большом, он нетвердо назвал постановку.
Сейчас в Ленинграде идет очередной чемпионат на первенство СССР. Участвуют все крупнейшие шахматисты, кроме Ботвинника. Турнир начался 1 февраля. Так как его отсутствие вызвало большое недоумение, я посоветовал тогда Ботвиннику официально выступить в печати. Он дал нам беседу, в которой сослался на то, что он занялся своей докторской диссертацией о синхронных системах (он – электрик). Попутно он оценивал шансы участников, считал претендентами Кереса, Смыслова, Болеславского, Бронштейна. Беседу мы дали числа 3-го.
Мы встретились с ним в ВОКСе, в банкетном зале, и разговорились. Принял участие в беседе и комендант Москвы – генерал-майор Козьма Романович Синило в – грузный представительный мужчина, ярый болельщик спорта и – особенно шахмат.
– Ну как вы оцениваете турнир? – спросил я.
– Все идет так, как предсказывала «Правда», – улыбнулся Ботвинник. Впереди Керес, Смыслов и Болеславский, вплотную за ними – Бронштейн.
– А кто возьмет? – вмешался Синилов.
– Сейчас Керес оторвался на полочка (это было после 10-го тура – ЛБ). Впереди еще очень много испытаний. Если бы Керес за время с 1940 года играл в крупном чемпионате, он бы несомненно взял первое место. А сейчас может и не вытянуть. Но шансы у него очень значительны.
– Не хотелось бы видеть его в короне чемпионата, – сказал комендант.
– Я знаю, что вы имеете в виду, – засмеялся Ботвинник. – Но не забудьте, что когда Красная Армия приближалась к Эстонии, он был в Норвегии (или в Швеции? – ЛБ), мог там остаться, но вернулся. Он любит своих двух детей, любит свою Эстонию. Правда, он, кажется, предпочел бы, чтобы она не была советской, но это он него не зависело.
– А как вы считаете шансы Болеславского? – спросил я.
– Очень высокими. Мы все недооцениваем его. Это очень крупный шахматист. Через десять лет он будет играть еще лучше.
– Чем объясняется странный миролюбивый старт Бронштейна? – продолжал я пытать. – Он с маху сделал шесть ничьих.
– Во-первых, он почему-то решил попробовать себя в позиционной игре, хотя всем ясно, что это – не его стихия. Во-вторых, – тонко заметил иронический собеседник, – он женился. Так что причину надо спросить у Игнатьевой.
– У кого?
– У Игнатьевой. Это его жена, шахматистка. Заняла, кажется, четвертое место в женском чемпионате. Она стала играть немного лучше, он немного хуже. Так и должно было получиться, иначе пришлось бы опровергнуть закон сохранения энергии.
Мы посмеялись.
– Что слышно с чемпионатом мира? – спросил я.
– Я махнул на это рукой. Вы помните, при вас же, здесь, в этом зале, осенью, мы бились с Эйве, еле-еле уломали его играть не весь матч в Голландии, а половину в Москве. Эйве знает, что он хорошо играет только в Голландии, кроме того, для него это дело коммерции. Недавно они прислали два приглашения, чтобы официально все закрепить. Ваш милый Романов (председатель комитета по делам физкультуры и спорта)…
– Последний из династии Романовых? – перебил генерал.
– … ответил, что матч должен играться в Москве. А это значит, что он не будет играться тут вообще, и его выиграют без нас. Напрасно думать, что они заинтересованы в нашем участии. Они знают, Что без нас кто-нибудь из троих – Эйве, Файн или Решевский – будет чемпионом мира. А если будут участвовать трое наших – тут всякое может получиться. Но вот пойди, докажи. Я уже всюду писал и махнул рукой. Что мне – больше всех надо, что ли?
– А если мы сейчас упустим эту возможность?
– Сейчас мы можем автоматически, по уговору, послать трех: Ботвинника, Кереса и Смыслова. А дальше – надо лезть в угольное ушко. По утвержденным правилам следующий раз можно оспаривать звание чемпиона мира в 1949 году. Но для этого претендент должен занять первое место в международном турнире, затем сыграть в отборочном турнире претендентов, и только тогда допускается.
– А не чешутся у вас сейчас руки на ленинградский турнир? – спросил я.
– Очень чешутся, – просто ответил он.
– Не кажется ли вам, что Смыслов незакономерно проиграл Кересу? спросил генерал.
– Очень закономерно, – живо ответил Ботвинник. – Он был убежден, что он черными проиграет, и блестяще реализовал свои убеждения. Я это увидел еще накануне, когда Вася в партии с Левенфишем (кажется – ЛБ) имел лишнюю пешку и хорошую позицию, но не смог ничего сделать. Он уже накануне думал о завтрашней партии с Кересом, считал, что проиграет ее, и поэтому не смог довести и партию с Левенфишем. Это же совершенно ясно. Надо знать Васю. Я, помню, играл с ним одну очень важную для него партию. Долго думал над длинным вариантом, а когда сделал ход, то увидел, что он вторым ходом может опровергнуть все задуманное. Но Вася верил в меня. Он видел, конечно, этот ход, но полагал, что я не мог ошибиться, поэтому не сделал этого хода, пошел так, как я вначале рассчитывал, – и проиграл партию.
Вскоре меня остановил Романов. Он был навеселе, и весьма сильно, лицо его обрюзгло, но, как обычно, он был очень самоуверенный и чуть снисходительный.
– Что вы к нам не заходите? – спросил он.
– А что у вас делать? Рекордов нет, успехов у вас мало. ЦК вас не слушал еще?
– Нет, и – видимо – не будет. Готовится постановление Совета Министров, материально-техническое. Может, дадите тогда передовую?
– Ладно, напишу.
– Остро ставим вопрос о профсоюзных обществах, должно решиться.
– А как с розыгрышем первенства мира по шахматам?
– Будем участвовать, – без запинки ответил Романов. – Они не хотят играть в Москве, а мы настаиваем на своем. Вот в июне будет конгресс ФИДЕ, мы решили войти в эту международную организацию. И тогда внутри ее и решим этот вопрос.
– А где еще будем участвовать?
– Да вот скоро должно разыгрываться первенство Европы по боксу. Королев мне житья не дает – устрой ему встречу с Джо Луисом на звание чемпиона мира. Он до известной степени прав. У нас ему драться не с кем. И первенство Европы он сможет выиграть. Вот осенью во время поездки в Чехословакию и Польшу он встретился с четырьмя чемпионами – бывшими чемпионами Европы – и всех нокаутировал в первом же раунде.
К нам подошел Арам Хачатурян, композитор. Высокий, с гордым красивым лицом, высоким лбом, густыми черными волосами с блестками седины. Отличный черный костюм, три значка – золотом – лауреата Сталинской премии.
– Наши женщины-артистки только что высказывали зависть с спортсменам, шутливо обратился он ко мне. – Наша пресса не только пишет только о спортсменах, а не об искусстве, но и беседует только со спортсменами.
Я сказал ему, что накануне ночью слушал концерт из его произведений для зарубежных радиослушателей.
– У меня нет приемника, – ответил он, – и я только расстраиваюсь от таких сообщений.
– Над чем вы работаете?
– Пишу сейчас торжественную вещь – вроде победы, торжества. Не знаю, что получится, и как ее будут играть. Я там даю очень сложную инструментовку. Даже не знаю, как оркестр справится. Только что приехал из Армении, как там хорошо!
Мы разговорились о наших армянских друзьях – Вагаршяне, Григоряне, Демирчане. Он сказал, что сейчас на сцене драм. театра поставлена новая хорошая пьеса Демирчана, а Вагаршян там отлично играет сравнительно любопытную роль.
– Но он же пьет вино вечной молодости, – засмеялся я.
– Да, из Вагаршапата, древнего города. Знаете, после этих вин – здешнее кахетинское просто безвкусный квас, как «Чижик» после Вагнера, – ответил он.
Избирательная группа, слава Богу, закончила свою работу, и я вернулся в отдел. Устал предельно. Похудел, осунулся, мучает бессонница. Был у врача вроде, все в норме, надавал всяких пилюль. Надо будет съездить за ними в аптеку.
20-го открылась Сессия ВС СССР. Выходим на 6 полосах. Сидим до утра. Написал передовую о Дне Красной Армии.
Позавчера позвонил Кокки. Сказал, что увлекся фотографией, снимает днем и ночью. «Дошла бацилла до печенок». Предложил через недельку смотаться с ним на неделю в Среднюю Азию. Маршрут: Баку – Ашхабад – Самарканд – Хива Бухара – Ташкент – Москва. На «Ил-14», пассажирский, двухмоторный.
17 марта.
Что-то забыл даже, что надо записывать.
Во-первых, 10 марта открылась Московская Сессия Совета Министров иностранных дел. Даем ежедневно по полосе. Пока большой драки не чувствуется.
Три дня назад выступил президент США Трумэн с пакостной речью. Гольденберг о ней сказал: «Раньше, после такой речи, отзывали посла и объявляли войну». Как мы ответили – пока не ясно. Дали на следующий день передовую в «Известиях», потом – у нас.
Было 30 лет «Известий». Прошло тихо, несмотря на ожидания известинцев.
У нас особых новостей нет. Места нам дают с гулькин нос. Вопим, но не помогает. Принято решение ЦК (по инициативе Хозяина) о значительном расширении номенклатуры. У нас раньше утверждались только члены редколлегии. Сейчас будут зав. отделами, первые замы редакторов и замы отв. секретаря. Послали характеристики.
Подал заявление в Союз Писателей.
У нас идет сокращение штата. Надо поджать на 60–70 человек. Сократили фотографов Лагранжа и Кунова, лаборантов Шмакова и Шаталову, у меня Джигана, корреспондентов Воронова (Ленинград), Ляхта (Харьков), Власова (Тула), Кучина (Сталинабад), Дубильера (Ижевск), и др., писателей, которые только числились – Брагина, Горбатова, Хубова, Баяджиева, Первомайского и др. Это лишь начало.
Да, надо записать. 23 февраля был у нас вечер Кр. Армии. Должен был выступать маршал бронетанковых войск Рыбалко. Встретил меня секретарь партбюро Креславский.
– Пойдем тащить Рыбалко. Не хочет выступать.
Зашли в кабинет Поспелова. Маршал там. Сидит за столом, рядом Брагин, Яхлаков и член партбюро Рабинович. Поздоровались. Маршал – низкий, толстый, заплывшее квадратное лицо и очень маленькие, но очень умные глаза. Крупные черты лица. Протестует.
– Нет, не пойду. Я думал, что надо выступать перед работниками типографии и поэтому согласился. А перед работниками редакции – не буду. Обманули (к Рабинович).
Она извивалась.
– Нет, не буду. Ну о чем я буду говорить? Моя главная обязанность молчать. Я за это деньги получаю.
– Вы можете молчать целый год, – сказал я, – но сегодня смеете право на речь.
– Не буду, – упрямо повторял он. – Не о чем говорить. Ведь эти люди сами доклады делают и статьи пишут.
– Ну ладно, – сказал Брагин. – Давайте я буду рассказывать о ваших делах, а вы будете меня поправлять. И Бронтман тоже.
Маршал скосил глаза в мою сторону.
– Да, – подтвердил я. – Я расскажу о вашей операции на Переяславском плацдарме, и как вы потом перебросились под Киев – на Вышгород.
– Уже неправильно, – быстро сказал маршал. – Я не перебросился, а форсировал Днепр.
– Ну вот видите, уже у меня ошибка. А я собирался рассказывать так, как писал, – шутливо сказал я.
– Тогда идемте, – засмеялся Рыбалко, и все пошли в зал.
20 марта.
Вчера позвонил мне Георгий Алексеевич Ушаков и сказал, что он едет заместителем начальника экспедиции по наблюдению солнечного затмения в Бразилию. Хотел бы написать нам оттуда пару очерков – надо ли? Я поговорил с Сиволобовым, Викторовым. Надо. Попросил его приехать, поговорить.
Сегодня он приехал. Потолстел, чудно выглядит. Яша Гольденберг взглянул на него:
– Да вы настоящий бразилианец!
Затмение состоится 20 мая. Наблюдать его будут с плоскогорья, отстоящего от Рио-де-Жанейро в 400–500 км. Состав экспедиции 32 человека. Маршрут – поездом до Либавы, там погрузка на пароход и прямиком в Рио. Начальник экспедиции – членкор Академии Наук Михайлов.
Яша рассказывал о положении в Бразилии, об интересующих нас вопросах, в частности, просил осветить тему о проникновении американского влияния и капитала в Бразилию.
– Уже могу ответить, – засмеялся Ушаков. – Американцы посылают туда экспедицию из 200 человек. Я убежден, что во всех штатах не наберется столько астрономов. Наверняка 9/10 из них звездочеты в чине майора.
Посмеялись.
– А сколько продлится затмение? – спросил я.
– Полное? Четыре минуты и сколько-то секунд.
– Сколько продлится экспедиция?
– Туда месяц, там – полтора, обратно месяц.
– Недурно, – заметил я. – Три с половиной месяца для того, чтобы пять минут посмотреть в закопченное стеклышко. Георгий Алексеевич, я тоже хочу получить протуберанец!
Потом мы сидели у меня и он рассказывал о планах своей тихоокеанской экспедиции. Он мне уже не раз вскользь говорил о ней и раньше. С полгода назад на похоронах Белоусова и он, и Ширшов, и Бочаров усиленно звали меня принять в ней участие. Сегодня он подробно рассказал о ней. Он идет начальником экспедиции, Веня Бочаров – заместителем по научной части. Мы взяли атлас мира и смотрели по нему.
– Маршрут?
– Ленинград – Панама. Оттуда – Тихий океан, где и начинается вся колбаса. Делаем несколько разрезов от 5о до Калифорнии – зигзагами. Доходим до меридиана Гавайских островов, оттуда – на Гавайи и на Алеутские острова, затем – длинный разрез от Алеутских островов до кромки Антарктических льдов (примерно, до 60о Ю.Ш.), затем вверх, снова зигзаги около экватора до Филиппинской впадины.
– Время?
– 12–14 месяцев. Это – первый этап. Затем два следующих – это изучение треугольников: Гавайи – Алеуты – Калифорния и Гавайи – Филиппины – Алеуты.
– Судно?
– Уже есть. Их трофейных. Чудный корабль, красивый, и капитанская рубка в фальшивой трубе. Сейчас он специально оборудуется и переоборудуется. Водоизмещение около 5 тыс. тонн, грузоподъемность – 2200–2300 тн. Удлиняем надпалубные постройки, ставим стрелы, лебедки и т. д. Будет эхолот, радар и все, что полагается.
– Как поведет себя на волне?
– Поезжай, увидишь.
– Стоянки?
– Каждый месяц – заход в порт за водой, углем, продуктами.
– Программа?
– Полный комплекс. Вся океанология – течения, особенно экваториальное (они, говорят, идут вдоль экватора, слева и справа, мощные, со скоростью до 4 миль, а посередине – в обратную сторону), изучение воды, глубины, грунт, бентос, рыбы, планктон, земной магнетизм и проч.
– Зачем это нужно?
– Для развития науки.
– Ага, сокровищница?
– Вот именно – наш вклад в нее. До сих пор в таком масштабе никто Тихого океана не изучал. Были частные экспедиции у берегов Японии, Калифорнии, Южной Америки. Но такого комплекса никто не поднимал. Наиболее близкая по масштабу – это русская экспедиция на «Витязе».
– Состав?
– 70 ученых и 60 команды.
– Радисты?
– Подбирает команду МорФлот.
– Возьми полярных!
– Ты прав. Надо будет подумать. Найти Гиршевича и других.
– Газета будет?
– Обязательно.
– Правительство разрешило?
– Есть постановление Совнаркома за подписью Берия: разрешить тихоокеанскую экспедицию в 1946 году.
– Стоимость?
– Шесть миллионов рублей плюс 300 000 долларов.
– Когда?
– Думаем в августе-сентябре.
Я подсказывать ему не форсировать этого дела. Подождать нового урожая. если урожай будет хорошим – разрешат. Если сунется сейчас…. Он согласился.
– Ну как? – спросил он меня под конец.
– Занятно.
– Да, знаешь, на земном шаре осталось только несколько таких маршрутов для настоящих бродя вроде нас, – сказал он убежденно. – Едем, не пожалеешь!
Вчера закрыли журнал «Спутник агитатора». Он ухитрился весь последний номер забить официальным материалом, уже давно опубликованным в газетах. Хозяин написал на нем: «Это сборник официальных материалов, а не журнал». Обсудили на оргбюро и закрыли.
Сегодня шел дождь. Все развезло. А снега – ужас, зима была бесконечно снегопадная. Сугробы всюду до крыш. И дождь!
21 марта.
Тихий день. Уже почти неделю отдел не получает ни строчки. Я говорю, что мы превратились в общественную организацию, типа МОПРа или «Друга детей». Все сочувствуют, но места нет. Вся газета занята Советом Министров иностранных дел, откликами на решения Пленума ЦК о сельском хозяйстве. Вчера опубликовали Указ о Героях сельского хозяйства и Указ о награждении орденами передовиков сельского хозяйства. Об орденах дали начало и, по обычаю, сегодня продолжения не дали, думали сойдет. Однако, позвонили из ЦК, сказали, что Указ имеет очень важное значение и предложили напечатать полностью. На завтра даем на 4 колонки на первой полосе.
Сегодня было заседание редколлегии. Обсуждали планы сельхозотдела, партийного и экономического в связи с решением Пленума. Утвердили.
Утвердили характеристики на номенклатурных работников для представления в ЦК на утверждение в должностях, в т. ч. и на меня. Назначили Азизяна зам. редактора пропаганды, а Креславского – зам. редактора партотдела.
На улице – дождь и снежные лужи. Тепло.
22 марта.
Сегодня утром позвонил мне домой Водопьянов.
– Поздравляю!
– С чем? – недоумевая, спросил я.
– 10 лет назад я повез тебя на полюс.
И верно. Я сразу вспомнил. Такое же хмурое, облачное утро. Оттепель. Лужи на аэродроме. Долгий спор – с 6 ч. утра до полудня – на чем вылетать: на лыжах или колесах. Улетели на колесах.
– Что ты в это время делал? – спросил Михаил.
– Блевал, – ответил я чистосердечно.
– Правильно, – подтвердил он, – сейчас 2 часа дня – в это время мы болтались в воздухе. Я хочу написать статью к 21 мая – ко дня посадки на полюс.
– Хорошо, поговорю. Я – за. Как поживает твой бильярд на даче?
– У, вспомнил! Давно продал и деньги уже проел. Вот хуже, что наша экспедиция на полюс недоступности лопнула. Надо что-то выдумывать – ты бы посоветовал.
Я решил позвонить участникам экспедиции и поздравить их. Занятно записать, что делает сейчас, спустя 10 лет каждый из них.
Позвонил Шмидту. Женский голос попросил позвонить спустя полчаса, т. к. у него сидит врач. Последние два года он был очень болен – обострения туберкулеза, врачи считали его уже приговоренным, тем более, что начался процесс в горле. Но на зло медицине он выжил. Врачи рассказывали мне, что изобретатель стрептомицина американский (он же одесский) химик Ваксман, который прошлой осенью приезжал в СССР по приглашению Академии Наук с докладами, привез О.Ю. в подарок порцию стрептомицина, и она подействовала изумительно. Тем временем Шмидт разработал математическую теорию происхождения вселенной, которая, по словам С.Вавилова, вызвала исключительный резонанс среди ученых мира и получила общее признание в Европе и Америке.