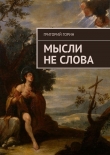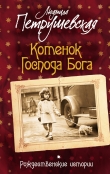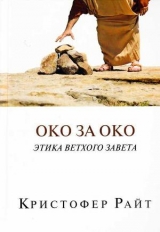
Текст книги "ОКО ЗА ОКО Этика Ветхого Завета"
Автор книги: Кристофер Райт
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 46 страниц)
Ветхозаветные писания претендуют на статус откровения. Конечно, с этим можно и не согласиться. Можно сказать, как это делает Сирил Родд (и многие другие до него), что даже если есть Бог, то Ветхий Завет никак нельзя назвать откровением этого Бога. Или же можно вообще отвергнуть существование Бога, и тогда вопрос об откровении отпадает сам по себе. Тем не менее, для христиан авторитет Ветхого Завета, несомненно, связан с реальностью этого слова от Бога. Мы исповедуем, что в этих текстах реальный Бог реально говорил и продолжает говорить, а реальность личности Бога и слова Божьего составляет авторитет, дарующий свободу и устанавливающий границы, как это с поразительной простотой иллюстрирует первая история встречи Бога с человеком (Быт. 2–3).
Откровение находится в центре веры Израиля:
Тебе дано видеть это… чтобы ты знал…
(Втор. 4, 32–40)
О, человек! сказано тебе, что – добро.
(Mux. 6, 8)
Он возвестил слово Свое Иакову,
уставы Свои и суды Свои Израилю.
Не сделал Он того никакому другому народу.
(Пс. 147, 8–9)
Не тайно Я говорил, не в темном месте земли;
не говорил Я племени Иакова: «напрасно ищете Меня».
Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину.
(Ис. 45, 19)
Самая сердцевина веры, исповеданной Израилем, обращена к их ушам (резкая противоположность их глазам – «не видели вы никакого образа») как то, что следует слушать и на что обращать внимание: раскрытие реальности, одновременно пропозициональной и межличностной: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь один; и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всею крепостью твоею» (Втор. 6, 4–5; перевод автора).
Этот последний текст, хотя и не имеет параллелей, является одним из многих, которые, на мой взгляд, выбивают опору из–под странной идеи, что откровение в Библии личное, но не пропозициональное (подтекст таков, что пропозиции являются холодными и абстрактными, и в меньшей степени – личными или межличностными, что всегда казалось мне весьма нелогичным ввиду достаточно межличностного употребления слова «заявлять» [propose]). Сложно представить себе более пропозициональную форму высказывания, чем Втор. 6, 4, хотя контекст предлагает и других кандидатов (Втор. 4, 39, например, или Втор. 7, 9, или удостоверение личности Господа в Исх. 34, 6–7). Разве псалмы не изобилуют утверждениями откровения, вроде «Господня земля, и все, что наполняет ее» (Пс. 23, 1)? Да и книги пророков значительно оскудели бы, удали из них пропозициональные откровения реальности Господа. Нет, в Ветхом Завете мы слышим слово, которое провозглашает, утверждает, заявляет и постулирует в однозначных понятиях. Но как ясно дает понять плавный ход Втор. 6, 4–5, раскрытие реальности непосредственно обосновывает авторитет, в рамках которого могут процветать отношения и этика: «Господь есть… и люби…». Не существует дихотомии между заявлением и откликом. Это же справедливо в отношении частого повторения простого утверждения «Я Господь» в заповедях Лев. 17 – 26. Банальное наблюдение, что Божье откровение обычно является одновременно и изъявительным, и повелительным, не является менее истинным по причине своей банальности. Это не тот случай, где речь идет «скорее ораскрытой реальности, чемраскрытой моральности», но о раскрытой реальности, которая по своей природесодержит в себе раскрытую межличностную мораль.
Теперь эта знакомая комбинация приводит нас к заветномухарактеру отношений Израиля с Богом и их авторитетности. Как мы видели раньше, идея авторитетного откровения чаще всего связывается (теми, кому это не очень нравится) с прямыми повелениями Бога. И тогда эта комбинация «откровение—повеление—послушание» часто переводится в низшую разновидность этики, которая называется специальным термином «гетерономия» (послушание закону другого; например, внешнему источнику авторитета). Слова вроде «произвольный», похоже, так и выплывают из подсознания и объединяются с «повелениями», так же как слово «слепой» столь часто ставится рядом с «послушанием». Или, в другой группе участников дискурса, среди запретных слов встречаются «внешний», «своды законов» и «законничество». В противовес столь унизительному окрашиванию всего лексикона заповеди и послушания нам следует противопоставить заветную динамику ветхозаветной веры и этики. [408]408
См. также размышления по этому поводу в Richard J. Mouw, 'Command for Grown–Ups'.
[Закрыть]
Сущность заветных отношений, отображенная в текстах Ветхого Завета, состоит в том, что они очевидно межличностные, а не механические, произвольные или слепые. Этот Бог действовал в этой истории ради блага этого народа. Отношения в целом основываются на постоянно утверждаемой реальности любви Господа, верности своим обетованиям, искупительной силе, милостивом терпении, провидении и защите. Утверждаемое на подобных реалиях, послушание Израиля заключается в рамки ответа любви, благодарности, хвалы и продолжающегося благословения. Израильтянин должен был чувствовать так: «Я делаю то, что хочет Яхве, потому что я также хочу этого больше всего. Наши отношения делают подобные решения и поведение естественным и радостным». По крайней мере, такова идеальная надежда завета. Более того, поскольку, как мы видели, авторитет – это одновременно источник и рамки свободы, послушание Божьему закону считается исполнением, удовлетворением, удовольствием и, на самом деле, признаком личной свободы:
буду ходить свободно,
ибо я взыскал повелений Твоих;
(Пс. 118, 45; ср. Пс. 1 и 18)
Заветное послушание во взаимоотношениях такому Богу является просто путем к жизни и повседневному существованию (Втор. 30, 11–20).
Более того, межличностный характер послушания Израиля означает, что оно далеко неслепое. Во–первых, в самом законе часто приводятся побудительные призывы, делающие послушание привлекательным. Согласуясь с моим определением авторитета, эти придаточные предложения обычно указывают на некую реальность(Бога, например, или истории, или жизни на земле) и затем заявляют: «Поскольку это так, вот авторитет, на основании которого вам сказано делать или не делать это». По сути, повествовательный костяк Торы (с ее ориентацией на прошлое и будущее) выдвигает следующий неявный пункт: авторитет всего этого закона покоится на реальности этого Бога и этой истории. И, во–вторых, послушание Израиля не является слепым, потому что оно на самом деле представлено как согласие,по крайней мере, по замыслу. В нескольких отрывках Израиль представлен как принимающий свободный, осмысленный и намеренный выбор подчиниться Богу как Господу завета, даже иногда перед лицом скептических отговорок (Исх. 24, 7; Втор. 5, 27–29; 26, 17; Нав. 24, 14–24). Другими словами, авторитет Господа – это авторитет, который был свободно избран Израилем и которому он добровольно подчинился, и это не слепое или рабское послушание произвольным повелениям. Зная свершившуюся историю, обещание Израиля повиноваться Господу могло быть оптимистическим (а наше не таково?), но оно точно не было слепым, по принуждению, или произвольным.
Мне кажется, это отвечает на категорическое утверждение Сирила Родда (Cyril Rodd) о том, что послушание авторитету не только является неадекватным основанием для этики, но, по сути, невозможно. Человек подчиняется авторитету исключительно добровольно (если только, конечно, авторитет не принимает формы принуждения, что в любом случае является этическим банкротством; и, следовательно, принудительное послушание высшей силе не является добровольным послушанием принятому авторитету). Но, судя по всему, Родд считает, что когда вы решаете подчиниться авторитету, ваш акт выбора учреждает ваш реальный авторитет, или, скорее, на деле ставит вас выше авторитета, которому вы подчиняетесь. Вы становитесь собственным авторитетом, когда избираете повиновение внешнему авторитету:
Я твердо убежден, что для мыслящих человеческих существ невозможен никакой внешний авторитет. Сколько бы они ни заявляли и ни верили, что подчиняются такому авторитету, в конечном итоге они сами принимают решение принять его как авторитет. Они выбирают, несмотря на внутренние нормы и ценности, приходящие из той культуры, в которой они воспитаны и которые повлияли на их решение. В конечном счете, мое собственное решение должно быть для меня решительным… Не может быть внешнего авторитета по отношению ко мне, только власть, которая навязывает себя мне. [409]409
Rodd, Glimpses,p. 325.
[Закрыть]
Последнее предложение показывает весь солипсизм этики Рода: единственный авторитет для меня – это я сам.
Но я думаю, что ключ к ошибке в слове «мыслящий». Похоже, что первое предложение подразумевает, что индивидуальная рациональная человеческая личность является высшим авторитетом, что соответствует классическому представлению эпохи Просвещения. Здесь человеческий разум – обыкновенная способность, благодаря которой мы признаем и соглашаемся с авторитетом, – ошибочно считается источником этого авторитета, что на самом деле не так. Авторитет объективно отличается от нашей человеческой рациональной способности распознавать его. Когда я решаю принять авторитет Бога как высшей реальности, я тем самым не ставлю себя и рациональность, благодаря которой я принимаю решение, выше реальности и авторитета Бога. Моя рациональность всего лишь средство, при помощи которого я делаю это признание, также как моя воля – это средство соответствующего ответного действия. Сказать, что не существует объективного авторитета вне меня только потому, что я должен рационально выбирать, чтобы принять его, почти то же самое, что сказать, будто не существует объективного мира вне меня, потому что мне необходимо открыть глаза, чтобы увидеть его.
Похоже, существует противоречие между утверждением Родда о том, что не может быть авторитета вне человека, и его согласием, что на решения человека оказывают влияние «усвоенные нормы» воспитывающей культуры. Что это за нормы? Неужели это просто сборник миллионов индивидуальных решений, которые люди принимали на основании своего собственного авторитета? И если это так, почему они зачастую настолько всеобщи и долговечны? И если каждый из нас, в сущности, сам себе авторитет, есть ли смысл вообще говорить о нормах? Не становится ли тогда этика не просто автономной (в отличие от гетерономной), но потенциально анархической?
Более того, могу ли я быть последовательным авторитетом для себя самого, если не существует внешнего авторитета, который в некотором смысле руководит мною и нормирует мои решения и поведение на протяжении времени? Почему какое–то решение, принятое в прошлом, должно обладать нравственным авторитетом для меня в настоящем? В прошлом году я решил дать обещание. Но в этом году я решил его проигнорировать. Кто или что должно подвергать сомнению обоснованность второго решения, если вне меня не существует авторитета, который нормативно учит меня, что исполнение обещаний – это вопрос честности?
Во–вторых, это слово является не только откровением – оно действенно: Бог производит словами действия. [410]410
Это намеренно вторит названию книги Дж. Л. Остина «Как производить действия при помощи слов» (J. L. Austin, Doing Things with Words[Oxford: Clarendon, 1962]), конструктивного текста об иллокуционной силе слов во многих формах человеческих высказываний, таких как обещание, угроза, договор и т. п. Она вдохновила целый спектр исследований действенной функции многих библейских текстов в рамках речевых актов. См. недавнее полезное исследование с положительной оценкой в Richard S. Briggs, 'Uses of Speech–Act Theory' и с особенным акцентом на важности вовлеченного прочтении библейских текстов Richard S. Briggs, 'Getting Involved'.
[Закрыть]Свежее восприятие этого измерения речевых актов в божественных высказываниях (как, конечно, и во многих формах человеческой речи) приветствуется, но вряд ли является новым. Ис. 55, 10–11 может сказать две вещи о действенной силе этого слова Бога. Поразительная результативность этого слова такова, что оно одновременно говорито реальности и порождаетреальность. Здесь кроется его двойной авторитет. Эти тексты говорят о реальности Бога, Творца вселенной, Искупителя Израиля, уже создающего новое небо и новую землю. Но те же тексты говорят нам и о любви и справедливости, воле и требованиях, суде и обещании этого Бога так, что мы не можем избежать силы их этического силового поля.
Как богато изображает Пс. 32 в своем возвеличении слова Господа, которое преобразует мир и исправляет его (Пс. 32, 4–5). Это созидающее мир слово вызывает его к существованию (Пс. 32, 6–9). Это управляющее миром слово руководит историей мира в соответствии с планом (Пс. 32, 10–11). И это наблюдающее за миром слово призывает его к отчету (Пс. 32, 13–15). Это структура авторитета, переданная нам в тексте Ветхого Завета, которая делает радость, исполненный надеждой страх и терпеливое доверие единственным приемлемым откликом на такое слово (Пс. 32,1–2.18–22); и предостерегает тех, кто уповает на такие пустые вещи, как многочисленные армии, что они просто утратили ощущение реальности (Пс. 32, 16–17).
Итак, реальность этого слова, переданного нам через Писания Израиля, обладает авторитетом для этики послушания в завете, как для нас, так и для Израиля, потому что мы знаем того, кто сказал это (Евр. 10, 30).
Четвертая реальность, которую ветхозаветные писания изображают нам – это реальность народа израильского. Каким бы ни была наша историческая реконструкция процесса их зарождения в конце бронзового – начале железного века в Палестине, [411]411
Ряд ветхозаветных историков, как всегда, несогласны с реконструкцией процесса, в результате которого появился Израиль. Новейшие обзоры споров, и особенно на археологическом поле боя, см. в работах: John J. Bimson, Origins of Israel'; William G. Dever, 'Biblical and Syro–Palestinian Archaeology'; What Did Biblical Writers Know?;V. P. Long, D. W. Baker, and G. J. Wenham (eds.), Windows into Old Testament History.
[Закрыть]факт остается фактом – они появились. Древний Израиль с собственным представлением о своем избрании, истории и отношении к Господу Богу своему является реальностью, имеющей чрезвычайное значение для истории остального человечества. Мы, конечно, в некоторой степени могли бы узнать о них из материальных останков их существования и упоминаниях о них в литературе других современных им народов. Но, в основном, мы получаем информацию об этом народе из еврейской Библии, так же как из нее мы узнаем об этом Боге, Святом Израиля.
Итак, совершенно ясно, что для самих израильтян простая реальность их существования как народа обосновывала авторитет одних форм этического поведения и осуждения других. Быть израильтянином значило принадлежать к сообществу этических норм. В положительном смысле, концепция святости была этикой сообщества с широким спектром обязательств: социальных, экономических, семейных, политических, сельскохозяйственных, судебных, коммерческих, обрядовых и т. п. (что четко видно, например, в Лев. 19). Когда же мы читаем, что то или иное «не делается в Израиле», хотя мы прекрасно знаем, что еще как делается, мы понимаем, что под этим подразумевается, а именно: если ты израильтянин, то так поступать нельзя.
Мы могли бы указать на многие богословские измерения избрания Израиля, такие как миссионерская цель Бога для народов, которая является сутью обетования Аврааму, и мы могли бы указать на их веру, свидетельствовавшую о реальности Бога, которому они поклонялись, и которая завещана нам. Но не в этом дело, а вот в чем: когда мы рассуждаем об авторитете Ветхого Завета, мы не должны забывать о его свидетельстве об исторической реальности этого народа – воистину удивительной реальности. В свою очередь, ветхозаветный Израиль как общество обладал авторитетом над каждым своим гражданином. Но не только это – возложенная на Израиль роль и миссия быть священником среди народов (Исх. 19, 4–6), быть светом для народов (Ис. 42, 6; 49, 6–8), примером социальной справедливости для наблюдающих народов, – все это придавало этике Израиля широкую авторитетную значимость и в их собственном обществе. Как обсуждалось во второй главе, Израиль должен был поступать как образец для других. Как я утверждал, это не герменевтическая уловка, навязанная нами Ветхому Завету ретроспективно, но она была частью изначального избрания Израиля. Уникальность Израиля служит его универсальной значимости: он должен показать такое поведение, которое Бог требует повсеместно в человеческих сообществах.
Итак, реальность этого народа, представленного нам в ветхозаветных Писаниях, порождает этику образца и аналогии, в которой мы видим нравственную последовательность Бога и вопрошаем: «Если Бог требовал этого от них, то что тогда Бог требует от нас в нашем контексте, который разительно отличается от израильского?»
В этой главе я доказывал, что авторитет Ветхого Завета для христиан основывается отчасти на его свидетельстве о некоторых фундаментальных реальностях. Затем эти реальности порождают авторитет, который направляет наш отклик. Подробная разработка этого отклика является задачей герменевтики и нравственного истолкования, подобного объяснению, предпринятому в этой книге, предложившей разбор избранных аспектов. Подводя итог, мы могли бы представить приведенные выше размышления в виде следующей таблицы:
| Реальность | обосновывает авторитет |
| Бога | этики поклонения и отклика (его личности) |
| этики подражания и отображения (его характера) | |
| истории | этики миссии |
| слова | этики заветного послушания |
| народа | этики парадигмы и аналогии |
Заключение
Остается только отметить, что эти четыре реальности Ветхого Завета также утверждаются как реальность для христианских верующих в Новом Завете. Все они отражают реальность Иисуса, и это не только позволяет им оставаться актуальными для тех, кто во Христе, но и украшает и преобразует ветхозаветные реалии.
Ведь в Иисусе мы встречаем этого Бога.Новый Завет обычно рассматривает проблему «Иисус и Бог» не в категориях онтологии, но личности и характера, а также деятельности. Иисус – это тот, кто непосредственно отражает личность и характер Яхве, и кто, в конечном итоге, совершает то, что мог совершать только Яхве. [412]412
См. например, N. Т. Wright, Jesus;и Richard J. Bauckham, God Crucified.
[Закрыть]Следовательно, знать Иисуса как Спасителя и Господа означает войти в сферу этического отклика и подражания, которое отображает отклик и подражание Израиля Яхве.
В Иисусе кульминация этой историии гарантия ее завершения. Эта история также является нашей историей, потому что если мы во Христе, тогда, согласно Павлу, мы также в Аврааме и являемся наследниками обетования. Наше будущее – это будущее, которое Бог обещал Аврааму, которое осуществил Иисус и которым будет наслаждаться все искупленное человечество из всякого народа, колена, племени и языка (Откр. 7, 9–10). Тогда нравственность нашей жизни тоже должна быть сформирована благодарностью за прошлое и стремлением к миссионерскому будущему.
В Иисусе мы услышали окончательное слово Бога,Слово, ставшее плотью. Откровение Бога, представленное нам в Ветхом Завете, теперь завершено откровением, переданным нам через новозаветный портрет Иисуса из Назарета. Конечно же, имеет место прерывность и развитие, но новозаветные авторы не сомневались, что за словом, которое пришло к ним с Иисусом, стоял тот же Бог, слово которого они получили в уже имевшихся Писаниях: «Мы знаем Того, кто сказал…» (Евр. 10, 30; перевод автора), и это слово идентифицирует говорящего и утверждает непреходящую значимость его изначальных слов.
В Иисусе мы стали частью этого народа,разделив их уникальность и ответственность, потому что благодаря кресту и евангелию Мессии Иисуса мы стали гражданами народа Божьего, членами Божьей семьи, местом пребывания Бога (Еф. 2, 11 – 3, 13). Такая принадлежность порождает в церкви и мире этическую ответственность, о которой уже более подробно сказано в Новом Завете.
Итак, описанные выше реалии делают Ветхий Завет авторитетным и для нас. Читая Ветхий Завет в свете Христа, мы призваны откликаться на эти жизнеутверждающие истины в широком спектре всей нашей деятельности. Это Бог, которому мы поклоняемся, история, частью которой мы являемся, это слово, которое мы услышали и народ, к которому принадлежим. Как нам теперь следует жить в свете этих реальностей и авторитета, который они утверждают?
Дополнительная литература
Barton, John, Ethics and the Old Testament(London: SCM, 1998).
Briggs, Richard S., 'Getting Involved: Speech Acts and Biblical Interpretation', Anvil 20(2003), pp. 25–34.
Brueggemann, Walter, 'The Role of Old Testament Theology in the Old Testament Interpretation', in Ball, True Wisdom,pp. 70 – 80.
Brueggemann, Walter, A Social Reading of the Old Testament: Prophetic Approaches to Israel's Communal Life,ed. Patrick D. Miller Jr. (Minneapolis: Fortress, 1994).
Davies, Eryl W., 'Ethics of the Hebrew Bible: The Problem of Methodology', Semeia66 (1995), pp. 43 – 53.
Goldingay, John, Approaches to Old Testament Interpretation: Updated Edition(Leicester: Apollos, 1991).
O'Donovan, Oliver М. T, 'Towards an Interpretation of Biblical Ethics', Tyndale Bulletin27 (1976), pp. 54–78.
Patrick, Dale, The Rendering of God in the Old Testament,Overtures to Biblical Theology, vol. 10 (Philadelphia: Fortress, 1981).
Rodd, Cyril, Glimpses of a Strange Land: Studies in Old Testament Ethics(Edinburgh: T&T Clark, 2001).
Seitz, Christopher, Word without End(Grand Rapids: Eerdmans, 1998).