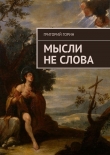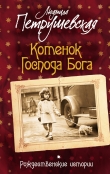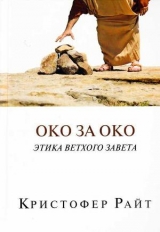
Текст книги "ОКО ЗА ОКО Этика Ветхого Завета"
Автор книги: Кристофер Райт
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 46 страниц)
Действительно, для ранней церкви было характерно, что новый опыт семьи во Христе, в смысле духовного общения и его социального и материального выражения, замещал для некоторых семейную защищенность, которую они зачастую теряли, исповедовав верность Христу. Но в то же самое время раннее христианское движение не противопоставляло себя обычным нормам семейной жизни общества, но, скорее, стремилось поддерживать и преображать их под господством Христа.
«Дом (oikos)же Его – мы», говорит Послание к Евреям, обращаясь к читателям–христианам (Евр. 3, 2–6). Автор намекает на Чис. 12, 7, где этот термин относится к народу Израиля как к семейству Божьему, главным управляющим которого был Моисей. Это один из многих отрывков в Новом Завете, в котором язык и образы, изначально относившиеся к Израилю, теперь отнесены к христианской церкви, оправданные существовавшими между ними типологическими связями, сфокусированными на Иисусе Мессии. Выражение «дом Израилев» было распространено в Ветхом Завете, как и идея Израиля – «дома Господнего» (по контрасту с их участью, когда они были в Египте, «доме рабства»). «Дом Божий», конечно же, чаще всего относится к Иерусалимскому храму. Но иногда оно употреблялось образно в отношении всего народа и земли, составлявшей Израиль. По сути, они составляли дом, семейство, наследие Божье. [296]296
Например, Иер. 12, 7; Ос. 8, 1; 9, 15; Мих. 4, 2.
[Закрыть]Суть метафоры в том, что Израиль был не только народом или собранием отдельных личностей, но также сообществом, имевшим чувство семейного единства, семейством, принадлежавшим Богу.
Контекст и содержание метафоры берет свое начало в израильской семье, которую мы только что подробно рассмотрели. В этом контексте можно подчеркнуть две ее особенности. Во–первых, она была центром поклоненияи обучения,и поэтому являлась важным средством, сохраняющим непрерывность традиций веры народа от поколения к поколению. Во–вторых, она была местом принятия, принадлежности и защитыдля каждого. Каждый человек обретал в ней свою принадлежность народу завета, в ней испытывал на себе его благословения. Именно поэтому о вдовах, сиротах и пришельцах необходимо было проявлять особую заботу: ведь у них не было своей семьи.
В Новом Завете христианская церковь считала себя наследником титула «дом Израилев», семья Божья. Эта терминология может применяться как в отношении всей Церкви (соответствующей народу Израиля) [297]297
Например, Лк. 1, 33; Еф. 2, 19; Евр. 3, 3–6; 8, 8–10; Гал. 6, 10.
[Закрыть], так и в отношении меньших поместных церковных общин (соответствующих израильскому расширенному семейству). Здесь нас больше интересует второе. Использованию образов семьи и семейства в отношении поместных христианских церквей, вне сомнения, в значительной мере способствовал тот исторический факт, что многие из них произошли из обращенных семейств и собирались по домам:
Идея семьи Божьей может передать то, что уже осуществилось в раннем христианском сообществе благодаря домашним церквям. Семейство как сообщество… составляло наименьшую единицу и основу общины. Домашние церкви, упоминающиеся в НЗ (Деян. 11, 14; 16, 15.31.34; 18, 8; 1 Кор. 1, 16; Флм. 2; 2 Тим. 1, 16; 4, 19), без сомнения, возникли через использование домов как мест собраний. [298]298
Goetzmann, 'House', p. 250.
[Закрыть]
Соответственно, две упомянутые выше особенности старой израильской семьи действуют в новозаветной поместной церкви. Во–первых, она была местом поклонения и обучения.Дома использовали для проповеди евангелия (Деян. 5, 42; 20, 20). Здесь совершалась Вечеря Господня (Деян. 2, 46) и крещение (1 Кор. 1, 16; Деян. 16, 15). Поэтому послания Павла к этим церквям изображают их живыми, обучающимися и поклоняющимися совместно в семейном духе. Более того, Павел выстраивает в обратном порядке связь церковной и семейной жизни, настаивая, что те, кто пользуется авторитетом в пасторской и назидательной жизни церковнойсемьи, должны доказать, что способны управлять собственнымсемейством (1 Тим. 3, 4–5, ср. 3, 15).
Во–вторых, поместная церковь также была местом принадлежности и принятия.Возможно, с этической точки зрения именно эту особенность следует подчеркнуть здесь. Христиане рождаются в семье Божьей и поэтому принадлежат к ней. Следовательно, вместе с другими членами, среди которых Бог нас поместил, мы делим ответственность и права принадлежности семье. К ответственности относится обязанность быть частью семьи в социальных и экономических требованиях подлинного koinoniaобщения, о котором шла речь в шестой главе. Это также распространялось на более общее чувство взаимных обязательств в семье, обобщенных Павлом: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6, 10). Явный новозаветный нравственный акцент на любви к братьям – это еще один способ выразить мотив «прежде всего семья».
Главной же привилегией, конечно же, является полное присоединение к семье Божьей, так что все принадлежащие к церкви через веру в Иисуса Мессию причастны ко всем благословениям обещанного наследия. Верующий–христианин, еврей или нееврей, уже не гость, пришелец или одинокий человек (paroikos), —он уже получил статус кровного родственника (Еф. 2, 19).
Еще одной важной функцией церковной семьи должно быть обеспечение некой духовной и даже физической компенсации, в случаях, где естественные человеческие семейные узы были разорваны в результате принятия евангелия. Этот разрыв естественных семейных отношений также предвиделся в Ветхом Завете, об этом говорил и сам Иисус.
То, как Евангелия воспринимают пророчество Михея о последнем времени (Mux. 7, 6 = Мф. 10, 35 и дал.; Лк. 12, 53) указывает, что изначальная община должна была расплачиваться за разрыв с семьей ради Евангелия. Тем, кто берет это на себя, обещаны «ныне, во время сие» новые «дома, и братья, и сестры, и отцы, и матери, и дети» (Мк. 10, 29 дал.; Мф. 19, 29; Лк. 18, 29 дал.). Место разрушенной семьи занимала семья Божья, христианское сообщество. [299]299
Ibid.
[Закрыть]
Следует задаться вопросом, многие ли поместные церковные семьи вполне осознают эту обязанность, которая является отчасти целью их существования? Обеспечивают ли они социальную заботу и принятие тем, кто, возможно, в результате весьма непростого сознательного выбора пришел к ним в обстоятельствах, схожих с обстоятельствами вдовы, сироты или пришельца в Ветхом Завете?
И вновь мы видим, что социальный, экономический и культурный аспект жизни древнего Израиля типологически формирует наше понимание новозаветного народа Божьего. Но на этом дело не останавливается. Сравнительная типология, в свою очередь, приводит нас к поиску новых нравственных норм для христианской жизни. Следовательно, в этом контексте интересно отметить, что одно из основных благословений, которое открывают церкви, переживающие обновление духовной жизни – это возрождение истинного библейского общения. Происходит новое открытие подлинной социальной природы и функции церкви как семейства Божьего, а также связанных с этим прав и обязанностей. Приятно осознавать, что это благословение имеет глубину и богатство, взращенные на ветхозаветной почве, в которой находятся корни новозаветной церкви и из которой она черпает нравственную поддержку, даже если многие представители современной церкви, пользующиеся этим новым открытием, все еще не осознают его происхождение.
Дополнительная литература
Barton, S. С, 'Family', in J. В. Green and S. McKnight (eds.), Dictionary of Jesus and the Gospels(Downers Grove: InterVarsity Press; Leicester IVP, 1992), pp. 226 – 229.
Bendor, S., The Social Structure of Ancient Israel: The Institution of the Family (Beit 'Ab) from the Settlement to the End of the Monarchy,Jerusalem Biblical Studies, vol. 7, ed. E. Katzenstein (Jerusalem: Simor, 1996).
Brichto, Herbert C, 'Kin, Cult, Land and Afterlife – a Biblical Complex', Hebrew Union College Annual 44(1973), pp. 1 – 54.
Gitari, David, 'The Church and Polygamy', Transformation1 (1984), pp. 3 – 10.
Goetzmann, J., 'House', in Colin Brown (ed.), New International Dictionary of New Testament Theology,vol. 2 (Carlisle: Paternoster, 1976), pp. 247 – 251.
Janzen, Waldemar, Old Testament Ethics: A Paradigmatic Approach(Louisville, KY: Westminster John Knox), 1994.
Matthews, V. H., 'Family Relationships', in Alexander and Baker, Dictionary of the Old Testament Pentateuch,pp. 291 – 299.
Mott, Stephen Charles, A Christian Perspective on Political Thought(Oxford: Oxford University Press), 1993.
Perdue, Leo G, Blenkinsopp, J., and Collins, J. J., Families in Ancient Israel(Louisville, KY: Westminster John Knox), 1997.
Schluter, Michael, and Clements, Roy, Reactivating the Extended Family: From Biblical Norms to Public Policy in Britain(Cambridge: Jubilee Centre), 1986.
Sprinkle, J. M., 'Sexuality, Sexual Ethics', in Alexander and Baker, Dictionary of the Old Testament Pentateuch,pp. 741 – 753.
Swartley, Willard M., Slavery, Sabbath, War and Women: Case Issues in Biblical Interpretation(Scottdale, PA: Herald), 1983.
Wright, Christopher J. H., 'What Happened Every Seven Years in Israel? Old Testament Sabbatical Institutions for Land, Debts and Slaves', Evangelical Quarterly56 (1984), pp. 129 – 138, 193 – 201.
_, God's People in God's Land: Family, Land and Property in the Old Testament(Grand Rapids: Eerdmans, 1990; Carlisle: Paternoster, rev. ed., 1996).
_, 'Family', in Freedman, Anchor Bible Dictionary,vol. 2, pp. 761 – 769.
11. Образ жизни человека
Человек и обществоСейчас мы подходим к завершающей главе этого раздела, к тому пункту, с которого, как ожидали некоторые, мы начнем – к области личной этики Ветхого Завета, нравственных требований, предъявляемых Богом к личности в ходе всей его жизни. Такой порядок не случаен. Я убежден, как отмечалось во второй главе, что индивидуальные аспекты ветхозаветного богословия и этики нельзя оценить в отрыве от понимания сообщества Божьего, вызванного к существованию избранием и искуплением. Именно поэтому я посвятил предшествующие главы социальным аспектам Израиля как народа, прежде чем заговорить об отдельных личностях. По сути, различение социальной и личной этики не всегда полезно или приемлемо в Ветхом Завете, потому что индивидуальная этика сформирована общинной.
Те из нас, кто является представителем Запада, должны посмотреть несколько иначе на привычные модели этической мысли по данному вопросу, если мы хотим увидеть все с ветхозаветной перспективы. Мы склонны начинать на уровне одного человека, и далее отталкиваться от этого. Мы сосредотачиваем внимание на том, чтобы убедить людей лично жить в соответствии с тем или иным нравственным стандартом. Если достаточное количество людей будет жить по этим стандартам, тогда, соответственно, само общество улучшится, или, по крайней мере, будет сохранять здоровую, счастливую, безопасную обстановку для отдельных личностей для того, чтобы они стремились к благочестию. Мы говорим: «Ты должен быть такимчеловеком, и в результате таким будетобщество».
Однако в традиционных культурах, еще не затронутых западным индивидуализмом, модель этического мышления начинается с другого уровня. То, как сообщество понимает себя, определяет приемлемое и неприемлемое личное поведение. Именно так в Ветхом Завете, где показано, каким желает Господь видеть общество. Бог хочет видеть народ святым, искупленным и образцовым. Через него Бог может явить прототип нового человечества, которое намеревается создать. Бог хочет видеть сообщество, которое отразит его собственный характер и ценности, особенно справедливость и сострадание. Итак, если Бог хочет видеть таковым этоновое общество, то такимдолжен быть и ты, если принадлежишь к нему. Таким образом, личная этика происходит из богословия искупленного народа Божьего. Другими словами, личная этика Ветхого Завета, также как и социальная этика, – заветная.Завет был заключен между Богом и Израилем как народом,но его нравственные последствия повлияли на каждого входящего в него человека.
Эта особенность ветхозаветной этики полностью созвучна с этическим средоточием Нового Завета. Большая часть новозаветных этических наставлений дана в контексте характера общины, призванной Богом к существованию во Христе. Отдельные люди призваны к нравственному поведению как часть церкви, живя, учась, совместно поклоняясь и служа Христу в мире. Так, например, известные главы Еф. 4—6, посвященные этике, начинаются с призыва «поступать достойно звания, в которое вы призваны». Из предыдущих глав это означает призвание быть членом нового сообщества Божьего – чуда социального и духовного примирения, созданного Богом через Христа. Личныенравственные стандарты заключительных глав провозглашаются на основании принадлежности к искупленному сообществу,описанному в первых главах.
Поэтому один из возможных способов собрать воедино солидное количество нравственных требований Бога к людям – просмотреть предшествующие главы, касающиеся проблем израильского общества, и дописать по каждой из них приложение, содержащее все вытекающие этические последствия для современного человека. Например, если Богу нужно общество, отмеченное экономическим равенством и состраданием, тогда каждый израильтянин должен был бороться с эгоизмом и искушением нечестно нажиться на несчастьях ближнего. Если Богу угодно создать правовое общество, основанное на беспрекословном подчинении законам, тогда судьи должны были действовать нелицеприятно и неподкупно. И так можно перечислить весь спектр социальных характеристик, выводя их следствия для отдельно взятого человека.
Поскольку читатели могут сделать собственные выводы, они могут посчитать утомительным занятием чтение длинных списков вполне очевидных результатов. Единственное, что я хотел бы утвердить здесь – это вопрос перспективы. В библейской этике это природа сообщества,желаемого Богом (и, в эсхатологическом видении, в итоге созданного им), которое определяет то, какую личностьодобряет Бог. Социальное и личное неразделимо в ветхозаветной этике. [300]300
Более подробные размышления о том, как ветхозаветная этика определяется и заимствует свой авторитет из представления о народе, сотворенном Богом (конечно же, среди прочих), находятся ниже, в заключительной части четырнадцатой главы.
[Закрыть]
Личная ответственность
Тем не менее, мое заявление не означает, будто подобная, ориентированная на сообщество этика каким–либо образом замещает, или же подрывает нравственную ответственность человека. Обязанность отдельного гребца нести свое бремя не становится меньше из–за того, что вся команда должна выиграть гонку и оправдать ожидания своего тренера. Подобным же образом, несмотря на утверждение корпоративных аспектов Божьего нравственного требования, Ветхий Завет никогда не упускает из виду и не отменяет обязанность человека жить праведно пред Богом. Первые вопросы в Библии, обращенные к Адаму и Еве, подразумевают личную ответственность: «Где ты?.. Кто сказал тебе?.. Что ты это сделала?..» (Быт. 3, 9–13). Те же вопросы обращены к каждому человеку, которых представляли Адам и Ева. Также вопрос Бога к Каину: «Где брат твой?» (Быт. 4, 9) обращен к каждому человеку, потому мы все ответственны перед Богом за своего собрата. Подобная ответственность перед Богом за свое поведение и отношение друг к другу – это суть человеческого бытия. Человек отличается от других созданий тем, что он отвечает перед Богом за свои поступки. Так как каждый из нас сотворен по образу Божьему, Бог может обращаться к нам, и мы подотчетны ему. Это фундаментальное измерение, которое означает, что такое быть человеком, личностью, индивидуальностью.
По ходу развития ветхозаветной истории мы находим, что поведению человека уделяется большое внимание. Рассказ начинается с веры и послушания отдельно взятого человека – Авраама. Более того, послушание Авраама становится причиной продления завета. Когда Бог обновляет его с Исааком, то говорит, что делает это «за то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои» (Быт. 26, 5). Патриархальные (родовые) повествования служат моделью власти, провидения и терпения Бога в жизни личностей, которые в свое время будут столь очевидны и необходимы в истории народа.
У Синая завет, заключенный с одним Авраамом ради его потомков, обновляется и расширяется на весь народ, его потомков. Но тогда он применяется к каждому человеку. Заветные отношения принадлежат всему обществу: «Я буду вашим Богом; вы будете Моим народом». Здесь местоимения «вы» и «вашим» множественного числа. Но главное требование обращено к отдельному человеку с помощью единственного числа: «Да не будет у тебя иных богов предо Мной».
Тот же индивидуальный акцент характерен для оставшейся части Десяти заповедей, да и для значительного количества подробных законов Пятикнижия. Самый ранний свод законов, «Книга завета» (Исх. 21 – 23), действует юридически на безошибочном основании личной ответственности и обязательства перед законом. Более того, как мы видели в девятой главе, искупительные или коллективные формы наказания, прощавшие или подрывавшие личное обязательство, были законодательно исключены из сферы нормальной судебной процедуры (Исх. 21, 31; Втор. 24, 16). Среди ученых хорошо известно, что еврейский текст Книги Второзакония колеблется между обращением к Израилю во втором лице множественного и единственного числа. Это уже не считается указанием на различные документы или авторов в тексте, но стилистическим способом показать, что нравственные требования Бога к поведению его народа обращены как ко всему сообществу, так и к каждому из них в отдельности.
Перейдя от закона к пророкам, становится совершенно ясно, что главным призванием пророков было обращение к народу или личностям, занимавшим высокие посты – царям и другим руководителям. Тем не менее, наряду с этой социальной, общей задачей пророки, не колеблясь, обращали нравственный призыв Божьего слова на личные поступки: Девора обличала Варака за его бездействие (Суд. 4, 8–9); Самуил бросал вызов Саулу из–за его непослушания (1 Цар. 15, 22–23); Нафан обличал Давида за прелюбодеяние и убийство (2 Цар. 12, 1–10); Илия осудил Ахава за несправедливость и убийство (3 Цар. 21,17 и дал.); Исайя, не сумев убедить Ахаза довериться Богу, обличил его за маловерие и непослушание (Ис. 7, 1–13); Иеремия выступал против лжепророков, обращаясь как к группе (Иер. 23, 9–40), так и лично (Иер. 28), и немилосердно разоблачал личную жадность и притеснения царя Иоакима (Иер. 22, 13–19).
Иезекиилю часто приписывают то, что он первый заговорил о личной ответственности, как будто это было чем–то новым в этическом мышлении Израиля (Иез. 18). Все потому, что он осуждает попытку поколения израильтян в изгнании переложить вину за все свои страдания на грехи своих отцов, и выдвигает в качестве контраргумента знаменитые слова: «Душа согрешающая та умрет» (Иез. 18, 4). Однако мнение, что Иезекииль изобрел доктрину личной ответственности, было отвергнуто теми, кто внимательнее изучил тесную связь между общим и личным в израильской мысли, а также то, что на самом деле хотел сказать Иезекииль.
С одной стороны то, что у Израиля была сильная концепция коллективной солидарности, не означало, как полагали некоторые ученые в прошлом, что в Израиле вовсе не было представления о личной ответственности до периода пленения. Акцент на индивидуальности в ранних юридических текстах (например, Книге завета, как мы видели) за столетия до Иезекииля показывает это. Совершенно ясно, что в израильских судах каждый человек нес личную ответственность за свои действия, и наказывался или оправдывался соответственным образом. [301]301
Ранние антропологические исследования древнего Израиля предлагали к обсуждению концепции совместной ответственности и корпоративной личности, в отношении которых было ясно показано, что они основаны на априорных предпосылках. Против подобных взглядов была реакция в 1960–х и 1970–х годах, но даже до сих пор есть попытки реанимировать их, особенно когда вновь стали навязывать мысль, что Иезекииль, на основании Иез. 18, был изобретателем личной ответственности. Контраргументы см. в статьях: George Е. Mendenhall, 'Relation of the Individual to Political Society'; J. Roy Porter, 'Legal Aspects of the Concept of «Corporate Personality»'; John W. Rogerson, 'Hebrew Conception of Corporate Personality'.
[Закрыть]
С другой стороны, Иезекииль занимался благовестием (см. окончание Иез. 18). Ради этой цели ему было необходимо разоблачить ложные оправдания и попытки народа снять с себя ответственность. Изгнанники обвиняли в своей участи прежние поколения. Они пытались обвинить Бога в несправедливости по той причине, что он заставляет страдать ихпоколение, после того как многие поколения до них оставили следы греха и порока. Они были возмущены тем, что ихзаставили страдать безвинно за грехи других. Но Иезекииль отрицает это предположение. Они не были невинными детьми порочных родителей. Они несут полную ответственность за свое поведение, которое было настолько откровенно порочным, что они сами заслужили суд Божий. Они должны признать собственную вину и ответственность. Поэтому Иезекииль начинает с отрицания распространенной пословицы (Иез. 18, 2), и затем предлагает сложное, относящееся к этому поколению рассуждение, которое воплощает доктрину личной этики, соответствующей Втор. 24, 16. Главный пункт в рассуждениях Иезекииля должен был показать, что каждое поколение уцелеет или погибнет в соответствии со своим нравственным откликом на Божий закон, так же будет и с каждым человеком. Обратиться от праведности к беззаконию – накликать несчастье. Но в этой главе есть также чудная радостная весть: когда беззаконники обратятся от своего беззакония и продемонстрируют свое покаяние радикальной нравственной переменой жизни, тогда они обретут прощение, и их жизнь будет сохранена. Несомненно, проповедь Иезекииля несет новую глубину и вызов личной ответственности, и он, конечно же, ясно раскрывает вопросы жизни и смерти, связанные с нравственным выбором и привычками. Однако его аргументация – это развитиеглубоко укорененной ветхозаветной веры, а не радикальное нововведение.