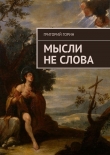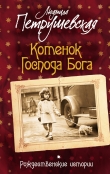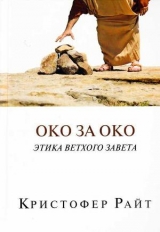
Текст книги "ОКО ЗА ОКО Этика Ветхого Завета"
Автор книги: Кристофер Райт
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц)
Можно сказать, что основная суть ветхозаветной экономики передана в десятой заповеди: «Не желай». Адресованная во втором лице единственного числа к отдельному человеку и включающая, среди прочего, экономические активы своего ближнего, эта фундаментальная заповедь видит источник всякой греховной формы экономического роста там, откуда он проистекает – алчность человеческих сердец. Пророк Михей видел за социально–экономическим злом своего времени жадность людей, «замышляющих беззаконие и на ложах своих» (Мих. 2, 1). Противоядием «жадности, которая есть идолопоклонство» (Кол. 3, 5; RSV) является «страх Господень», порождающий мудрость довольства. Традиция мудрости, несомненно, принимала рост и преуспевание в качестве божественных даров (ср. Притч. 3, 9–12; 10, 22). Но она в равной степени осознавала как опасности чрезмерного богатства, так искушения крайней нищеты:
нищеты и богатства не давай мне,
питай меня насущным хлебом,
дабы, пресытившись, я не отрекся тебя
и не сказал: «кто Господь?»
и чтобы, обеднев, не стал красть
и употреблять имя Бога моего всуе.
(Притч. 30, 8–9)
Втор. 8 – еще один довольно сбалансированный комментарий в этой связи. Первая часть главы предвосхищает вхождение Израиля в землю, где их ожидает достаток в отличие от пустыни, где они довольствовались малым: «В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни – железо, и из гор которой будешь высекать медь» (Втор. 8, 9). Такой достаток должен приводить к хвале (Втор. 8, 10).
Однако автор текста вполне осознает, что достаток в конечном счете приведет к избытку, «когда будет у тебя много», а избыток приведет к гордости и забвению Бога (Втор. 8, 12–14). Поворотным моментом главы, судя по всему, является одиннадцатый стих (обратите внимание на выражение «есть и насыщаться» в разных местах текста), с его строгим предостережением против забвения Бога. Только когда Бог должным образом почитается и прославляется, мы сможем устоять на тонкой грани между достатком и хвалой,с одной стороны, и избытком и гордостью,с другой.
Когда мы подходим к действительным законам и институтам, задуманным для воплощения этого принципа, наиболее важными являются установления о неотчуждаемости семейной земли и поддерживающие процедуры выкупа и юбилейного года в Лев. 25. Совокупность этих установлений должна была изъять землю с товарного рынка. Спекуляции землей или накопление огромных частных землевладений посредством постоянного приобретения земли были техническиневозможны в Израиле. Земля не могла постоянно продаваться (Лев. 25, 23). Сам продавец мог выкупить свою землю позже, или же продажа могла быть предотвращена и выкуплена родственником (ср. предотвращение Иеремией продажи земли его родственником Анамеилом, Иер. 32, 6–12). В любом случае, даже если этого не происходило, земля возвращалась к ее и значальному владельцу или его потомкам в юбилейный год; то есть не больше, чем через поколение. Следовательно, любой происходивший обмен землей на самом деле вовсе не был продажей земли,а всего лишь узуфруктом, [137]137
Узуфрукт – право пользования чужой собственностью и доходами от нее. – Прим. перев.
[Закрыть]или ожидаемой прибыльюс земли до следующего юбилейного года. Поэтому цена земли с каждым годом уменьшаласьпо мере приближения юбилейного года (Лев. 25, 14–17)! Цель – воспрепятствовать беспринципному росту одних за счет других, что ясно показано дважды: «не обижайте друг друга» (Лев. 25, 14.17).
Юбилейный год также действовал как гарантия безопасности против другого вида злоупотребления, связанного с законной процедурой выкупа. Преуспевающий родственник, пользуясь своим правом преимущества покупки или выкупа земли своих бедных родственников в племени, мог в итоге вполне законно овладеть большей частью их земли, фактически сделав бедных родственников крепостными (Лев. 25, 39–40). Юбилейный год ограничивал такого рода замаскированный под благотворительность экспансионизм, повелевая освобождение и возврат всех семейств на свое изначальное наследие. [138]138
Более полное обсуждение юбилейного года будет дано в шестой главе.
[Закрыть]
Поэтому первоначальный порядок распределения земли семьям, принцип неотчуждаемости, возможность выкупа и положения о юбилейном годе приводят к экономической системе, которая начиналась с положения широкого равенства, но признавала греховную реальность: некоторые будут преуспевать, тогда как другие – обнищают. Она пыталась ограничить и обезопасить людей от худших последствий этого процесса посредством регулирующих и восстанавливающих экономических мер. Авторы Ветхого Завета хорошо осознавали, что подобные меры противоречат «природным» экономическим тенденциям эгоистичных людей. Именно поэтому, согласно Лев. 25, экономические отношения внутри Израиля должны быть построены на избавлении из египетского рабства и завете с Богом (Лев. 25, 17–18.23.36.38.42–43.55). Эти экономические правила, которые отражают принципы творения, развиты в рамках завета среди народа, знающего, чем он обязан Богу.
В связи с этим центральным стержнем ветхозаветной экономики мы также могли бы перечислить некоторые другие нормы, цель которых – ограничить рост личного богатства, приобретенного несправедливо или при помощи угнетения.
Во–первых, существовал запрет на передвижение межевых камней,обозначавших границы семейной земли (Втор. 19, 14). О серьезности этого нарушения говорит его включение в проклятия книги Второзаконие (Втор. 27, 7). Оно использовано как олицетворение несправедливости Осией (Ос. 5, 10), а также было популярной темой в традиции мудрости (Иов 24, 2–3; Притч. 23, 10).
Во–вторых, среди израильтян запрещалось брать процентс займов (Исх. 22, 25; Лев. 25, 36–37; Втор. 23, 19–20). Речь идет не о процентах в коммерческих инвестициях, как мы их понимаем. Разрешение в книге Второзакония брать проценты с чужеземцев, по всей видимости, подразумевает подобную коммерческую деятельность. Однако другие законы ясно указывают, что заем требуется из–за нужды,главным образом на необходимые ежегодные расходы сельскохозяйственной жизни; например, заем посевного зерна. Запрет на ростовщичество, таким образом, касается не самого экономического роста, а роста, который достигается ценой беспринципного злоупотребления нуждой другого. Запрет на ростовщичество имел серьезные последствия среди израильтян: «поскольку заем у родственника можно было взять без процентов, расширенная семья получает преимущество, сберегая подобные трансакции в рамках родни, вместо того чтобы обращаться вовне». [139]139
C. J. H. Wright, Deuteronomy,p. 252. О запрете процентов в Израиле см. далее Paul Mills, Interest in Interest.
[Закрыть]
В–третьих, существовал контроль над использованием залоговдля гарантии займов. Это варьировалось от простой человеческой внимательности (напр., возврат верхней одежды до вечера, Исх. 22, 26–27; не брать в залог жернов, Втор. 24, 6; не вторгаться в жилье за залогом, Втор. 24, 10–11) до главных субботних законов. Освобождение, предписанное для седьмого года во Втор. 15, 1–3, вероятно, означало, что залоги, взятые в качестве гарантии займов, должны вернуться к владельцу, и заем получал отсрочку на год (или же вовсе аннулировался). [140]140
Более полную библиографию по законам освобождения от долга в целом см. С. .1. Н. Wright, God's Land,pp. 143–148, 167–173, 249–259.
[Закрыть]Залогом могла быть земля, заставленная кредитору, или иждивенцы должника, отрабатывающие его долг. Возврат таких залогов должен был приносить существенное облегчение должнику и, соответственно, обуздать алчность жадных кредиторов. К тому же закон вполне осознает тенденции экономической сущности человека и поэтому, подобно Неемии, взывает к искупленной совести (Втор. 15, 9 и далее; Неем. 5, 1–13).
В–четвертых, закон запрещает чрезмерное обогащение царя,человека, который мог считать, что ему это позволено. Несомненно, у царя должны быть личные средства, подтверждающие его высокий статус. Главное, чтобы «он не умножал себе» (Втор. 17, 16–17) их, будь то лошади, жены, серебро или золото. Лошади были тягловой силой для колесниц, а жены содержались в гареме – символе восточной царской роскоши. Оружие, женщины и богатство – вот символы царской власти в народном сознании (с тех пор прошло много времени, но мало что изменилось в отношении власть имущих). Но Бог сказал, что цари Израиля должны идти против течения, и избегать подобных ловушек надменности и алчности. Со времени Соломона и далее этот закон игнорировали цари и царские фавориты, но все же он постоянно обличал склонности к накоплению посредством несправедливости и угнетения через бесстрашные слова пророков.
Наконец, как можно понять из двух предыдущих разделов, эсхатологическое видение нового творения, когда Божий народ будет обитать в новых и совершенных отношениях с Богом и друг другом, включает исполнение идеала творения о товарном росте и плодоносном изобилии. Главы Иер. 31—33, включающие известные пророчества о новом завете и вечной эпохе Божьего благословения и изобилия, включают образы, взятые из экономической сферы восстановления торговли, производства и преуспевания после пленения. Хотя осуществление окончательных Божьих целей искупления, несомненно, включают суд и уничтожение экономического угнетения и несправедливости (см. пророчества против Тира и Вавилона в Ис. 13—14; 23, и их отголоски, которые включают экономический аспект, в Откр. 18), экономическое измерение человеческой жизни и достижений на земле не игнорируется.
Четвертый принцип экономики творения гласит, что мы подотчетны Богу не только в том, как распределяем сырьевые богатства земли, но также в том, что делаем с продуктами и прочими результатами экономического процесса. Наша ответственность перед Богом друг за друга означает, что мы не можем претендовать на исключительное и абсолютное право использования произведенного нами. Заявление: «Это мое, ибо я создал его» – может быть приписано только Богу (ср. Пс. 94, 4–5). В устах любого человека подобное заявление перечеркивается тем фактом, что и ресурсы, и сила использовать их являются дарами Бога. «Чтобы ты не сказал в сердце твоем: «моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо он дает тебе силу приобретать богатство» (Втор. 8, 17–18). Поэтому, естественно, мы нравственно подотчетны ему в справедливом, сострадательном и щедромраспределении богатства, способность произвести которое дал нам Бог.
Справедливость,несомненно, должна управлять всей общественной жизнью Израиля (как мы это увидим более полно в восьмой главе). Но справедливость важна, в первую очередь, в экономических отношениях. Сам рынок, большой или малый, был местом экономического обмена товарами и услугами, и его работу должна была регулировать справедливость. Закон призывает к точным весам и мерам, чтобы предотвратить обман во время продажи и приобретения (Лев. 19, 35–36). Простая честность в торговых отношениях – это фундаментальный принцип экономической справедливости:
В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие; в доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая; гиря у тебя должна быть тонная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе; ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий неправду.
(Втор. 25, 13–16; Притч. 11, 1)
Справедливость также распространяется на тех, от чьего труда вы зависите, чтобы получать богатство. Поэтому своевременная выплата вознаграждения, обещанного работникам (как мы уже видели), – это требование закона (Втор. 24, 14–15), нравственное заявление праведных (Иов 31, 38–40) и социальная проблема для пророков (Иер. 22, 13; Ис. 58, 36). Даже вол, вращающий жернова, чтобы молоть зерно для ваших ежедневных потребностей, заслуживает справедливого отношения: есть то, что производит для вас (Втор. 25, 4).
Однако библейская справедливость выходит за рамки подсчета прав и заслуг. Из–за того, что она характеризуется межличностными отношениями, она всегда идет рука об руку с состраданиемк тем, кто слаб. Таким образом, в библейской экономике богатство, которое Бог дал нам возможность произвести, нужно использовать с сострадательным сердцем и рукой. Конечно же, сострадание – это область сердца и эмоций, но это также обязанность по завету, и поэтому может быть заповедана. Важно не то, чувствуетели вы сострадание, а действуетели вы сострадательно. Поэтому, что бы вы ни ощущали при этом, вы не должны убирать свои поля, виноградники или сады до последнего зерна, грозди или маслины. Есть те, чьи нужды более важны, чем ваши права собственности, и те, ради которых Бог повелевает практическое сострадание (Лев. 19, 9–10; Втор. 24, 19–22). Также сострадание – это то, как вы смотрите на неимущих в сообществе. Отношение сердца руководит нашими руками, поэтому они важны:
Если же будет у тебя нищий кто–либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается; берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль: «приближается седьмой год, год прощения», и чтоб оттого глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему; ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе грех; дай ему, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками; ибо нищие всегда будут среди земли; потому я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей.
(Втор. 15, 7–11)
Следовательно, сострадание, как отмечает этот текст, ведет к щедрости.И тексты, которые следуют непосредственно за ним, говорят о щедрости, которая выходит за рамки специфически правовых требований при освобождении раба–должника после шести лет работы. Более того, он побуждает к щедрости на основании щедрости Бога, которой израильтянин призван подражать: «Снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего: дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой» (Втор. 15, 14). Действительно, милость и сострадание, справедливость и щедрость – это главные качества Господа, которые отражают боящиеся Господа. Определенно об этом сказано в Пс. 110, 4–5 и 111,4–5.
Экономика и бедность
Итак, до этого момента в данной главе мы рассматривали принципы творения, на которых базируется ветхозаветная экономика. Мы видели искажения, являющиеся следствием человеческого греха и непослушания, и усилия в рамках израильской экономической системы, которые могут воплотить принципы творения в пределах израильской искупленной общины завета. Как все это влияет на проблему нищеты?
Вообще, есть ли в Ветхом Завете проблема нищеты? Сирил Родд (Cyril Rodd) помещает главу с названием «Нищие» среди тех вопросов, которые, как полагает он, современные нравственные проблемы привнесли в ветхозаветную этику (Rodd, Glimpses,ch. 14). В характерной для себя манере, представляя очень хороший обзор библейской и научной литературы, посвященной лексике и отношению к нищете в Ветхом Завете, он соглашается с Т. Р. Гоббсом (Т. R. Hobbs), утверждающим, что нищета сама по себе не была нравственной проблемой для Израиля (просто это было частью того, как обстояли дела в том мире). Скорее для израильтян была проблемой потеря статуса и бесчестие, которое влекла за собой нищета. Нищета была несчастьем, а не нравственной проблемой. Сам Родд доказывает, что сама по себе материальная нищета редко является проблемой для ветхозаветных авторов, но, скорее, они рассматривали ее как несправедливость или угнетение в обществе, где были унижены одни, в то время как другие преуспевали. Это представляется мне четким тезисом, но он не устраняет нищету из сферы подлинной ветхозаветной этики так, как это предполагает Родд. Ведь ветхозаветная этика характерно межличностная,а не абстрактная или поддающаяся количественному исчислению. На самом деле то, что нищета подразумевает для человеческих отношений (злоупотребление ими, искажение, эксплуатация и пр.), составляет нравственную проблему. Следовательно, нищету нельзя рассматривать просто как экономическую или материальную проблему без одновременного рассмотрения межличностных вопросов социальной несправедливости и эксплуатации.
Сначала мы отметим некоторые причины нищеты, признанные и обсуждаемые в Ветхом Завете. Затем мы сделаем обзор ответов нищете, которые встречаются в основных частях канона. [141]141
Существует ряд очень подробных научных исследований нищеты в Ветхом Завете, некоторые из них упоминаются в списке дополнительной литературы в конце главы. Изучение богатой терминологии нищеты, характерной для Ветхого Завета, см. J. David Pleins, 'Poor, Poverty'; и Mignon R. Jacobs, 'Concerns for the Underprivileged'. Исчерпывающий обзор каждой части Библии дает Lesslie J. Hoppe, Being Poor.Описание, в котором говорится о широком разнообразии идеологических и социальных перспектив в различных частях еврейского канона, аргументируется с существенными критическими подробностями в J. David Pleins Social Visions.
[Закрыть]
Нищета может прийти к человеку, семье или общине по множеству причин, и Ветхий Завет признает сложность этого вопроса.
Во–первых, то, что мы бы назвали естественными причинами.Мы живем в падшем мире, в котором многие события происходят неожиданно, по непонятным причинам. Например, болезни посевов и нашествия саранчи могут разорить местную экономику. Иногда подобные события рассматривались как результат божественного суда (напр., Иоиль), однако в другое время они просто фиксировались без объяснения. Случается всякое. Можем вспомнить голод, погнавший семью Иакова в Египет, описанный в Книге Бытия, или тот, что заставил Елимелеха эмигрировать в Моав из Вифлеема (по иронии означавшего «дом хлеба») в Книге Руфи. Болезнь и несчастье может превратить человека в тень (Иов); утрата и вдовство может наполнить женщину пустотой и горечью (Ноеминь). Приписывание всего этого руке Господа (справедливо или нет) не смягчает боль подобных трагедий. Похоже, для этого нет никаких рациональных объяснений.
Во–вторых, Ветхий Завет показывает, что некоторые случаи нищеты могут быть прямым результатом лени.Это мудрое наблюдение часто встречается в Книге Притчей. По этой причине некоторые ученые представляют авторов этих книг циничными представителями благополучной городской элиты, расценивавшими неимущих не столько как нравственный вызов, сколько как политическое бельмо на глазу, и чувствовавших необходимость обвинять самих бедных за их бедность. [142]142
Такая позиция отстаивается в нескольких работах Дэвида Плайнса. См. J. David Pleins 'Poverty in the Social World of the Wise'n Social Visions,pp. 452 – 483. He такое негативное описание отношения традиции мудрости к нищете и богатству встречается в Norman С. Habel, 'Wisdom, Wealth and Poverty' и R. N. Whybray, Wealth and Poverty.
[Закрыть]Мне это представляется преувеличенной идеологической интерпретацией Притчей. Тезис, который предлагают Притчи, в наших рамках представляется обоснованным и дополняет закон и пророков (как мы увидим). Суть в том, что лень и расточительность действительно могут привести к обнищанию, а усердный труд часто способствует экономическому преуспеванию (напр., Притч. 12, 11; 14, 23; 20, 13; 21, 17 и пр.). В самой Книге Притчей ясно дается понять, что это обобщения, а не правила без исключений (напр., Притч. 13, 23).
В–третьих, угнетение —едва ли не самая признанная причина нищеты. Ветхий Завет учит, что только незначительная доля нищеты случайна, – то же показывает и современный анализ. Чаще всего бедность настигает человека из–за прямых или косвенных действий других людей. Нищета обусловлена. И главная причина – это эксплуатация одних людей другими, чьи эгоистичные интересы держат неимущих в нищете:
Пророки… не считали нищету результатом случайности, судьбы или лени. Нищета – это продукт богатых, которые нарушили завет из–за своей жадности. Богатые не использовали свои возможности и ресурсы для того, чтобы помочь общине, но преследовали собственные цели. Так они нарушили завет, разрушили единство Израиля и накликали божественный суд. [143]143
Hoppe, Being Poor,с. 61.
[Закрыть]
Подобная жестокая эксплуатация принимает различные формы, и Ветхий Завет тонко подмечает это разнообразие:
1. Эксплуатация социально слабых.В обществе есть те, чей статус делает их уязвимыми. Часто это происходит с теми, кто потерял свою семью, земли или то и другое: вдовы, сироты и пришельцы. Ноеминь и Руфь служат иллюстрацией потенциальной борьбы, а 4 Цар. 4, 1–7 представляет типичный случай. Потеря семьи делает человека беззащитным, если только могущественные защитники не станут на его сторону (как поступил Вооз и как делал Иов до того, как его постигли бедствия: Иов 29, 12–17).
2. Эксплуатация экономически слабых.Долг растет, что приводит к потере земли, толкая людей на самое дно нищеты. Ростовщичество обостряло проблему (Исх. 22, 25). То же самое и с царскими налогами, конфискацией и воинской повинностью (1 Цар. 8, 10–18). Экономическое и социальное бессилие идут рука об руку в ситуации, ярко изображенной в Неем. 5. Долг (даже явно пустячные долги) мог привести к рабству (Ам. 2, 6). С другой стороны, механизмы ослабления долга могут быть попираемы, или людям могут отказать в займе из–за близости юбилейного года (Втор. 15, 7–9). Работодатели могли эксплуатировать наиболее уязвимую рабочую силу – поденных рабочих – задерживая выплату зарплаты (Втор. 24, 14–15).
3. Эксплуатация этнически слабых.На заре своей национальной истории израильтяне представляли собой этническое меньшинство в Египте, страдая от всех ужасов политического, экономического и социального угнетения, кульминацией которого стал поддерживаемый государством геноцид (Исх. 1). По этой причине им было сказано обращать особенное внимание на уязвимость этнических меньшинств, находящихся среди них (Исх. 22, 21; Лев. 19, 33). Вновь история Руфи иллюстрирует потенциальную опасность, которой могут подвергнуться иммигрирующие иностранцы. Можно вспомнить, что два ключевых ветхозаветных персонажа, Авраам и Давид, в известных эпизодах опустились весьма низко в своем отношении к этническим пришельцам (Агарь и Урия).
4. Царская невоздержанность, коррупция и злоупотребление властью.Ветхий Завет строго критикует бесчеловечную коррумпированность правителей и приобретение богатства ценой обнищания других. Соломон – яркий пример, когда в позднем периоде своего правления он дошел до неприкрытой эксплуатации северных племен, которая, вне всякого сомнения, внесла свою лепту в его легендарное богатство и роскошь, но также стала причиной восстания, отделившего северную часть царства от его сына Ровоама (3 Цар. 11—12). Последующие цари следовали примеру в той или иной мере. Алчность Ахава уничтожила Навуфея (3 Цар. 21). Жадность Иоакима способствовала его процветанию и изобилию за счет неоплаченного труда работников (Иер. 22, 13). Иезекииль так обобщает всю испорченную историю монархии в Иерусалиме: «Вот, начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь… Заговор пророков ее среди нее – как лев рыкающий, терзающий добычу; съедают души, обирают имущество и драгоценности, и умножают число вдов». Неудивительно, что простые люди следуют примеру своих господ: «А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо» (Иез. 22, 6.25.29).
5. Судебная коррупция и ложные обвинения.Случай Навуфея говорит не только о царской алчности; израильская система правосудия стала жестоким орудием в руках Иезавели (3 Цар. 21, 7–16). Ам. 5, 7.11–12 высвечивает ужасную продажность судов, обративших понятие справедливости в трагедию для бедняков. Власть имущие могли даже узаконить нищету указом (Ис. 10,1–2)! Это частая причина жалоб в Псалтыри, когда нищие праведны (юридически правы, в противовес порочным оппонентам), но не встречают человеческого понимания в собрании и могут взывать только к Богу. Нежелание судей выполнять свою работу вызовет ярость Бога и приведет к их окончательному уничтожению (Пс. 81).