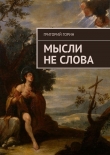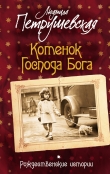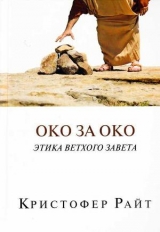
Текст книги "ОКО ЗА ОКО Этика Ветхого Завета"
Автор книги: Кристофер Райт
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 46 страниц)
Видеть все с точки зрения Бога намного неприятнее, если ваш взгляд обращен на вас самих, потому что тогда осознание личного греха, падения и неадекватности становится резким. Это приводит нас к наиболее ярко выраженной и важной этической особенности Ветхого Завета, а также одного из его центральных вкладов в веру и этику библейской религии, иудейской и христианской, – осознанию человеческой этической несостоятельности наряду с поразительной благодатью божественного прощения.
У нас была возможность рассмотреть последствия грехопадения во всех сферах социальной этики, рассмотренных в предыдущих главах книги. Грех оставил свой уродливый след в социальной сфере, а также аккумулировался в процессах истории. Теперь мы видим, что Ветхий Завет не менее радикален и всеобъемлющ также в описании влияния греха на каждый аспект человеческой жизни. Вряд ли приговор Книги Бытия человечеству может быть более полным: «Все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6, 5); «помышление сердца человеческого – зло от юности его» (Быт. 8, 12). Правдивость этих утверждений является всеобщей (все люди без исключения – грешники) и конкретной (любой аспект личности человека поражен грехом).
Поэтому мудрец задает риторический вопрос, не ожидая, что кто–то подымет руку в ответ:
Кто может сказать: «я очистил мое сердце,
я чист от греха моего ?»
(Притч. 20, 9)
Таким образом, ветхозаветная этика стоит на фундаменте реализма. Не умаляя великих нравственных Божьих абсолютов, она полностью осознает моральное состояние человека, варьирующегося от явной хрупкости и слабости до открытого и упрямого бунта. Иеремия, который, вероятно, более всех остальных видел порочность и беззаконие, показывает проникновение зла в глубину всего человеческого естества:
Лукаво сердце человеческое более всего
и крайне испорчено;
кто узнает его?
(Иер. 17, 9)
Он также видел, что грех невозможно устранить личными усилиями человека:
Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою
и барс – пятна свои?
так и вы можете ли делать доброе,
привыкнув делать злое?
(Иер. 13, 23)
Посему, хотя бы ты умылся мылом
и много употребил на себя щелоку,
нечестие твое отмечено предо Мною.
(Иер. 2, 22)
Но этот реализм не приводил к отчаянию. Осознание греха и несостоятельности не парализовало этику в Ветхом Завете. Осознание своей греховности не останавливаетвас от следования по пути Господнему; это просто говорит, с чего следует начать,прежде чем стать на этот путь. Этим отправным пунктом было объективное Божье искупление и субъективный опыт прощения. Как в Ветхом, так и в Новом завете евангелие предшествует этике. Поэтому мы можем видеть, что подробные постановления развитой левитской системы жертвоприношений имели этическое значение. Она не только помогала израильтянину очиститься от прошлых проступков при помощи искупительной крови жертвы, но и давала уверенность верующему в продолжающейся принадлежности к народу завета. А это единственное положение, в котором можно познавать и повиноваться слову и воле Господа в будущем.
Но Израиль также знал, что искупительная сила Бога превосходила обряды жертвоприношений. Сущность природы Господа как спасающего и прощающего Бога – это та реальность, к которой можно было апеллировать, даже если в руках не было жертвы, или ее было невозможно принести. Даже жесткий приговор Бытия, приведенный выше, произнесен в контексте чудесного спасения Ноя, прообразе избавления. Иеремия, несмотря на весь свой пессимизм, ожидал новый завет, когда Бог пообещал:
Я прошу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.
(Иер. 31, 34)
Иезекииль также видел, что изменяющая сила Бога заменит каменные сердца, зачерствевшие во зле, сердцами из плоти, возрожденными и исполненными Духом его (Иез. 36, 25–27; 37, 1–14).
И вновь именно псалмопевец наиболее глубоко раскрывает значение покаяния, прощения, а также нравственной свободы и радости, которые являются его результатом. Автор Пс. 24 и 31 молит о прощении грехов, во втором случае после серьезного обличения и исповеди. Оба псалма связывают опыт прощения с надеждой на нравственные личные изменения и этическое руководство со стороны Бога. Именно раскаявшегося и прощенного грешникаБог делает способным жить согласно его воле:
наставляет грешников на путь,
направляет кротких к правде.
(Пс. 24, 8–9)
Ты снял с меня
вину греха моего.
Вразумлю тебя,
наставлю тебя на путь,
по которому тебе идти…
(Пс. 31, 5.8)
Возможно, никто не знал этого лучше Давида. Хотя Давида можно назвать «мужем по сердцу Бога», [308]308
«Человек по сердцу Бога» – это, по всей видимости, не столько «тот, кого Бог по–особенному любит». Лицеприятие Бога, на что может намекать русское выражение, отрицается Библией в разных местах. Скорее всего, речь идет о человеке, который осуществит волю и цель Бога («сердце» – это еврейский способ сказать о намерениях, а не столько об эмоциях).
[Закрыть]он, тем не менее, опустился до обмана, жестокости, похоти и зла. Как царь, он должен был служить нравственным руководителем своего народа, подавая пример и наставление. Но как такая испорченная личность могла вести других? Только благодаря сверхъестественной благодати прощающего, очищающего, обновляющего Бога:
Сердце чистое сотвори во мне, Боже,
и дух правый обнови внутри меня…
Тогда научу беззаконных путям Твоим,
и нечестивые к Тебе обратятся.
(Пс. 50, 10.13,выделено автором,)
Нравственную силу прощения обсуждал Стэнли Хауэрвас (Stanley Hauerwas), еще один ученый, подчеркивающий важность повествовательной традиции в Библии для формирования этической жизни общины и, в то же самое время, этической жизни человека:
Нравственное использование Писания содержится исключительно в силе Бога помочь нам помнить его истории для постоянного руководства в жизни нашего сообщества и жизни людей… Повествование Писания не только «показывает характер» (Бога), но показывает общину, которая способна организовать свое существование в соответствии с подобными историями. Иудеи и христиане верят, что это повествование делает не что иное, как показывает характер Бога, и тем самым помогает нам быть народом, который соответствует данному характеру…
Вопрос нравственной значимости Писания, таким образом, превращается в вопрос о том, каким сообществом должна быть церковь, чтобы быть способной сделать повествование Писания центром своей жизни…
Писание обладает авторитетом для христиан, потому что они как прощенный народ узнали, что должны быть способными прощать (что отделяет нас от мира, живущего жаждой власти, и не нуждающегося в прощении)… Быть сообществом прощенных означает быть тесно связанным с общиной, которая поддерживается повествованиями из Писаний, поскольку эти повествования делают не что иное, как являют Бога, природе которого свойственно прощать [309]309
Hauerwas, Community of Character, pp. 66-69.
[Закрыть].
Но давайте предоставим заключительное слово Исайе. Ведь именно тому народу, который он обвинял в том, что он исполнен кровью беззакония и угнетения, народу, чье поклонение наводило тоску и вызывало отвращение Бога, пророк сделал удивительное приглашение прийти к Божьей спасительной рассудительности:
Тогда придите – и рассудим,
говорит Господь.
Если будут грехи ваши, как багряное, —
как снег убелю;
если будут красны, как пурпур, —
как волну убелю.
(Ис. 1, 18)
Но за этим спасительным словом евангелия сразу же следует неотвратимый нравственный вызов
Если захотите и послушаетесь,
то будете вкушать блага земли;
если же отречетесь и будете упорствовать,
то меч пожрет вас:
ибо уста Господни говорят.
(Ис.7, 19–20)
В той же Книге Исайи мы находим великое видение о том, что в конечном итоге сутью искупления будет не место или объект, а личность, слуга Господень. Мы встречаем эту таинственную личность в кульминационном описании его отвержения и триумфа (Ис. 52, 13 – 53, 12), переживающего искупительные страдания не за свои грехи, а за наши. И эти страдания не будут напрасны, потому что
Господь возложил на Него
грехи всех нас…
Но Господу угодно было…
сделать Его жертвой умилостивления…
(Ис. 53, 6. 10)
Это ветхозаветная Голгофа. Здесь же важнейшее основание для единства евангелия и этики, веры и жизни в обоих Заветах; а именно – суверенная благодать и милость Бога. Ведь крест Мессии – это врата не только в жизнь, но и к образу жизни.
Дополнительная литература
Birch, Bruce С, Old Testament Narrative and Moral Address', in Tucker, Petersen and Wilson, Canon, Theology and Old Testament Interpretation,pp. 75 – 91.
_, 'Moral Agency, Community, and the Character of God in the Hebrew Bible',
Semeia66 (1994), pp. 23 – 41.
Blocher, Henri, The Fear of the Lord as the "Principle" of Wisdom', Tyndale Bulletin28 (1977) pp. 3–28.
Clements, R. E., 'Worship and Ethics: A Re–examination of Psalm 15', in Graham, Marrs and McKenzie, Worship and the Hebrew Bible,pp. 78 – 94.
Hauerwas, Stanley, A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic(Notre Dame: University of Notre Dame Press), 1981.
Janzen, Waldemar, Old Testament Ethics: A Paradigmatic Approach(Louisville, KY: Westminster John Knox, 1994).
Mendenhall, George E., 'The Relation of the Individual to Political Society in Ancient Israel', in J. M. Myers, O. Reimherr and H. N. Bream (eds.), Biblical Studies in Memory of З CAlleman(Locus Valley, NY: J. J. Augustin, i960), pp. 89 – 108.
Muilenburg, J., The Way of Israel: Biblical Faith and Ethics(New York: Harper, 1961).
Porter, J. Roy, 'The Legal Aspects of the Concept of "Corporate Personality" in the Old Testament', Vetus Testamentum15 (1965), pp. 361 – 380.
Rogerson, John W., 'The Hebrew Conception of Corporate Personality: A Re–examination', Journal of Theological StudiesNew Series 21 (1970), pp. 1 – 16.
Wenham, Gordon J., Story as Torah: Reading the Old Testament Ethically(Edinburgh: T.& T.Clark, 2000).
Часть III. Изучение ветхозаветной этики
12. Обзор исторических подходов
Вопрос о том, имеет ли еврейская Библия авторитет для христиан, и как ее следует использовать в этике, был и остается сложным и спорным. Хотя нравственные проблемы современности в некотором смысле являются беспрецедентными, на самом деле за два тысячелетия в христианском сообществе остались принципиально не затронутыми только немногие вопросы. Поучительно (и иногда это смиряет) подумать о великом потоке традиции, к которому мы принадлежим, вместо того чтобы наивно полагать, будто мы первое поколение, столкнувшееся с вызовом, брошенным нам, христианам, Ветхим Заветом. То, что мы изобрели слово «герменевтика», вовсе не означает, что мы первые ломали голову над герменевтическими проблемами.
Эта глава предлагает краткий очерк некоторых ключевых моментов из истории христианского толкования Ветхого Завета. Обширные трактаты ученых древности, средневековья и раннего модерна упущены. Я кратко коснусь некоторых стандартных подходов этического использования Ветхого Завета в ранней церкви, церкви времен европейской Реформации и некоторых современных конфессиональных подходов к библейскому толкованию. В следующей главе я рассмотрю разнообразные подходы к ветхозаветной этике в мире современной науки, особенно те, которые обсуждались в последней четверти XX века.
Ранняя церковьВ своей краткой, но занимательной статье Ричард Лонгнекер (Richard Longenecker) показывает три основных подхода, или традиции, библейской герменевтики (главным образом касаясь Ветхого Завета) в первые столетия церкви, а также влияние этих подходов на протяжении всей христианской истории. [310]310
R. N. Longenecker, 'Three Ways of Understanding'.
[Закрыть]
Ни одно из произведений Маркиона не сохранилось, поэтому он известен нам только благодаря его оппонентам, таким как Ириней и Тертуллиан. Маркион писал во II веке от P. X., и его отправным пунктом было Послание к Галатам, которое он считал направленным против иудаизма и всего иудейского. Откровение Бога в Иисусе, как он считал, полностью отличалось от иудейского Бога Творца. Таким образом, он видел радикальный разрыв между иудейскими писаниями и христианским Новым Заветом. Еврейская Библия не имеет значимости и авторитета для христиан и должна быть исключена из христианских Писаний, вместе с некоторыми частями Нового Завета, которые он считал серьезно пропитанными иудейскими интересами. Неудивительно, что любой нравственный авторитет Ветхого Завета для христиан отвергался априори. Радикальное отвержение еврейских писаний Маркионом было отринуто церковью. Его нападки, тем не менее, были одним из факторов, что привел к формированию и определению канона христианских писаний, в который вошел и Ветхий Завет.
Христианская академия в Александрии процветала с конца II до середины III века. Самыми заметными фигурами были Климент и Ориген. Ориген, написавший много трудов, имел большое влияние. Он различал букву и дух Ветхого Завета, выявляя духовное значение и намерение текста. Он не отрицал историческое и буквальное значение Ветхого Завета, но доказывал, что зачастую буквальное значение рассказа или заповеди было просто невозможным,и приходил к заключению, что желаниеДуха состоит в том, чтобы читатель искал скрытый духовный смысл. Бог мог использовать исторические рассказы, чтобы учить духовным истинам, а также мог вкладывать в повествование то, чего не происходило в действительности, или в закон то, что не было исполнено. Таким образом читатель был вынужден искать высший божественный смысл. [311]311
См. Froehlich, Biblical Interpretation,pp. 62–64.
[Закрыть]
Ориген также говорил о различии двух законов – церемониального и нравственного (хотя в своем комментарии на Послание к Римлянам он перечисляет шесть способов использования Павлом понятия «закон»!). Первый был исполнен во Христе, а второй остался и был усилен Христом. Это различие, впоследствии расширенное введением третьей категории, гражданского или судебного права Израиля, остается основным герменевтическим подходом к ветхозаветному закону до настоящего времени.
Поскольку главной характеристикой Александрийской школы было убеждение, что духовный смысл уже находился в тексте Ветхого Завета, заложенный туда Духом, им надо было найти способ добраться до этого скрытого значения и раскрыть его. Предложенным решением стал аллегорический метод толкования. Хотя именно этот метод и прославил Александрийскую школу, не следует забывать, что метод был всего лишь инструментом, который позднее забраковывали и корректировали наследники этой же традиции. Самым важным наследием Александрии в отношении ветхозаветной герменевтики была предпосылка преемственности и слаженности двух заветов. Ввиду того, что еврейские писания вдохновлялись тем же Духом что и новозаветные писания, они также имеют христианскую духовную значимость. Это привело к достаточно статичному восприятию Библии, и, как результат, историческому развитию заветов уделялось мало внимания.
Соперничающая школа Антиохии процветала в IV и V вв. от P. X. Она знаменита такими личностями, как Иоанн Златоуст, Феодор Мопсуэстийский, Феодрит и Диодор Тарский.
В то время как Александрия подчиняла буквальный, исторический смысл Ветхого Завета высшему, нравственному и духовному смыслу (allegoria),Антиохия отдавала предпочтение истории, а поиск высших принципов ставила на второе место. В отношении подобных вторичных принципов они использовали понятие theoriaили anagoge.Они настойчиво противостояли аллегорическим методам Александрии, а также подвергали сомнению александрийское разделение закона.
Златоуст доказывал, что с приходом евангелия Христова в мир явилась абсолютно новая реальность. В свете этого он не соглашался, что ветхозаветный закон имел продолжающийся нравственный авторитет для христиан. Даже то, что позволял закон в Ветхом Завете, могло быть отвергнуто христианами из–за новизны жизни во Христе. Он применял этот тезис к рабству, будучи первым, кто предположил, что, хотя Ветхий Завет допускал рабство, христиане должны отвергнуть его, учитывая Гал. 3, 28. [312]312
См. Longenecker, 'Three Ways of Understanding', p. 27.
[Закрыть]
Тем не менее, Диодор Тарский в своем комментарии на Псалтырь отмечал нравственную значимость Ветхого Завета, если она основывается на исторической реальности и буквальном прочтении текста. Он отрицал всякую аллегорию. [313]313
См. Froehlich, Biblical Interpretation,p. 82.
[Закрыть]Феодор Мопсуэстийский в своем комментарии на Послание к Галатам делает особый упор на значение двух заветов, через Моисея и через Христа, и устанавливает четкую разницу и контраст между законом и евангелием. [314]314
Ibid.,pp.98ff.
[Закрыть]
Таким образом, Антиохийская школа придавала большое значение историческому развитию в Писании и важности искупительного исполнения Ветхого Завета в Новом. Это привело к более гибкому пониманию учения об авторитете Писания, – ветхозаветные воззрения рассматривались в свете воплощения, прихода с Божьим царством во Христе всего нового. И Александрия, и Антиохия верили в преемственность между заветами, но Александрия видела схожесть и трактовала так, что Ветхий Завет говорил по–христиански, а Антиохия видела развитие и позволяла Новому Завету превосходить Ветхий Завет там, где это было необходимо.
Далее, Лонгнекер утверждает, что с того времени эти три подхода к Ветхому Завету проявлялись в разных церковных традициях. Дух Маркиона, хотя он и был официально отвержен церковью, витал в герменевтических традициях на протяжении веков, проявляясь в антиномистских тенденциях радикального крыла Реформации, антиисторическом экзистенциализме Бультмана (Bultmann) и его соратников, а также (по совершенно другим богословским причинам) в современном диспенсационализме. И это только богословские движения. Многие церкви на практике являются маркионистскими в своем абсолютном пренебрежении писаниями (которые использовал сам Иисус), отказываясь читать их во время богослужения, даже когда этого требует богослужебная книга. И неудивительно, что существует такая неразбериха в отношении того, что и как Ветхий Завет может дать христианам для практической жизни.
Влияние Александрии живет в Кальвине и реформатской традиции, но не в аллегорическом рассмотрении еврейской Библии, которое Кальвин напрочь отрицал в пользу скрупулезной историко–грамматической экзегезы. Скорее оно видно в приверженности единству и преемственности Заветов, так что Ветхий Завет читается как бесспорное христианское Писание, которое следует истолковывать и исполнять в свете Христа. Ее влияние можно увидеть в акценте пуритан на «третьем (нравственном) применении» закона в христианской жизни. Статичное единство доведено до этической крайности в движении теономистов (см. ниже), которое заявляет, что нравственный авторитет Ветхого Завета применим к христианам в той же мере, как и закон к Израилю, поскольку Божий закон вневременной и универсальный. В то время как александрийцы утверждали значимость еврейского закона при помощи его аллегоризации, теономисты применяют его настолько буквально, насколько это возможно.
Антиохийская антипатия к аллегории вновь проявилась в резком отвержении Лютером средневекового схоластического богословия. Лютер также был в большей мере антиохийцем, чем Кальвин, предполагая, что новое вино евангелия обойдется без старых мехов Ветхого Завета там, где чувствовал конфликт. Там, где Кальвин искал последовательность и гармонию, Лютер довольствовался достаточно свободным и иногда непоследовательным использованием Ветхого Завета в этике, что было следствием его явного подчеркивания превосходства евангелия над законом. Что касается современных примеров антиохийского духа, думаю, что могу указать на наследников Реформации, таких как меннониты, которые обеспокоены и активно занимаются социальными проблемами. Они отмечают радикальное ученичество и имеют сильную новозаветную, мессианскую ориентацию как в богословии, так и в этике, в то же самое время подчеркивая важность отличия народа Божьего, а именно эта ценность сильно насаждается в еврейских писаниях. Итак, теперь мы обратимся к великим умам Реформации.
Эпоха Реформации
Как библейский толкователь, Мартин Лютер унаследовал средневековый инструментарий экзегезы, который включал среди прочего аллегорический метод, развившийся в Западной церкви, особенно в Северной Африке. Ранние издания его комментария на Послание к Галатам выдают это александрийское влияние. Тем не менее, он пришел к полному отвержению (если не на практике, то в принципе) аллегорического метода, и использовал более антиохийский подход, как в богословии, так и в экзегезе. Это, несомненно, было тесно связано с его собственным опытом открытия новозаветного евангелия. Потрясающий опыт освобождения евангелием от мук совести, которые, как считал Лютер, на него навлек закон и гнев Божий, привели его к фундаментально христоцентричному подходу во всем, включая библейскую герменевтику. Это вылилось в динамичное, исторически дифференцированное использование Ветхого Завета. С одной стороны, Лютер никогда не отказывался от Ветхого Завета как от важного для христианской веры, но, с другой стороны, он определенно подчинил его Новому Завету и своему собственному пониманию благодати и спасения. Это привело к непоследовательному использованию Ветхого Завета. Иногда он мог учить некоторым обязанностям, основываясь на ветхозаветном законе и историях; в другое же время он призывал христиан быть свободными от излишней скрупулезности (например, в отношении к монашеским обетам) именно потому, что они находятсяв Ветхом Завете, а христианин не должен вести себя, как иудей! [315]315
Очень полезное обсуждение этой особенности Лютера, с иллюстрациями и полными библиографическими подробностями, подается в D. F. Wright, 'Ethical Use of the Old Testament'. См. также G. O. Forde, 'Law and Gospel'; Bloesch, Freedom for Obedience,chs. 7–8.
[Закрыть]
Лютер считал, что ветхозаветный закон имел гражданское применение, подобно ограде, он функционировал как ограничение человеческого греха в израильском обществе. Он также видел его духовное применение: подобно зеркалу, он обличает грех и таким образом приводит нас через ужас и осуждение к покаянию и евангелию. Это второе использование для Лютера является главной целью закона с точки зрения христиан. В отношении того, принимал ли Лютер когда–либо «третье применение» закона – как нравственное руководство для живущих ныне христиан, нравственный авторитет для верующих – ведутся споры. Похоже, он отрицал подобный нравственный авторитет закона, в том смысле, что христиане обязаны повиноваться ему. Но в то же самое время на практикеон широко использовал Ветхий Завет в своих катехизисах,когда рассматривал требования к христианскому поведению. Большая часть его учения основывается на Декалоге. Лютер лишает заповеди иудейского колорита и истолковывает их свободно в христианских терминах, но основывается на четкой предпосылке, что Десять заповедей все еще авторитетны направлять христианское поведение, несмотря на то, что он относит их к естественному закону. То есть в тех случаях, когда христианин нравственно связан авторитетом закона, речь идет не о законе, данном через Моисея, но о том законе, который просто отображает широкую нравственную волю Бога в творении.
Чрезвычайно важно то, что для Лютера закон предшествует евангелию, и решительно отличается от него (это с тех пор остается характерным для лютеранского богословия и этики). Здесь присутствует антиохийская модель: новые события истории спасения во Христе перевешивают и вытесняют все, что было прежде. Таким образом, Лютер может быть свободен не только от рассмотрения законов, но также и повествований Ветхого Завета. Он может участвовать в любопытной защите нравственно сомнительных поступков великих героев Ветхого Завета (например, ложь Авраама Авимелеху о Сарре), если может показать, что они действовали по вере в Божье обетование. В этом смысле благодать многообразно покрывает множество грехов.