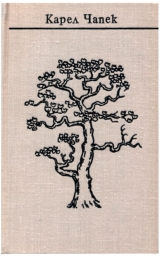
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 42 страниц)
Бигл нажимает на дверь, и с чердака проливается золотой кукурузный дождь.
– Я надеюсь, вам не трудно будет подняться наверх, господа? – учтиво говорит Бигл.
Чердак завален кукурузой, хочется валяться и прыгать в ней. А вот и оконце. Это через него-то якобы вылез Манья?
– Но ведь окошко заперто изнутри на задвижку, – говорит один из присяжных, деловито оглядывая чердак. – Если здесь со дня убийства никого не было, Манья не мог выбраться через это окно.
И в самом деле не мог, на подоконнике стоит целая батарея каких-то запыленных склянок и жестянок, видно, копившихся годами. Чего только не берегут мужики! Вылезая через окно, Манья должен был сперва убрать весь этот хлам, не правда ли? Ну конечно! А что там внизу, под окном?
– Под нами комната, где произошло убийство, а перед избой садик. Прошу вас проследовать за мной.
Суд степенно направляется в садик. В одном из окон внизу выставлена рама.
– Вот здесь, не угодно ли, было вырезано отверстие в стекле. Прямо над нами оконце чердака, через которое якобы выскочил Манья. – И Бигл добавляет скромно: – Сразу же после убийства я тщательно осмотрел садик и не обнаружил под окном ни одного следа. А грядки были только что вскопаны, и накануне шел дождь…
Председатель суда одобрительно кивает.
– Штепан явно лжет. Но вам бы следовало сразу же после убийства заглянуть на чердак.
Бигл щелкает каблуками.
– Господин судья, я не хотел рассыпать кукурузу. Но для верности я тотчас же забил дверь на чердак гвоздиками, так что туда никто не мог попасть. Сегодня утром я эти гвоздики вынул, а на двери прикрепил кусок нитки.
Председатель доволен.
– Отлично, отлично, я вижу, вы обо всем позаботились, господин… господин…
Бигл выпятил грудь.
– Младший полицейский Бигл!
Еще один милостивый кивок.
– Между нами говоря, господа, нет никаких сомнений в том, что Манья лжет. Однако, поскольку мы здесь, вам, наверное, небезынтересно будет заглянуть в избу?
Из-за стола встает рослый, плечистый, медлительный крестьянин. Семья обедает.
– Это Михаль Гордубал, брат покойного. Он временно хозяйствует тут…
Михаль Гордубал низко кланяется господам.
– Аксена, Гафия, живо подайте господам стулья.
– Не надо, хозяин, не надо. А почему вы не вставите новую раму, холодно ведь, сквозит из окна.
– А зачем новую? В суде рама-то, жалко покупать другую.
– Так, гм… Я вижу, вы заботитесь о Гафии. Она умный ребенок, берегите ее хорошенько, сиротку. Это ваша жена, не так ли?
– Верно, господин, верно. Деметрой звать, Ивана Вариводюка дочка, из Магурице.
– Вижу, вы ждете прибавления семейства.
– Ждем, ждем, коли пошлет господь, да святится имя его.
– А нравится ли вам в Кривой?
– Нравится, – говорит Михаль и машет рукой. – Простите, господа, а нельзя ли и мне на работу в Америку?
– Как Юрай?
– Как он, покойник, дай ему, господь, царствие небесное.
И Михаль провожает господ к воротам.
Суд возвращается в город. (Н-но, лошадки, н-но, важных гостей вы везете! А деревня похожа на Вифлеем, ей-богу!)
Судья наклоняется к прокурору.
– Еще не поздно, коллега. Не закончить ли нам с этим делом на вечернем заседании? Ведь сегодня разговоров будет меньше, чем вчера…
Прокурор слегка краснеет.
– Сам не знаю, что со мной вчера сделалось. Говорил точно в трансе. Словно я не прокурор, а мститель. Хотелось греметь, проповедовать…
– Мне показалось, что я в храме, – задумчиво произносит председатель. – Вся публика затаила дыхание. Странные люди… Я тоже чувствовал, что мы судим нечто большее, чем преступление, – мы судим грех…
Слава богу, сегодня в зале будет пусто. Сенсация миновала. Все пойдет как по маслу.
Все пошло как по маслу. На вопрос – виновен ли Штепан Манья в предумышленном убийстве Юрая Гордубала? – присяжные восемью голосами ответили «да» и четырьмя «нет».
И на вопрос – виновна ли Полана Гордубалова в соучастии в убийстве? – ответили «да» всеми двенадцатью голосами.
На основании этого вердикта присяжных суд приговорил Штепана Манью к пожизненному тюремному заключению, а Полану Гордубалову, урожденную Дурколову, – к заключению сроком на двенадцать лет.
Полана стоит как неживая, подняв голову. Штепан Манья громко всхлипывает.
– Уведите их!
Сердце Юрая Гордубала затерялось и так и не было погребено.
Метеор
© Перевод Ю. Молочковского
I
Резкий ветер налетает порывами, гнет деревья в больничном саду. Деревья страшно волнуются, они в отчаянии, они мечутся из стороны в сторону, как толпа, охваченная паникой. Вот они замерли, дрожа: ого, как нам досталось! Тише, тише, разве вы ничего не слышите? Бежим, бежим, сейчас он налетит снова…
Молодой человек в белом халате прохаживается, покуривая, по саду. Скорее всего, это молодой врач. Ветер развевает его красивые волосы, белый халат плещется, как флаг. Трепли, ерошь их, буйный ветер! Ведь девушки тоже любят растрепать эту пышную шевелюру… Какая уверенная посадка головы, какая молодость и нескрываемое самодовольство!
По дорожке бежит молодая сестра, платье липнет под ветром к ее красивым ногам. Обеими руками она придерживает волосы, глядя снизу вверх на растрепанного, рослого врача и что-то быстро говорит ему. Ну, ну, сестра, зачем же такой взгляд и эти волосы…
Молодой врач эффектным жестом отбросил сигарету и, прямо по газонам, зашагал к корпусу. Ага, кто-то из больных умирает! Потому и надо идти тем самым медицинским шагом, в котором есть поспешность, но нет растерянности. Врачебную помощь требуется оказать спокойно и рассудительно. А поэтому, молодой человек, не спешите чрезмерно к ложу умирающего! Ты же, сестричка, беги скорей, беги легким шагом, в котором чувствуется забота и усердие. Кстати говоря, от этого несколько выигрывают твои прелести. Хорошая девушка, скажут люди, жаль, что такая пропадает в больнице.
Значит, там кто-то при смерти. Под вой ветра и шум мечущихся деревьев умирает человек. В больнице привыкли к смерти, но все-таки… Горячая рука шарит по белому одеялу. Жалкая, беспокойная рука, за что ты хочешь ухватиться, что хочешь оттолкнуть? Что, никто тебя не берет? Ну, ну, ладно, я здесь, не бойся, не ищи. Уже нет того страшного одиночества, которое тебя так пугает. Молодой врач наклоняется, волосы падают ему на лоб, он берет встревоженную руку, щупает запястье и бормочет:
– Пульс нитевидный, агония. Поставьте здесь ширму, сестра.
Но нет, мы не посадим этого легкомысленного юнца к постели человека, умирающего под раскаты небесного органа, под звуки vox coeli, vox angelica[43]43
голос небесный, голос ангельский (лат.)
[Закрыть] и скорбных людских голосов. Нет, сестричка, это не exitus, это только припадок, скажем сердечный. Холодный пот и беспокойство – это страх, вызванный ощущением удушья. Впрыснем ему морфий, и он уснет…
Писатель отворачивается от окна.
– Доктор, – спрашивает он, – что это за корпус, там напротив.
– Терапевтический, – ворчит хирург, не сводя глаз с пламени спиртовки. – А что?
– Просто так, – отвечает писатель, снова устремив взгляд в окно, на кроны деревьев, раскачиваемые ветром. Стало быть, это сестра из терапевтического. А я то уже начал воображать, как у нее дрожат губы, когда она стоит у кровавого стола в операционной. «Возьмите это, сестра, и дайте вату… Вату!» Все происходит совсем не так. Она торчит около больного как кукла (потому что еще неопытна) и глядят на растрепанную шевелюру молодого человека в белом халате. Ну, ну, все понятно! Она влюблена в него по уши и часто заходит к нему в кабинет. Какой красавчик, какой самоуверенный лохматый фанфарон! Не бойся, девочка, с тобой ничего не случится, я ведь врач и знаю что к чему.
Писатель раздосадован. Знаем, в чем дело: каждому мужчине знакома эта досада и злость при виде привлекательной женщины, которая принадлежит другому. Сексуальная зависть или ревность, скажем так. Надо будет подумать, не основана ли вообще половая мораль на нашем недовольстве тем, что какие-то другие люди наслаждаются друг другом… У нее красивые ноги… как их обрисовал ветер! В этом все дело. А я сейчас же выдумал черт знает что! Я слишком пристрастен…
Писатель не в духе. Хмурясь, глядит он, как ветер ломает деревья. Сколько напрасных усилий, боже мой! Как тоскливо от этого ветра!
– Что? – переспрашивает хирург.
– Как тоскливо от этого ветра.
– Да, он действует на нервы, – соглашается хирург. – Давайте лучше выпьем кофе.
II
В комнате пахнет карболкой, кофе и табаком. Крепкий, добрый мужской запах, вроде лазаретного. Или нет, постойте, как в карантине. Кубинский табак, кофе из Пуэрто-Рико и буря на Ямайке. Жара, ветер, пальмы гнутся и потрескивают на ветру… «Семнадцать новых больных, доктор. Мрут как мухи». – «Полейте все креолином, принесите хлорную известь, пошевеливайтесь же! И охраняйте все выходы, никого не выпускать, у нас эпидемия. Да, никто из нас не выйдет отсюда живым…» Писатель улыбается своим мыслям. Только вот что, доктор, распоряжаться в таком случае придется мне, автору. Бой веду я, старый колониальный лекарь, закаленный ветеран борьбы с эпидемиями. А вы будете моим научным сотрудником. Или нет, лучше не вы, а тот молодой, лохматый терапевт. «Ну-с, молодой человек, у нас семнадцать новых больных, отличный научный материал. Как поживают ваши бактерии?» У молодого человека глаза от страха вылезли из орбит, пряди волос падают на лоб. «Доктор, доктор, я, кажется, заразился». – «А, стало быть – восемнадцатый случай. Уложите его. Эту ночь, сестра, около него буду дежурить я…» Ах, как эта девушка смотрит, как она смотрит на его волосы, слипшиеся от пота. Ясно, она его любит. Глупая девчонка! Если я уйду, она, чего доброго, поцелует его и подхватит заразу. Как шумят и потрескивают под ветром эти растрепанные ореодоксы!.. Горячая рука, за что ты хочешь ухватиться? Не тянись к нам, мы ничего не знаем, мы ничего не можем… Дай мне руку, я поведу тебя, чтобы ты не боялся… «Пульс нитевидный, агония. Поставьте здесь ширму, сестра…»
– С сахаром? – спросил хирург.
Писатель очнулся от дум.
– Что?
Врач молча поставил перед ним сахарницу.
– Ох, и работы было сегодня! – заметил он. – Скорей бы в отпуск.
– Куда вы поедете?
– Охотиться.
Писатель внимательно посмотрел на немногословного хирурга.
– Съездили бы куда-нибудь подальше – поохотиться на тигров и ягуаров. Пока они еще не перевелись.
– Я не прочь.
– Послушайте, а вы представляете себе, как выглядят эти места? Можете вообразить… ну, скажем, рассвет в джунглях? Щебет неведомых птиц, похожий на звуки ксилофона, аромат рома и масла…
Хирург покачал головой.
– Ничего я не представляю. Черт побери, я все это должен видеть, понимаете, видеть. – И он добавил, прищурясь: – Когда на охоте стреляешь, то смотришь в оба.
Писатель вздохнул.
– Вам хорошо, друг мой. А я всегда смотрю и все время при этом фантазирую. Вернее, фантазия вдруг начинает работать самостоятельно, в воображении разыгрываются какие-то сцены, действие идет само по себе… Ну, конечно, я вмешиваюсь: советую, поправляю и прочее. Понимаете?
– А потом все это излагается на бумаге? – бурчит хирург.
– Что вы! Обычно нет. Такой вздор! Вот сейчас, пока вы варили кофе, я выдумал две глупейшие истории о вашем курчавом коллеге из терапевтического отделения. А скажите, пожалуйста, – спросил вдруг писатель, – что он за человек?
Хирург поколебался.
– Ну, – выговорил он наконец, – чуточку фанфарон… Очень самонадеян – как все молодые врачи. А в общем, – он пожал плечами, – не знаю, что может быть в нем интересного для вас.
Писатель не удержался.
– А нет ли у него романа с этой маленькой медсестрой?
– Не знаю, – проворчал хирург. – Вам-то какое дело?
– Никакого, – хмуро согласился писатель. – Да и вообще – какое мне дело до реальной действительности? Вы думаете, что мое ремесло – выдумывать, сочинять, забавляться?.. – Он наклонил массивные плечи. – В том и беда, что для меня чрезвычайно важна действительность! Потому-то я ее и выдумываю; потому я все время должен что-то сочинять, добираясь до сути вещей. Мне мало того, что я вижу, я хочу знать больше; для того и сочиняю всякие небылицы. Имеет ли это какой-нибудь смысл? И при чем тут действительная жизнь? Вот я сейчас начал писать… М-да, начал писать, – повторил он рассеянно. – Я понимаю, что это… только вымысел. Уж я-то знаю, что такое вымысел, как он делается. Скажем, одна доля действительности, три доли фантазии, две доли логических комбинаций, а остальное – хитроумный расчет: надо, чтобы была новизна и созвучность эпохе, надо, чтобы что-то решалось или доказывалось, а главное, чтобы было интересно. Но вот что самое странное, – воскликнул писатель, – все эти трюки, вся эта ничтожная литературщина создают в человеке, который ими занимается, страстную навязчивую иллюзию, будто бы все это происходит на самом деле. Представьте себе фокусника, который извлекает из цилиндра кроликов и сам верит, что это не фокус и не трюк. Какое сумасбродство!
– Вам что-то не удалось, а? – сухо спросил хирург.
– Не удалось. Однажды вечером я шел по улице и вдруг слышу сзади женский голос: «Так ты со мной не поступишь…» Только эти слова – ничего больше, может быть, это мне даже послышалось. «Ты так со мной не поступишь…»
– Ну, а дальше? – помолчав, спросил врач.
– Что же дальше? – нахмурился писатель. – К этим словам я сочинил целую историю. Женщина была права. Понимаете, изнуренная, озлобленная, несчастная женщина. Вы и не представляете себе, в какой нужде живут эти люди!.. Но она была права, она – это воплощение семьи, домашнего очага, в общем, воплощение порядка. А он… – писатель махнул рукой, – бесчестный, безалаберный человек, тупой и стихийный бунтарь, лентяй и грубиян…
– А чем это кончилось?
– Что?
– Чем это кончилось? – терпеливо повторил хирург.
– Не знаю. Но она должна быть права. Во имя всего на свете, во имя всех божеских и человеческих законов, она должна быть права. Понимаете, все зависело от того, что она права. – Писатель крошил пальцами кусочек сахару. – Но этот тип вбил себе в голову, что он тоже прав.
И чем ужаснее и строптивее он становился, тем больше считал себя правым. Понимаете, оказывается, он тоже страдал. Ничего не поделаешь! Как только он начинал жить настоящей жизнью, он не давал командовать собой и жил по-своему, трудно и упрямо. – Писатель пожал плечами. – Знайте же, что в конце концов я сам стал этим беспутным и отчаянным бродягой. Чем сильнее он страдал, тем больше я чувствовал себя в его шкуре… А вы говорите – вымысел!
Писатель отвернулся к окну, – есть вещи, о которых легче говорить, отвернувшись.
– Не получается у меня этот сюжет, надо от него избавиться. Мне хотелось бы… хотелось бы отвлечься как-нибудь… позабавиться чем-нибудь нереальным, что не имеет решительно ничего общего с действительностью и со мной самим. Отделаться бы наконец от этого гнетущего перевоплощения. Почему, скажите, пожалуйста, я должен переживать чужие горести? Мне хотелось бы фантазировать о чем-нибудь далеком, бессмысленном… Словно пускать мыльные пузыри…
Зазвонил внутренний телефон.
– Так почему же вы этого не сделаете? – спросил хирург, снимая трубку, но у него не было времени дожидаться ответа. – Алло! – сказал он. – Да, у телефона… Что? Но… Так несите его в операционную… Конечно… Я сейчас приду… Привезли кого-то, – объяснил он, вешая трубку. – С неба свалился; иначе говоря, упал и сгорел самолет. Еще бы, черт возьми, в такую бурю… Говорят, пилот весь обуглился, а тот другой… бедняга… – Врач помедлил. – Придется мне вас покинуть. Погодите, я пришлю сюда одного пациента. Интересный случай. То есть с медицинской точки зрения весьма заурядный: я вскрывал ему абсцесс на шее. Но он ясновидец. Тяжелый невропат и прочее. Вы ему не очень-то верьте.
И, не слушая протестов гостя, хирург выскочил за дверь.
III
И это ясновидец? Унылая фигура в полосатой пижаме, голова набок, шея забинтована – ну и жалок ты, бедняга! Пижама висит на нем, как на вешалке. Ясновидец нетвердой походкой подходит к столу и дрожащими, негнущимися пальцами зажигает сигарету. До чего же близко поставлены у него ввалившиеся глаза! До чего рассеянный и застывший взгляд!
«Нечего сказать, милого собеседника подсунул мне доктор! О чем только разговаривать с эдаким страшилищем? О, конечно, только на потусторонние темы! Думается, что с загробными личностями было бы нетактично заводить разговор о последних событиях».
– Ну и ветер! – заметил ясновидец.
Писатель вздохнул с облегчением: будь благословенна погода, эта спасительная тема для разговора, когда людям нечего сказать друг другу. «Ну и ветер», – говорит, а сам даже не взглянул, как безжалостно за окном буря гнет деревья. Еще бы – ясновидец! Зачем ему глядеть в окно: уставится на кончик своего длинного носа и уже знает, что на улице бушует буря. Ну и дела! Говорите что угодно, а это и есть то самое второе зрение…
Надо было видеть эту парочку: писатель, приподняв массивные плечи и выпятив подбородок, с бесцеремонным любопытством и даже с откровенной неприязнью разглядывает склоненную голову, узкую грудь и тонкий, торчащий нос человека, сидящего напротив. Уж не укусит ли он сейчас ясновидца? Нет, не укусит. Во-первых, из чисто физической брезгливости, а во-вторых, потому, что это ясновидец и в нем есть что-то непонятное и отталкивающее. А ясновидец, по-птичьему наклонив голову, глядит перед собой и ничего не замечает. Между обоими залегло напряженное, антагонистическое отчуждение.
– Сильная личность, – пробормотал ясновидец, словно обращаясь к самому себе.
– Кто?
– Тот, которого привезли. – Ясновидец выпустил струйку дыма. – В его душе страшное напряжение, я бы сказал, пламя, пожар, вулкан… Ну, сейчас, понятно, это лишь догорающее пожарище.
Писатель усмехнулся – ему претили всякие возвышенные и неточные выражения.
– И вы тоже слышали об этом? – сказал он. – Горящий самолет и все прочее.
– Самолет? – рассеянно переспросил ясновидец. – Значит, он летел? Подумать только, в такую бурю! Как раскаленный метеор, которому суждено сгореть. К чему такая спешка? – Ясновидец покачал головой. – Не знаю, не знаю. Он в беспамятстве и не сознает, что с ним произошло… Но ведь по виду почерневшего очага можно догадаться о высоте пламени. Как в нем все выжжено. И как все еще раскалено!
Писатель раздраженно фыркнул. Нет, это хворое чучело попросту невыносимо. Еще бы не раскалено, если известно, что пилот сгорел заживо. А у этого полосатого чучела не нашлось даже словечка сожаления. Впрочем, кое в чем он прав, зачем пострадавший летел в такую бурю?
– Любопытно! – бормотал ясновидец. – Да еще издалека! Пересек океан. Странно – человек всегда сохраняет отпечаток тех мест, где он только что был. Этот человек несет на себе отпечаток морских просторов.
– По чему же это заметно?
Ясновидец пожал плечами.
– Просто отпечаток моря и далей. Он, должно быть, много путешествовал. Вы не знаете, откуда он?
– Это вы могли бы узнать и сами, – сказал писатель предельно язвительным тоном.
– А как узнать? Ведь он в беспамятстве и ничего не сознает. Могли бы вы прочитать закрытую книгу? Это, правда, возможно, но трудно, чрезвычайно трудно.
– Читать закрытую книгу? – проворчал писатель. – Я бы сказал, что такое занятие по меньшей мере ни к чему.
– Для вас, – сказал ясновидец, скосив глаз куда-то в угол, – Да, вам это ни к чему. Вы писатель, не правда ли? Так будьте довольны, что вы не нуждаетесь в точном мышлении и не пробуете читать закрытые книги. Ваш путь легче.
– Что вы имеете в виду? – Писатель воинственно подался вперед.
– Именно то, что сказал. Сочинять и познавать – разные вещи.
– А из нас двоих вы именно тот, кто познает, не так ли?
– На сей раз вы угадали, – ответил ясновидец и кивнул, как бы поставив носом точку и прекращая этим разговор.
Писатель усмехнулся.
– Мне кажется, у нас едва ли найдется общий язык. Я ведь только сочиняю, выдумываю, что мне взбредет в голову, верно? Из чистой блажи и прихоти.
– Я знаю, – перебил его ясновидец, – вы тоже думали о человеке, упавшем с неба. Вы тоже представляли его над океаном. Знаю. Но вы пришли к этому логическим путем: большинство авиалиний ведут к портам. Абсолютно поверхностное заключение, сударь. Из того, что он мог перелететь океан, не следует, что он действительно его перелетел. Типичное non sequitur[44]44
ложное заключение (лат.)
[Закрыть]. Действительность нельзя подменять возможностью. Но знайте же, – сердито воскликнул ясновидец, – этот человек действительно прилетел из-за океана. Я это знаю.
– Откуда?
– Очень просто: из анализа впечатлений.
– А вы его видели?
– Нет, не видел. Мне не нужно видеть скрипача, чтобы знать, что он играет.
Писатель в раздумье погладил затылок.
– Впечатление моря… У меня оно, наверное, возникло потому, что я вообще люблю море. Но я не думаю сейчас о морях, которые я видел. Мне грезится море, теплое и густое, как масло; у него жирный блеск. Оно покрыто водорослями и похоже на луг. Иногда из воды выскакивает что-то блестящее и тяжелое, как ртуть.
– Это летучие рыбы, – откликнулся ясновидец, словно отвечая на собственные мысли.
– Черт вас побери! – пробормотал писатель. – Вы правы, это на самом деле летучие рыбы!
IV
С тех пор как ушел хирург, прошло немало времени. Наконец он вернулся и рассеянно проворчал:
– А, вы еще здесь!
Ясновидец уставился в пространство, куда был устремлен его меланхолический нос.
– Тяжелое сотрясение мозга, – сказал он. – Очевидно, повреждены внутренние органы. Трещина в черепной коробке и перелом нижней челюсти. Ожоги второй и третьей степени на лице и руках. Fractura claviculae[45]45
перелом ключицы (лат.)
[Закрыть].
– Совершенно верно, – задумчиво согласился хирург. – Надежды мало. А вы-то откуда знаете?
– Вы сейчас думали об этом, – ответил ясновидец, словно оправдываясь.
Писатель нахмурился. Ну тебя к черту, фокусник. Не собираешься ли ты поразить меня своим трюком? Да если бы ты даже угадывал чужие мысли слово за словом, я тебе не поверю, не жди.
– Собственно, кто он такой? – спросил он, чтобы переменить тему разговора.
– Кто его знает, – ответил доктор. – Документы сгорели. В карманах у него оказались французские, английские и американские монеты. И голландские центы. Может быть, он летел через Роттердам? Но это был не рейсовый самолет.
– А сам он ничего не сказал?
Хирург покачал головой.
– Где там! Полная потеря сознания. Я не удивлюсь, если он вообще больше не заговорит.
Наступила гнетущая пауза. Ясновидец встал и поплелся к дверям.
– Закрытая книга, а? – произнес он.
Писатель мрачно смотрел ему вслед, пока тот не исчез в коридоре.
– Вы действительно думали так, как он сказал, доктор?
– Что?.. А, ну да, разумеется. Это диагноз, который я только что продиктовал. Не нравится мне такое чтение мыслей. Ведь это разглашение врачебной тайны.
Этим, по-видимому, для него вопрос был исчерпан.
– Да ведь он шарлатан! – не сдержался писатель. – Никто не может читать чужие мысли. В какой-то степени их можно разгадать логическим путем… Вот, например, когда вы вошли, я сразу понял, что вы думаете о… человеке из самолета. Я видел, что вы озабочены и в чем-то сомневаетесь, что положение больного очень серьезно. А, – подумал я про себя, – погоди-ка, наверно, у этого пациента повреждены внутренние органы.
– Как вы узнали?
– Путем логических умозаключений. Я вас знаю, доктор, вы не рассеянный человек. Но когда вы вошли, то сделали вот такое движение, будто расстегивали операционный халат, которого на вас уже не было. Ясно, что мысленно вы еще были около пациента. Понятно, – сказал я себе, – что-то не дает ему покоя. Наверно, то, что он не мог ни видеть, ни прощупать, – вернее всего, повреждение внутренних органов.
Хирург хмуро кивнул.
– Но ведь я на вас смотрел, – продолжал писатель. – В этом весь фокус: смотреть и рассуждать. Честная работа. А ваш кудесник, – презрительно проворчал он, – смотрит на кончик своего носа и рассказывает, о чем вы думаете. Я внимательно следил, он даже не взглянул на вас. Просто… противно!
И снова тишина, лишь за окном завывает ветер.
– Вы и сейчас думаете о раненом, доктор. Скажите, в нем есть что-то необыкновенное, да?
– У него ведь нет лица, – тихо ответил хирург. – Сильные ожоги… Ни лица, ни имени, ни сознания. Если бы я хоть что-нибудь мог узнать о нем!
– Или вот еще что: почему он летел в такую бурю? Куда он так торопился? Что боялся потерять?.. Что так нетерпеливо и бессмысленно гнало его вперед? Ясно, он не страшился смерти. «Я заплачу вдесятеро, если вы возьметесь доставить меня, пилот. Западный ураганный ветер? Тем лучше, значит, полетим быстрее!» При нем ничего не оказалось?
Хирург отрицательно покачал головой.
– Что ж, пойдемте посмотрим, если он не дает вам покоя, – решился он неожиданно и встал.
Сестра милосердия, сидевшая у постели больного, с трудом поднялась. У нее толстые отекшие ноги и плоское невыразительное лицо – старая, заезженная медицинская лошадь. Старик на соседней койке равнодушно отвернулся, он был слишком занят собственными страданиями, чтобы перешагнуть пропасть, которая обычно лежит между больными и всеми прочими людьми.
– Все еще не пришел в себя, – доложила сестра и сложила руки на животе; видно, так полагается стоять монашке, когда она, как старый солдат, рапортует начальству. Старуха помаргивала озабоченно и сочувственно. Писателю вдруг вспомнились глаза обезьян – и ему стало стыдно. Но что поделаешь, если у этих животных они удивительно похожи на человеческие!
Итак, вот он, этот пациент. Писатель с замирающим сердцем готовился к зрелищу, от которого захочется бежать, содрогаясь и в ужасе закрыв лицо; но перед ним чистенький и почти красивый свиток бинтов, большой и тщательно свернутый клубок – чистая работа умелых рук. У клубка есть даже руки, сделанные из ваты, вощанки и марли, – большие белые лапы лежат на одеяле. Какую куклу умеют смастерить здесь из бинтов и ваты! Кто бы мог подумать!..
Писатель нахмурил брови и со свистом втянул в себя воздух. Ведь оно дышит! Едва-едва приподнимаются и опускаются белые лапы на одеяле. Черное отверстие в бинтах, – это, наверно, рот. А что это за темное пятно под нежным венчиком ваты… ах, боже… Нет, слава богу, это не потухшие человеческие глаза, а всего лишь опущенные веки. Было бы страшно, если бы он смотрел…
Писатель наклонился над искусной перевязкой, и вдруг углы закрытых глаз пациента дрогнули. Писатель отшатнулся, ему стало жутко.
– Доктор, – прошептал он, – он не проснется, доктор?
– Не проснется, – серьезно ответил хирург, а сиделка моргала по-прежнему сочувственно и озабоченно, так же равномерно, как капает вода.
Порыв сострадания в душе писателя улегся. Эти двое вполне спокойны, успокойся же и ты, успокойся, все в порядке. Так же равномерно, как капает вода, поднимается и опускается на груди пациента белое одеяло. Все в порядке, нет ни паники, ни испуга, не случилось никакого несчастья, никто не мечется, не заламывает рук. И боль утихнет, сделавшись составной частью больничной рутины… Равномерно стонет безучастный больной на соседней койке.
– Бедняга, – пробурчал хирург, – изувечен до неузнаваемости.
Сестра перекрестилась. Писатель тоже с радостью осенил бы крестом голову пострадавшего, но постеснялся и смущенно взглянул на врача. Тот кивнул: «Пошли». Они на цыпочках вышли из палаты. Говорить не о чем: пусть теперь сомкнется гладь тишины и порядка, пусть ничем не нарушится равновесие молчания. Тише, тише, мы покидаем что-то удивительное, строгое и достойное.
Только у ворот больницы, где начинается шум и суматоха обыденной жизни, хирург произнес задумчиво:
– Странно, ведь нам о нем ничего не известно. Придется записать его как пациента Икс. – Он махнул рукой. – Лучше не думать о нем.
V
Вторые сутки пациент Икс не приходит в сознание, температура лезет вверх, а сердце слабеет. Сомнения нет – жизнь по каплям уходит из этого тела. Боже, какая забота! Как заткнуть щель, если неизвестно, где она? Остается лишь смотреть на безмолвное тело, у которого нет ни лица, ни имени, ни даже ладони, на которой можно прочитать следы минувшего. Будь у него хоть имя, хоть какое-нибудь имя, в нем не было бы чего-то… чего, собственно? Ну, тревожащего, что ли. Да, да, это называют загадочностью.
Сестра милосердия, кажется, избрала этого безнадежного пациента предметом своей особой заботы. Усталая, она сидит на жестком стуле у ног больного, в головах которого на табличке нет имени, а только написан по-латыни диагноз; она не сводит глаз с белой, слабо и прерывисто дышащей куклы. Старуха, видимо, молится.
– Ну-с, почтеннейшая, – без улыбки обращается к ней хирург. – Тихий пациент, не так ли? Что-то он вам очень уж по душе.
Сестра милосердия быстро заморгала, словно собираясь оправдываться.
– Да ведь он один-одинешенек. Имени – и того нет… (Словно имя – опора для человека.) Он мне приснился сегодня… – продолжала она, проводя рукой по лицу. – Вдруг очнется он и захочет что-то сказать… Уж я-то знаю, ему нужно высказаться. – У хирурга готово было сорваться с языка: «Сестричка, этот человек не скажет больше даже „покойной ночи“», – но он промолчал и ласково потрепал сиделку по плечу. В больнице не приняты многословные одобрения. Старая монашка вынула большой накрахмаленный платок и с чувством высморкалась.
– Хоть кто-нибудь будет рядом с ним, – смущенно оправдывалась она. Казалось, она нахохлилась от озабоченности, набралась еще больше терпения и уселась еще прочнее, чем прежде. Да, чтобы он не был совсем одинок!
Чтобы не был совсем одинок… Но разве с другими пациентами возятся столько, сколько с этим? Хирург раз двадцать за день пройдет по коридору, чтобы словно невзначай заглянуть в шестую палату: «Ничего нового, сестра?» Нет, ничего. То и дело кто-нибудь из врачей или сиделок сует голову в дверь: не тут ли такой-то? Но это просто предлог для того, чтобы немножко постоять у безыменного ложа. Люди переглядываются: «Бедняга!» – и на цыпочках выходят из палаты. А сестра милосердия сидит, чуть заметно покачиваясь, в своем великом безмолвном бдении.
Уже третий день – и все еще беспамятство, температура поднялась за сорок. Пациент беспокоен, его руки шарят по одеялу, он бормочет что-то невнятное. Как сопротивляется организм, хотя в нем нет ни сознания, ни воли, которые помогли бы борьбе! Только сердце стучит, словно ткацкий челнок в порванной основе: оно бегает вхолостую и уже не протаскивает нить жизни. Машина не ткет, но она еще на ходу.
Сестра милосердия не сводит глаз с постели человека, лежащего без сознания. Хирургу хочется сказать ей: «Ну, ну, сестрица, напрасно вы тут сидите, все равно это ни к чему, идите-ка лучше отдохнуть». Она моргает озабоченно, видно что-то вертится у нее на языке, но усталость и дисциплина не позволяют ей заговорить. Около этой постели вообще говорят мало и тихо. «Зайдите потом ко мне, сестра», – распоряжается хирург и идет по своим обычным делам.









