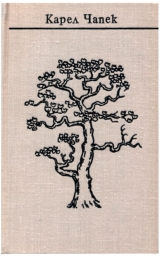
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 42 страниц)
– Как вы думаете, удастся спасти тех троих? – спросил он, когда молчание стало совсем невыносимым.
Адам почему-то долго обдумывает ответ.
– Не знаю, – бормочет он погодя.
– Хотел бы я видеть, – не унимается Станда, – что там без нас сделали.
– …Может, уже проходку начали, – выдавливает из себя Адам. – Если там воздухопровод в порядке… Вам нравится… тебе нравится работать в шахте?
– Что вы имеете в виду? – озадаченно спрашивает Станда. – Работать в завале?
– Нет, вообще, – рассеянно бормочет Адам. – Вообще работа в шахте.
– Ну, я уже привык, – браво отвечает Станда; это не совсем так, но никто не должен об этом знать.
– А мне… не по душе как-то, – медленно говорит Адам. – Мне все кажется, вроде на меня что-то падает.
– Вам страшно, когда вы спускаетесь? – изумился Станда.
– Э, страшно… Чудно мне. Вот когда я внизу работаю… тогда уж ничего такого в голову не приходит, понимаешь? Это только когда клеть вниз идет… точно проваливаешься.
– А давно вы…
– Двенадцать… двенадцать лет. Думал, со временем пройдет. – Адам почесывает длинной рукой затылок. – Я только спросить… у тебя тоже такое глупое ощущение?
Станде странно, что Адам заговорил о себе; может и мне рассказать ему что-нибудь о себе… например, что я, собственно говоря, человек ученый и только несчастное стечение обстоятельств привело меня сюда? Адам, конечно, понял бы…
Станда чувствует особую симпатию к этому высокому тихому шахтеру; ему хочется сказать Адаму что-нибудь задушевное, серьезное, что навсегда останется между ними двумя.
– У тебя, кажись, есть книжки, Станда, – с расстановкой произносит Адам. – Я раньше тоже читал; да у всякого свое… – Адам, видимо, колеблется, – не дашь ли какую Марженке…
– С удовольствием, – поспешно отвечает Станда, чтобы Адам не заметил, как в нем все дрогнуло.
– Она… много читает, – задумчиво продолжает Адам. – Понимаешь ли, я… тоже иной раз заглядываю в ее книжки, да… да непонятно мне это. – Адам остановился. – Откуда люди могут знать, о чем пишут! Вот ведь глядишь на человека… всю жизнь… и не знаешь о нем ничего, хоть тресни. Да и как… к примеру… можно догадаться, кто что думает или чувствует? А в романах… все известно. Ей-богу, не понимаю я этого… – Адам покачал головой и снова двинулся вперед. – Тебе-то легче! Ты человек ученый…
– Откуда вы знаете?
– Говорили. Однако ни к чему это, тоже когда-нибудь все позабудешь. Понимаешь, шахта… из нее не выбраться.
– Почему?
– …Не знаю. Глядишь на остальных… как на чужих, точно они из дальних стран, что ли. Мне все кажется, притронусь к чему – и испачкаю углем. И всегда так… не переборю себя ни за что… Марженка шьет ведь… А я уж и не вхожу в комнату, чтобы чего не измазать. Не знаю… тебе не кажется, как мне, что ты весь в угольной пыли?
– Кажется! – торопливо подтвердил Станда, и сердце его заныло от жалости. Бедняга Адам! Бедняга Адам, как он хочет что-то оправдать, что-то объяснить! Бедный, растерянный Адам!
Адам перевел дух.
– Вот видишь. От этого не отмоешься никогда. Может, другим это и не мешает… не знаю.
Адам замолчал и пошел еще быстрее, Станда еле поспевал за ним. Бедняга Адам! Совсем недавно он выделывал губами «пом-пом-пом» и раскачивался всем телом в такт песне, а сейчас мчится рысью, согнувшись под своим крестом. Больше нет никакой команды, остались опять только Адам и Мария, и есть Станда со своим одиночеством; каждый опять стал самим собой, каждый сам по себе, и каждый страшно одинок. Возможно, что и «пес» Андрес сейчас одинок, и Пепек, и каменщик Матула, и Суханек; все остались наедине со своими заботами или горем и спешат домой, понурив голову…
Адам останавливается у калитки своего домика.
– Я был… очень рад, – с трудом выговорил он. – Ну, доброй ночи.
И его костлявые, сухие, горячие пальцы крепко пожимают руку Станды. И Станда опять чувствует нечеловеческую усталость и… даже грусть. В темноте на цыпочках поднимается он в свою мансарду; раздеваться ему не хочется, и он сидит на краю постели… до того ему вдруг стало грустно. Внизу звякнула щеколда; заговорит ли кто-нибудь внизу, скажут ли что-нибудь друг другу эти двое, разве им нечего сказать? Тишина, где-то вдали свистит и грохочет поезд с углем. Снизу доносятся осторожные шаги, тяжело скрипнула постель Адама – и молчание сомкнулось, как черные воды омута. «Бедняга Адам, – сочувственно думает Станда, – бедняга, бедняга!» И мысли его обрываются…
XVII
Утром Станда проснулся с блаженным чувством: сегодня не нужно идти в школу. Он еще сладко потянулся и только тогда спохватился – какая там школа! А вот в шахту он спустится только в пять часов. Только в пять часов – уйма времени впереди, будто на каникулах. На улице солнечный день, хотя под утро прошел дождик; внизу щебечет канарейка и воркуют голуби, у соседей сердито кудахчет курица; и Станда поспешно вскакивает с постели, чтобы не упустить ничего из всей этой прелести. Кое-как он смочил лицо и волосы водой и бежит вон, топает по лестнице, как лошадь, и останавливается на пороге. Боже, какой чудесный день!
В садике Адам наклонился над цветами и ковыряется в клумбе. Вот он поднял голову, и на его продолговатом, худощавом лице появляется подобие улыбки.
– Доброе утро! – восклицает Станда.
Адам выпрямился.
– Здорово, Станда. Там… там тебе завтрак приготовлен.
Правда, об этом не уславливались, когда сдавали комнату, но, видно, сегодня день такой, вроде как праздничный… ну и ну, дела-то какие! Я тут уже почти как дома, – радуется Станда.
– Сейчас приду, – кричит он, – только за газетами сбегаю.
Читать утром газету – это тоже все равно что праздник. Шахтерский поселок точно вымер, мужчины работают, только мы свободны, – ну, просто чудо!
– Марженка, дай Станде позавтракать, – говорит Адам в окно, и Станда солидно идет за газетами. Солидно, еще бы! Хотя он предпочел бы скакать на одной ножке, так все его веселит.
Теперь он сидит у Адамов в кухне и развертывает газету. Мария приносит ему на подносе завтрак – Станда косится на ее белые руки, покрытые золотистым пушком; что сказала бы она, если бы он поцеловал ее вот сюда, у локтя – наверное, уронила бы поднос и сказала бы вполголоса: «Что вы делаете?» – «Это я просто от радости, пани Мария, сегодня можно, такой уж нынче день!»
Но теперь уже поздно: Мария поставила поднос на стол и оправляет белую скатерть. Только сейчас Станда замечает: на подносе кофейник, тонкие ломтики хлеба и тарелочка с пластинками розовой, с прожилками сала, ветчины. Станда просто на седьмом небе – так он еще никогда не завтракал; он до того растроган таким вниманием, что даже краснеет.
– Спасибо, – еле выговорил он, не понимая, что у него стряслось с голосом, с руками… Без всякой надобности он громко откашлялся и угрюмо, почти строго бросил: – Адам… Адам мне говорил… чтобы я дал вам что-нибудь почитать.
Так, дело сделано – и Станда облегченно вздыхает.
Руки Марии замерли на скатерти.
– Адам? – изумленно вздохнула она – Это вам сказал Адам?
– Вчера… вчера вечером он говорил. Вы, мол, любите читать…
– А мне и словечка не промолвил, – произносит она растерянно; что такое – губы у нее дрожат, и она смотрит широко открытыми глазами куда-то поверх головы Станды. – Мне… мне даже не заикнулся!
– Можете выбрать какую угодно, – бормочет Станда, но Мария, кажется, не слушает; она все так же изумленно смотрит, но глаза ее вдруг наполняются слезами; она быстро отворачивается, чтобы Станда не видел ее лица.
– Это верно? Он сам сказал? Никто ничего ему не говорил? – вырывается у нее, и голос ее дрожит и теплеет. – Тогда скажите ему, что я… что я буду рада.
И – трах! – захлопнулась завешенная изнутри белой занавесочкой стеклянная дверь в комнатку Марии. Станда удивленно глядит ей вслед и качает головой – что это означает? Почему должен сказать ему я… точно они не разговаривают друг с другом! Ну что ж, застучит там опять швейная машинка, зальется канарейка, как несколько минут назад? Нет, кажется, там никто даже не дышит, только голуби во дворе вот-вот захлебнутся, воркуя. «А мне какое дело, – думает Станда с негодованием, – никому я ничего не стану передавать, говорите сами». И Станда с аппетитом набрасывается на завтрак и впивается глазами в газету.
Так, стало быть, в местной газете написано: катастрофа на шахте «Кристина». Станда нетерпеливо читает, чтобы не упустить ни слова: ведь он тоже имеет отношение к этому бедствию и вправе требовать, чтобы оно было описано подробно и правдиво. Что ж, в общем, тут все правильно, вынужден признать Станда: вскоре после начала второй смены взрыв в новой продольной выработке… весть разнеслась с быстротой молнии. Правильно. Есть жертвы. Сведения об этом, вероятно, дала дирекция или заводской комитет. Немедленно же были организованы спасательные работы… ага, вот: «Работать на сильно поврежденном и особенно опасном северном участке первыми добровольно вызвались следующие шахтеры…» У Станды так забилось сердце, что пришлось ненадолго прервать чтение. «…первыми добровольно вызвались следующие шахтеры: Иозеф Адам, Ян Мартинек, Франтишек Матула, В. Пулпан, Антонин Суханек и Иозеф Фалта, которые без промедления спустились в шахту, чтобы помочь засыпанным товарищам. Спасательные работы в районе взрыва продолжались всю ночь…» Станда читает еще раз: «…первыми добровольно вызвались следующие шахтеры: Иозеф Адам, Ян Мартинек, Франтишек Матула…» Пропустили инженера Хансена и запальщика Андреса; вероятно, так сделали нарочно, но это несправедливо, возмущенно думает Станда; а его назвали В. Пулпаном! Станду это ужасно сердит, вся радость испорчена; но он делает ножом дырку там, где напечатана эта дурацкая буква «В», так что ее нельзя теперь прочитать, и ему становится легче. Теперь хорошо. «Первыми добровольно вызвались следующие шахтеры». Да, милый мой, это тебе не пустяк: «первыми» и «добровольно», ведь это значит, что они самые смелые. И они без промедления спустились в шахту, чтобы помочь засыпанным товарищам. На особенно опасный участок. Вот оно, черным по белому, и каждый может это прочитать. Станда уже выучил заметку наизусть, но читает еще и еще. Что ни говорите, а получается очень торжественно, этим полна газета; и от этого торжественного чувства Станду пробирает дрожь.
Он не в силах больше есть и бежит с газетой к Адаму.
– Посмотрите-ка, – показывает он запыхавшись. – Непременно прочтите!
Адам медленно встает – господи, сколько ему времени нужно, чтоб выпрямиться! – вытирает руки о штаны.
– Что там такое? – спрашивает он в недоумении и начинает просматривать газету сверху донизу.
– Вот здесь, заметка!
Серьезные ввалившиеся глаза Адама останавливаются на газетной странице, и он медленно шевелит губами, точно молится; Станде не терпится, и он еще раз, вместе с Адамом, перечитывает заметку; он давно уже раз десять повторил, что «первыми добровольно вызвались следующие шахтеры», а Адам все еще шевелит губами, внимательно читая заметку где-то на середине. Вот он остановился, и губы у него перестали двигаться; ввалившиеся глаза поднимаются на несколько строк выше и медленно-медленно читают снова. Теперь он, кажется, уже и не читает, а просто неподвижно смотрит на газетный лист.
– Что скажете? – нетерпеливо вырывается у Станды.
– Ну… очень хорошо, – гудит Адам, все еще не сводя глаз с газеты.
– То-то команда удивится! – важничает Станда.
Адам ничего не отвечает, его длинное лицо неподвижно, как маска, он только глядит, медленно помаргивая.
– На, держи, – говорит он в конце концов, подавая Станде газету, и отворачивается к своей клумбе. – Может… может… ты показал бы… и Марженке, – с трудом выговаривает он, склоняясь к своим ночным фиалкам.
– А вы не хотите показать ей сами? – нерешительно спрашивает Станда.
– Да нет… Я… зачем я, – бормочет Адам, нагибаясь еще ниже. – У меня руки в земле…
Станда идет в белую кухоньку. В соседней комнате тишина, разве что тюкнет канарейка да перескочит с жердочки на жердочку. У Станды на секунду замирает сердце, когда он стучит в стеклянную дверь.
– Войдите, – отозвался сдавленный голос, и Станда впервые входит в комнату Марии. Мария сидит у швейной машины, но без всякого шитья в руках; глаза у нее красные, она испуганно смотрит на Станду – вероятно, ждала кого-то другого.
– Вот… если хотите, прочитайте… – показывает Станда газету. И отчего это у него всегда такой громкий, грубый голос, когда он говорит с Марией? Мария берет газету, ищет…
– Вот эта заметка, – бормочет Станда и тычет пальцем; при этом он нечаянно коснулся локтя Марии и отдернул руку.
Мария читает. Наклониться бы через ее плечо и прочесть еще раз вместе с ней; ее волосы легонько пощекотали бы его щеку, запахло бы душистым мылом и кожей; и он услышал бы ее тихое глубокое дыхание… «Первыми добровольно вызвались следующие шахтеры…» Станда неуверенно переминается с ноги на ногу и смотрит на склоненную голову Марии и ее плечи, на канарейку, на белые занавесочки, на белую постель Марии, на белые руки Марии; он хмурится от смущения, принужденно кашляет и сам ужасается, как громко и неестественно звучит его кашель. Мария читает, пальцы у нее дрожат, слабый румянец разливается по лицу и шее до самого выреза блузки, она тоже читает как-то удивительно долго и неподвижно. Теперь она подняла голову; глаза ее сияют, в них что-то дрожит и расплывается, они полны слез, а полуоткрытые губы подергиваются мягко и нежно.
– Можно мне… можно, я спрячу? – спрашивает прерывающийся женский голос.
– Я вам потом принесу, – мрачно вырывается у Станды. – Я… я должен еще показать товарищам.
Тут ему приходит в голову, что он мог бы купить вторую газету, но поздно.
– Я принесу, – повторяет он еще более неприветливо и не знает, что сказать дальше, остается только споткнуться об эту стеклянную дверь – вот он и в кухне, и злится на самого себя. Болван, нужно было оставить ей газету!
Адам оборачивает к нему длинное лицо.
– Я покажу ребятам, – произносит Станда, лишь бы не молчать.
– Погоди-ка, – сказал Адам, вытирая руки о штаны, направился к сарайчику, где у него хранится весь его инструмент. Вскоре он вернулся с толстым синим карандашом.
– Дай-ка сюда, – невнятно говорит он, – надо отчеркнуть, чтобы сразу нашли.
Адам разложил газету на скамейке, присел на корточки, как ребенок, и, внимательно моргая, обвел толстой синей рамкой заметку о катастрофе на шахте «Кристина»; серьезно, с довольным видом рассматривает он теперь свою работу и тщательно поправляет один уголок.
– Ну вот, теперь можешь показывать.
XVIII
Прежде всего к Пепеку. Пепек живет вон там – на квартире у Томешей. Станда просовывает голову в его берлогу и чувствует, что сейчас задохнется – такая вонь идет от детских пеленок и нищенского тряпья. Неряха Анчка, сидя на табуретке, кормит с ложечки сопливого ребенка; другой, еще сопливее, сидит на полу и сосредоточенно играет мутовкой.
– Пепек дома?
– Спит еще.
В углу на постели послышалось кряхтение и скрип, Пепек поднял взлохмаченную башку.
– Что? Что такое?
– Я тебе кое-что принес.
– Ладно, погоди на улице, я сейчас.
Пепек, зевая, выходит на крыльцо в штанах и рубашке.
– Здорово, Станда. Что там у тебя?
– Прочитай-ка вот, – показывает Станда.
Пепек, зевая, чешет волосатую грудь.
– Я сегодня газеты еще не покупал. Ну-ка, покажи! – И он с угрюмым видом пробегает заметку. – Ну и что?
– Что ты об этом скажешь?
– Шуму-то сколько! – презрительно цедит Пепек. – Лучше бы деньжуры побольше подбросили.
– Какой деньжуры?
– Ну деньжат. За такую хлопотливую работенку, братец… надо платить не повременно…
– А показать Анчке не хочешь? Что ты в газету попал?
Пепек злобно дергает головой, точно ему тесен ворот рубашки.
– Да на кой черт! Бабы разве что в этом понимают! – Пепек хмурится. – Пишут тоже – опасный участок! Им-то легко говорить! Послали бы туда этих храбрецов, вот это да!
– Каких храбрецов?
– Которые пишут! Терпеть не могу, когда меня по плечу похлопывают – молодец, мол! Заплатили бы получше, чем языком чесать, а в газетах печатать, от этого толку мало. Из-за славы, что ли, работаем? Разве что Андрес, – усмехнулся Пепек, – а о нем-то как раз и не пропечатали!.. Мне, брат, всю ночь мерещился этот ход, все будто кровля валится…
Станда сильно разочарован тем, как Пепек отнесся к их прославлению.
– А вчера у Малека хорошо как было, – заговаривает он о другом.
– Да, первый класс! – оживляется Пепек. – С Андресом-то смеху сколько было!
– И Ханс пришел.
– Что ж Ханс, – замечает Пепек. – Коли он в наше положение входит – я не возражаю; он был вместе с нами и видал, какова там работенка. Да-а, умей он по-чешски, мы с ним поговорили бы.
– А ты видел, что и Адам пел?
– Да, видел. Что ж, Адам, он хороший товарищ. – Пепек подумал. – Послушай, Станда… ты ничего не заметил, как там у них теперь? Я имею в виду – как дела у Адама с Марженкой.
– Не знаю, – уклончиво сказал Станда. – Они все через меня вроде как переговариваются.
– Ври-и! Что ж, они не разговаривают?
– Разговаривают, но… почему-то у них не получается. Будто они… стесняются, что ли.
– Гм, – размышляет Пепек. – Гляди-ка, Станда, а ведь ты бы мог их помирить. Ты человек образованный, тебя Мария, может, и послушает. Сказал бы ты им – не дурите, мол, люди добрые, или вроде того… Да, а Мария видела, что Адам в газету попал?
– Видела. И тут же хотела спрятать на память!
– Вот это хорошо, – обрадовался Пепек. – Ты еще покажи ей, что Адама там называют раньше всех, на первом месте.
– Это, наверно, по алфавиту, – усомнился Станда.
– Все одно, она, может, не разберет. Понимаешь, пусть видит, что Адам… лучше всех, ясно? Для бабы это иной раз главное дело, – с видом бывалого человека сказал Пепек. – Вот он какой герой, наш Адам. Сколько лет жить рядом с этакой красоткой, вроде как из-за нее в уме помешаться, и ни-ни, даже не коснуться… кому это, брат, под силу! И все время – Марженка да Марженка… Нет, Станда, хвалиться тут нечем, но… ей-богу, я бы так не сумел!
Станда молчит, потому что и сам испытал: сходить с ума по Марии и не сметь ничего, ничего… даже, например, погладить ее склоненную голову или взять за полную гладкую руку… Откуда тебе понять, Пепек, какая это пытка!
Пепек размышляет и шумно скребет себе грудь; такая история как раз по нем, потому что Пепек страшно любопытен, когда дело касается женского пола; такой уж он завзятый бабник.
– Ну, я пошел, – поспешно говорит Станда. – Не знаешь, где живет Суханек?
– Дед? Хочешь и ему показать? Тогда спустись вот здесь и дуй по дороге через переезд – там тебе всякий покажет, где Фалтыс живет. И скажи ему, – паясничает Пепек, – что обушок, мол, нашли и с музыкой доставили в дирекцию. Ну, с богом, Станда!
И Пепек, зевая, начинает для разнообразия скрести себе спину.
У Фалтыса в доме красиво и чисто, как у Адама; перед домом садик: в нем грядка с фасолью и помидорами, клумба анютиных глазок, обложенная кусками шлака, дорожки, посыпанные красным песком, – тут просто чудесно. Из окна выглянул сам дед Суханек.
– А-а! – вполголоса восклицает он. – Сейчас выйду.
Суханек появился в жилете и рубашке, очевидно праздничной, – так туго она накрахмалена.
– Я тут у дочек, – зачастил он, словно оправдываясь. – Фалтыс-то, зять, значит, спит еще – в ночной смене работал, а Лойзичка куда-то побежала… Хочешь поглядеть?
– На что?
– Ну, на детей.
Дед Суханек на цыпочках вводит Станду в дом. Там душно и чисто, на плите кипятится белье; у окна сидит молодая женщина, у нее ножки как спички и прекрасные испуганные глаза; она пытается встать.
– Это Аныжка, – шепчет дед Суханек.
«У нее, вероятно, что-то с позвоночником – оттого она и калека», – подумал Станда и дружелюбно кивнул ей. Аныжка покраснела и снова опустилась на свою подушку. На полу играла девочка, которая испуганно вытаращила на Станду такие же, как у Аныжки, красивые глазенки и спрятала за спину чумазую куклу.
– Боится, – засмеялся дед Суханек, показывая беззубые десны. – К ней тут доктор ходил – золотуха у нее, – вот и боится. А старший-то внучек, Еничек, уже в школу ходит. Да ты вот сюда погляди, в колясочку!
Станда наклонился над коляской; там, сжав крохотные кулачки, спит ребеночек, удивительно маленький, только лоб у него огромный, выпуклый; пахнет мокрыми пеленками и детской присыпкой.
– Это наш Тоничек, – гордо шепчет дед Суханек и пальцем отводит замусоленный кулачок от полураскрытого ротика.
Ребенок захныкал, и дед мигом: «ш-ш-ш», и качает колясочку. Станда чувствует себя здесь как-то глупо, неловко; ну что ему тут делать, зачем ему все это показывают?
– Я принес вам кое-что! – бормочет он и выходит на цыпочках. – Вот здесь, прочитайте.
Ничего не поделаешь – приходится деду идти за очками; наконец он уселся на скамейке и медленно читает, двигая подбородком. Станда заглядывает ему через плечо и снова читает вместе с ним.
– Тут, внизу, видите?
Дед Суханек тщательно складывает газету; он вдруг принимает необыкновенно важный, почти торжественный вид.
– Вот видишь. Надо и мне купить газету, пусть Аныжка и Лойзичка увидят. Я сегодня еще не выходил из дому… А о Фалтысе, о зяте, там ничего нет, – спохватывается он. – Ведь он тоже добровольно пошел!
– Так ведь он же во второй команде, – объясняет Станда.
– Верно, верно. Поди, завтра о нем напишут. Постой, я тебе покажу кое-что.
Дед уходит на цыпочках и приносит толстый молитвенник.
– Это после покойницы жены осталось, – оправдывается он поспешно. – В нем я свои бумаги храню, чтоб не растерять. Гляди-ка. – И он протягивает Станде пожелтевшую вырезку из газеты.
– «Выборы в заводской комитет», – читает Станда. – «В заводской комитет на шахте „Кристина“ были избраны товарищи: Бидло Фр., Мужик Иоз., Суханек Ант…»
Дед Суханек, нацепив очки, смотрит через плечо Станды.
– Вот здесь, видишь, Суханек Антонин, – показывает старик. – А тут и другая статейка обо мне…
– «Выборы в шахтерскую кассу взаимопомощи», – читает Станда; дальше красным карандашом подчеркнуты слова: «…заместителями избраны Ал. Михл и Ант. Суханек».
Станда возвращает деду пожелтевшие вырезки.
– Если тебе интересно, – неуверенно бормочет Суханек, – то у меня есть еще кое-какие бумаги…
Станда осторожно развертывает порванные на сгибах листы. Метрическое свидетельство, имя ребенка – nomen filii – Суханек Антонин. Свидетельство о том, что Суханек Антонин, родившийся там-то, прошел испытание на забойщика. Свидетельство о браке: Суханек Антонин и Броумарова Алоизия…
– Вот и все, – лепечет Антонин и тщательно вкладывает документы в молитвенник покойной жены. – В общем, не так-то много.
Да, не много, думает Станда, зато самое важное, дедушка Суханек. Человек родился и взял в жены Алоизию, сдал экзамен на забойщика и дожил до чести быть избранным в заводской комитет и заместителем председателя кассы взаимопомощи; пять-шесть событий – и вся жизнь. И после этого находятся люди, которые воображают, будто самое важное в жизни – бог знает что!
– Дед, – нерешительно начал Станда, – как вы думаете, Пепек пошел в команду только ради денег? По крайней мере, он сам так говорит…
– Да нет, какое там, – взволновался дед. – Это он на себя просто напускает. Ты ему не верь.
– Так почему же он пошел?
– Г-м, – призадумался старый Суханек. – Я и объяснить-то не сумею. Скажи ему, что он хотел помочь засыпанным товарищам, он тебя так облает – ой-ой-ой, язык у него больно поганый! Понимаешь, Пепек… такая у него повадка; без него ни одно дело не обойдется, понимаешь? А ведь не раз крепко ему попадало – все равно свой нос всюду сует. Это словно потеха для него. Всюду ему поспеть надо: стачка ли где или в трактире потасовка – он главный заводила. Кровь у него буйная, у Пепека. А так – работяга и товарищ хороший, этого у него не отнимешь, хоть и любит он поддеть и поддразнить кого попало. Да не беда, зато с ним весело…
– А он… смелый?
– Ну, конечно, – соглашается дед. – Один против всех в трактире пойдет, хоть и знает, что побьют. И в огонь полезет, это ему нипочем. И все ему как с гуся вода; другой раз так его отделают, просто ужас – а он наутро, как ни в чем не бывало, опять языком треплет. Смелый, это да – себя не пожалеет, понимаешь?
– А Мартинек?
– Гм, Мартинек, – смешался дед. – Как можно сравнивать. Мартинек не дерется, и ничего такого за ним не водится… Раз только, но тогда, черт возьми, дело шло о жизни. Судили тогда его, дали ему условно. Был тут мясник один – не знаю, как это получилось, – он на людей с ножом кинулся и двух человек порезал. А там случайно Мартинек оказался, и сейчас: пустите, мол, меня, да так этого мясника отделал! Уж и не помню, сколько ребер ему поломал… А с чего ты спросил?
– Почему Мартинек вызвался, если у него жена и дети?
Дед Суханек задумчиво поморгал.
– Ну, он солдат… и сила у него, голубчик, такая силища… Только он больше к дому привержен, к детям; сядет на порожек и глядит, довольный такой, – мол, вот каков я, любите меня! И еще, я думаю, силушка-то у него иной раз выхода ищет. Как тогда с мясником. Мартинек на рожон не лезет, но если случай какой подходящий, так он, почему бы, мол, мне не пойти, и идет. А зачем идет, он, поди, не думает; чтоб отличиться – так нет, не в этом дело. У него одни дети на уме… да иной раз сила в нем взыграет. Очень он хороший человек.
– А Матула что?
– А-а, Матула. Все-то тебе знать нужно! Матула все-таки несчастный человек.
– Почему же несчастный?
– Так. Воли у него никакой нет. Ему приказать нужно – тогда он идет. Или когда запой – идет, не может с собой совладать.
– А почему же тогда он сам вызвался?
– Он на Андреса здорово зол. Тут он не виноват, он словно помешанный. Да мы все следим, чтобы он на Андреса не кинулся. Но если ему сказать: Матула, вон дом падает, подопри – он пойдет, что твой вол, и подопрет. Сила страшная у Матулы, сынок, а на работе он ничего не стоит. Ты можешь его на ниточке водить, а чтоб самому догадаться – так нет. Вот, брат, какое дело-то.
Дед Суханек молча покачал лысой, чисто вымытой головой.
– Ну, раз ты обо всех допытываешься, – сказал он неожиданно, – так я объясню, почему и я вызвался один из первых. Чтоб шахтерской чести не уронить. Чтоб никто не посмел сказать, вот, мол, старый Суханек когда-то в заводском комитете был, а сейчас за чужие спины хоронится. Человек, значит, должен выполнять свой долг. И еще – ведь я на «Кристине» забойщиком двадцать лет работаю и каждый камень знаю… И думаю – когда понесут меня на кладбище и в последний раз под землю спустят, так люди по праву скажут обо мне: да, Суханек Антонин был настоящий старый шахтер, он не забывал, что такое шахтерская честь; в долгу перед «Кристиной» не остался… – Старый Суханек помолчал. – А вот насчет обушка досадно мне, – пробормотал он немного погодя. – Всю ночь напролет о нем думал. Такого еще не бывало, чтоб я где-нибудь свой инструмент терял.
– А Адам… что?
– Да, Адам, – опять призадумался дед Суханек. – Погоди, парень, как бы это объяснить… Видишь ли, нас вызвалась полная команда, так ведь? И дали бы нам время подумать, пошли бы все, кто там стоял, я-то их знаю. А если ты меня спросишь, почему, я скажу: потому что они шахтеры. Несчастье в шахте касается всех, и если ты настоящий шахтер, то идешь туда и делаешь свое дело. Вот самая главная причина, а все остальное так… на втором месте. Ты не знаешь, когда сам останешься в шахте и кто будет тебя откапывать. Вот у нас и повелось, как говорится, – все за одного, один за всех; таков уж наш шахтерский обычай. Да, ты что хотел спросить-то?
– Почему Адам пошел?
– Я ж тебе объясняю – потому что он шахтер. И еще скажу – он забойщик, каких мало.
– А мне Адам сказал, что не любит в шахту спускаться.
– Не люби-ит? – удивился дед Суханек. – Вот это для меня новость. Ну да, Адам мало разговаривает… Такой умелый человек, – покачал дед головой. – Его всегда в пример другим ставят, а он, оказывается, не любит… Да-а, дела-а-а!
– А вы не думаете, что Адам сделал это… из-за своей жены… потому что она его не любит?
Дед Суханек глубокомысленно промолчал.
– Послушай, Станда, – заговорил он через несколько минут, – тебе-то какое дело! Кто сует нос в чужие дела… тому в жизни мало радости. Ты еще больно молод.
«Молод! – обиделся Станда. – Милый дед, молодости-то я почти и не видал».
– Легко сказать: из-за бабы, – недовольно ворчит дед. – Молодой холостой человек, тот думает: в воду прыгну, лишь бы девчонке своей понравиться. А хоть и прыгай, так что толку… у молодых это все несерьезно. Жизнь или смерть – им все едино. А человек постарше… – И дед раздумчиво покачал головой. – Ты мне даже и не говори. Такого я бы пожалел.
– Почему?
– А-а! – махнул дед жилистой рукой. – Адам-то понимает, что и почему делает! А я тебе скажу – будь у него дома все в порядке, имей он хоть шестерых детей, – все равно пошел бы. Да, Адам пошел бы. У Адама, голубчик, все обдумано, и он видит глубже, чем любой из нас. Только никому не говорит, что думает. И знаешь, оставь-ка ты его в покое!
Станда встал.
– Да ведь все равно видишь, что происходит. Пепек вон тоже заметил.
– Как же без Пепека, – обозлился дед Суханек, – когда тут юбка замешана! Вот тебе и весь Пепек! Оставили б вы лучше Марию в покое оба – и ты и Пепек, вот что я вам скажу!
Станда обиделся.
– Разве мы ей что-нибудь плохое делаем?
– Очень уж она вас занимает, – проворчал дед. – Берегись, Станда, а если одиноко тебе, так здесь девчонок молодых, ей-богу, хватит.
Станда краснеет до корней волос, сердясь и на себя и на деда.
– Да что вы, мне и во сне не снилось… Просто замечаешь, что у этих двоих… нет счастья. И все. А вы сразу – невесть что.
Дед Суханек понимающе кивает.
– Вот и оставь их, Станда, не к чему голову-то ломать. Говорят, у Покорных хорошую комнату сдают, взглянул бы…
– Переехать мне, что ли? – грубо оборвал его Станда.
– Да, так-то оно лучше будет, – сказал дед Суханек и улыбнулся, показав беззубые десны. – А как хорошо мы с тобой потолковали, верно ведь?
XIX
Крепильщик Мартинек живет далеко, там, где уже начинается поле. «Пойду к нему днем», – решил Станда и отправился обедать, будто барин, в так называемый «загородный ресторан»: в тени деревьев, за редкими запыленными кустами боярышника, заменяющими изгородь, поставлено несколько столов, накрытых длинными красными скатертями; за одним из них расположился Станда со своей газетой, чтобы еще раз прочитать: «Работать на сильно поврежденном и особенно опасном северном участке первыми добровольно вызвались…»
– Что прикажете, сударь? – строго спрашивает кельнер, отгоняя салфеткой осу.
«Сударь» покраснел и насупился, никак сразу не сообразит, что ему заказать; хорош «сударь», нечего сказать – о нем в газете столько пишут, а он робеет перед кельнером! Станда зол на себя и на деда Суханека. «А ему-то какое дело, этому деду, – думает Станда. – Советовать вздумал – переезжай, мол! Ведь не из-за чего. Совершенно невозможно, чтобы… между мной и Марией… когда-нибудь что-то могло бы быть… (А если невозможно, зачем тебе там жить?.. Нет, постой, это не так уж невозможно!.. Но ты все-таки не сделаешь такой пакости Адаму, как ты полагаешь? Теперь, когда он стал твоим товарищем по команде… Но Адама не убудет, если я с ней иной раз и перекинусь словечком… И ничего больше?.. Цыц!) Станда решительно развертывает перед собой газету: он будет читать, и кончено! „Работать на сильно поврежденном и особенно опасном северном участке…“ Зачем мне переезжать? – мысленно возражает Станда. – С меня достаточно… просто ее видеть; что еще есть у меня на свете!»








