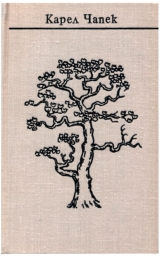
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 42 страниц)
За соседним столом торопливо едят двое, тоже, вероятно, шахтеры; тот, что сидит спиной к Станде, разложил перед собой ту же газету и читает ее на той же странице. У Станды забилось сердце, он готов провалиться сквозь землю – сейчас этот человек прочитает о нем – и, быть может, вдруг обернется: «Это не вы, часом, В. Пулпан?» – «Тут ошибка, там должно стоять С. Пулпан, С., то есть Станислав!» – хочется закричать Станде; он сдерживается изо всех сил, лишь бы сидеть как ни в чем не бывало, спокойно и скромно; а в действительности он перестал есть и испуганно глядит на соседний стол. Второй шахтер заметил это и оглянулся на Станду не то неуверенно, не то укоризненно.
– Мартинек, – произносит читающий газету, – какой это, крепильщик или тот, льготецкий Мартинек?
– Да вроде крепильщик, – равнодушно отвечает второй. – Льготецкий болен.
– Ага. Я этого крепильщика знаю.
И больше ничего. Человек перевернул газетную страницу и стал просматривать объявления. Вот и все. «Ага, я его знаю». А те, кто его не знает, даже не скажут «ага» и перевернут страницу…
Станде вдруг становится горько, он разочарован. Не станет он показывать газету Мартинеку…
Мартинек встречает Станду широкой улыбкой; он сидит на крылечке и держит между колен голубоглазую девчушку с двумя золотыми косичками – вылитый отец, но до того маленькая, хрупкая, что просто смешно: от земли не видать, а осмеливается походить на такого великана!
– Как тебя зовут?
– Ну, скажи, Верунка, – подбодряет отец, похлопывая девочку по животику.
– Верунка, – беззвучно шепчет ребенок, не сводя изумленного взгляда с господина в воротничке.
– Я тебя с утра ждал, – приветливо говорит крепильщик. – Такой чудесный день…
– Что ты делал?
– Ничего. Понимаешь, когда у тебя дети… Даже за табаком не сходил. Мы с Верункой тут читали, правда, Верунка?
Девчушка кивнула и прислонилась к отцовским коленям.
– Я тоже принес тебе прочесть кое-что, – говорит Станда с самым небрежным видом и подает Мартинеку газету.
Крепильщик читает, и на его спокойном лице не дрогнет ни одна черточка.
– Так… – произносит он в конце концов и, тыкая толстым пальцем в газету, обращается к дочери: – А ну-ка, Верунка, сумеешь вот это прочитать?
– Ян… Мар-ти-нек, – читает по слогам ребенок.
– А ты знаешь, кто это?
– Нана, – вздыхает девочка, поднимая на него глаза.
Крепильщик Мартинек так и просиял от восторга.
– Ну вот, видишь, как ты хорошо читаешь! Ты не можешь оставить мне газету, Станда? Чтобы мне не ходить. Я бы для детей спрятал.
– Конечно, – великодушно соглашается Станда; он совсем забыл, что обещал принести газету Марии.
Мартинек встает, ростом он почти в два метра, и дочурка обхватила его ногу, как столб.
– Хочешь, мальчишку своего покажу?
Мальчика держит жена Мартинека; на руках у матери ребенок кажется чересчур большим; она маленькая и совсем некрасивая – ну разве что милая, – решает Станда. Мальчик смотрит на Станду серьезно, почти строптиво.
– Гонза, Гонзик, ку-ку, – улыбается великан Мартинек, и пухлый карапуз поворачивает к нему круглую головенку, заливаясь восторженным смехом. Мартинекова смотрит счастливыми глазами на своего огромного мужа; господи, ну что из того, если она некрасива! Станде здесь нравится, он чувствует себя словно в деревне.
– Кем будет мальчик? Шахтером? – спрашивает он у крепильщика.
– Как бы не так, – улыбается Мартинек, – я его в шахту не пущу. Вот лесником – дело другое. А если уж плотником, так чтобы дома строил. Прекрасная работа. Эх, друг, мне бы опять плотничать на земле… Понимаешь, люблю я воздух и простор. Вот бы крестьянствовать, да… с лошадьми…
Мартинек уже не в маленькой кухоньке, – он в поле, и оглядывает его голубыми лучистыми глазами; тут и пара лошадей, впряженных в плуг. Что делать с мальчонкой? Посадить бы его прямо без штанишек на пристяжную – то-то бы завизжал Гонза от радости! Молодой великан махнул широкой лапой.
– Пошли на волю, Станда?
Они оба сидят на крылечке, девчурка карабкается по отцовской спине, по могучей розовой шее и съезжает вниз, так что задираются юбочки.
– Ты вот говоришь – Адам, – начинает крепильщик, довольно щурясь на солнышко. – Моя жена знакома с Марией… Она, Мария-то, иной раз заходит к детям. Ей бы детей нужно, это для нее самое главное; я полагаю, их ей больше всего недостает, хотя всяко бывает, может, у нее и не могло быть детей.
– А Пепек говорит, – неизвестно чему возражает красный от смущения Станда, – что Адам с ней… собственно… и не жил никогда.
– Много люди знают, – улыбается Мартинек. – Жил или нет, он об этом никому не скажет. Он человек не глупый и ждет – бывает, переменится что на сердце у женщины, а почему – она и сама не знает. Намекала недавно Мария моей жене – мол, чего не было, то еще может быть. Понятное дело, о чем только женщины между собой не толкуют! Моей подумалось, что Мария хочет сказать, будто теперь у нее могут быть дети. А вчера моя была у нее – побежала меня искать… – так Мария, говорит, словно в горячке, все «Адам» да «Адам», как бы с ним чего не случилось, да что раньше она не знала, какой он, и что всю жизнь будет себя попрекать… словом, будто спятила. Кто-то ей сказал, что Адама не хотели брать как женатого, а он нарочно пошел… Так моя говорит, такого еще и не видывала: застыла Мария, слезы побежали ручьем, и все себя винит: никогда, мол, она Адама не хотела, была у нее одна любовь – она поклялась в верности тому, первому, только сейчас, говорит, видит… Вот как с ней дело-то обстоит, так и знай.
Станда впивается ногтями в ладони – от боли и… от чего-то, похожего на стыд,
– А что… Адам?
Девчурка тем временем уселась верхом папе на шею, как на коня, и крепильщик подставляет ей ладони вместо стремян.
– Да что Адам… в том-то и загвоздка. Такой умный человек, а тут будто слепой. Не знаю, заметил ли ты: он никогда на Марию и не глянет, уставится в землю и бормочет, точно боится глаза на нее поднять, что ли. Да вот вчера, когда мы на-гора поднялись, – она глаз с него не спускает, а он глядит в землю, как дурак. Не по душе мне, что вчера он пришел к нам в трактир. Не следовало ему этого делать; но Пепеку вечно дурь в голову лезет… Нам бы всем по домам сидеть, ведь и жены на нас право имеют, не так ли? Но раз Пепек сказал «всей командой», – хоть тресни, а ничего не поделаешь; даже Адам пришел, хоть и не пьющий… Я думаю, как это было неприятно Марин… Вон и моя, – ведь понимает, в чем дело, а тоже сказала: не знала я, мол, что тебе команда дороже. Понятно, бабе всего не растолкуешь. Да, ошибка вышла. Если бы Адам остался дома… не знаю. Впрочем, и так могло быть, что уставился бы он опять в пол своими буркалами, а потом сказал бы – доброй ночи, Марженка, да и залез бы под перину. Трудное дело, когда оба такие гордые; никто не хочет и… не может первый начать…
Девочка съехала по отцовской спине, обхватила его шею ручонками и прижалась к ней лицом.
– Поносить тебя, Верунка?
– Нет, – сонно и блаженно вздохнула она.
– Гордые – да, оба гордые, – продолжал крепильщик, помолчав. – Понимаешь, они, наверное, друг с другом и не жили, вот в чем дело. Если бы жили, так и гордость прошла бы, ого! Всякая гордость – она так людей отдаляет… и трудно через нее перешагнуть, друг ты мой. И чем дольше это тянется, тем больше люди отходят друг от дружки. И после уж очень трудно поправить дело.
– Ты думаешь, Адам ее… все еще любит?
– Конечно. Всякому видать, как его любовь гложет. Когда при нем о женщинах пойдет болтовня, так у него все лицо скривится, кажется, будто на дыбе его пытают. А знаешь, если бы он хоть разок поднял дома свою баранью башку да повел бы себя как мужчина, – господи, сразу бы увидел: Мария размякла как воск… Такая красивая женщинка, братец ты мой!
– Красивая, – жалобно пробормотал Станда.
– Это с какой стороны подойти. Для Адама она, наверно – как икона на алтаре. Ты, Станда, понятия не имеешь, как шахтеры до баб охочи, – Пепек мог бы тебе порассказать. Я вот, правда, больше к деревенскому привержен и к таким делам не склонен. Да и жену свою люблю, что ж. Но Адам… да, по нему видно, что может любовь сделать с человеком… Погляди-ка, уснула?
Станда взглянул на Верунку – в щелке между веками у нее виднелись полоски белков.
– Засыпает, – шепнул он.
Крепильщик начал слегка раскачиваться, убаюкивая дочку.
– Что ж, любовь – нет ее сильнее, покамест двое врозь живут; а поженились да дети пошли, тут уж не это главное; приходится любовь делить на всех, как хлеб. Адаму вот как нужны дети, чтобы он мог раздать свою большую любовь. Ты заметил, Станда, когда Адам иной раз улыбнется, так сразу видно: ей-богу, каким счастливым мог быть этот человек, если бы ему хоть чуточку повезло! – Мартинек нахмурился. – Но теперь его черед сделать первый шаг. Мария такой шаг сделала – пришла его встретить, да и вообще. Не может же он от нее требовать, чтобы она ему прямо сказала – я твоя. Через столько лет это трудно. Он сам должен что-нибудь сделать…
– Я думаю, – нерешительно сказал Станда и весь покраснел от волнения, – я думаю, как раз потому-то Адам и вызвался, понимаешь, хотел показать ей… что он герой, что ли. Знаешь, он глядит на нее словно бы снизу вверх – просто ужас… и всегда чувствует себя перед ней черным шахтером, – он сам мне говорил. Вот потому он… только ради нее, понимаешь? Чтоб этим заслужить ее уважение и… любовь, как ты думаешь?
Крепильщик долго молчал и щурил глаза, размышляя.
– Что ж, какая-то доля правды в этом есть. Герой ты там или нет – об этом обычно и не думаешь; но если это ради женщины… Вот видишь, – вздохнул он удовлетворенно, – тогда выходит, что Адам тоже сделал первый шаг, чтобы сблизиться с Марией! Стало быть, это было с обеих сторон… Я буду очень рад за Адама. Вот почему он, бедняга, так старался под землей. Смотри-ка, а мне бы и в голову не пришло! Я жене скажу, пусть она Марии вроде как намекнет, – да, мол, милая моя, твой Адам – как это ты сказал? – герой? Ну, хоть бы и герой, – бормотал Мартинек. – Только мы на это не так смотрим.
– Я ей тоже могу сказать! – заторопился Станда, окрыленный скорбным и великодушным самопожертвованием. – Да, так я и сделаю. Для товарища.
– Ни-ни, – решительно сказал крепильщик. – И вообще, Станда, постарайся съехать от них.
– Почему?
Мартинек засмеялся и дружески положил Станде на плечо свою могучую лапу.
– Потому что ты еще глупый мальчик, Станда.
XX
Станде остается еще одна прогулка: пройтись – конечно, так, невзначай – мимо виллы Хансенов. В саду пусто, там нет ни Хансена, ни его длинноногой шведки, похожей на девушку. Станда готов просунуть голову между прутьями железной решетки – сколько же там роз! – хоть разок заглянуть внутрь, понюхать тяжелые бутоны… и вдруг Станда испугался: в беседке неподвижно сидит госпожа Хансен и смотрит перед собой; она, правда, не замечает Станды, как не замечает, вероятно, ничего вокруг себя, но странно и непривычно видеть, что она не бегает вприпрыжку по саду, а сидит тихо и прямо.
Станда медленно плетется домой, и у него тяжело на душе… отчасти и потому, что через час пора спускаться в шахту, а это внушает ему все более гнетущий страх. Вот и в газетах пишут: «особенно опасный участок»; а крепильщик сказал: «Паршивый штрек, ты еще увидишь». Каково-то там трем засыпанным, задумывается Станда, стучат ли они еще в стену, горят ли еще у них лампочки?
Адам, конечно, в садике; он только что сделал для трех кустов штамбовых роз новые подпорки и насадил на них стеклянные шары – серебряный, золотой и синий – и теперь задумчиво созерцает всю эту красоту. Станде хотелось бы незаметно проскочить в свою мансарду; но Адам оборачивается к нему с таким видом, будто собирается улыбнуться.
– Пожалуй, нам… идти пора.
Делать нечего, Станда подходит ближе, чтобы оценить по достоинству роскошные шары. Как смешно отражается в них Адам: огромный плоский череп, точно его кто-то раздавил, а под ним карикатурное, хилое тельце. Вторая расплющенная голова на тоненьких ножках – сам Станда. «Забавно», – думает он, но ему не до смеха; он глядится в зеркальный шар, – какие же мы оба, честно говоря, убогие! Какое, должно быть, получится искаженное, нелепое отражение, если я, например, возьму сейчас Адама под руку и скажу: «Адам, это ужасно, но я люблю вашу жену», – ну и хороши были бы мы в этом шаре!
– Иди, я тебя подожду, – громко говорит Адам, продолжая разглядывать в стеклянном шаре свое уродство.
Легко сказать – иди, когда у Станды подкашиваются ноги, – так бы и сел, положив голову на стол… Неужели ему опять придется лезть в обрушившийся ходок… «Иди, я тебя подожду», – сказал Адам. Быть может, я больше сюда не вернусь, – вдруг приходит в голову Станде, и он тщетно старается запечатлеть в памяти кусочек этого мира: чистую комнатку с почти новой обстановкой, окна, освещенные солнцем, голубку во дворике, захлебывающуюся от воркования; и тишину, необыкновенную, мучительную тишину – это Мария. И еще одно нужно посмотреть Станде: последнее свидетельство из реального училища. А теперь ты можешь идти, откатчик Пулпан! Станда резко задвигает ящик стола и бежит вниз по лестнице, топоча, как лошадь. Иду, иду, Мария. Иду, иду, Адам. Иду…
Адам ждет, прислонясь к забору, и смотрит неведомо куда.
– Пошли, что ли?
Он только еще раз на ходу оглядывается на стеклянные шары; нет, на Марию, которая смотрит из окна, прижимая шитье к груди, и губы у нее приоткрыты, словно ей трудно дышать.
– Прощай, Марженка, – бормочет Адам и выходит, размахивая руками, на улицу.
Теперь они идут вместе к «Кристине» в молчат, да и о чем говорить? Проходят по крутой улочке и шагают по длинному шоссе; идут по тротуару из шлака, мимо просмоленных заборов, – обычно не замечаешь дороги, по которой ходишь ежедневно. Ноги идут сами, а мысли идут своим чередом; о них даже как-то не думаешь, твои мысли живут сами по себе, и до такой степени они одни и то же, что почти не доходят до сознания; они просто тут, как этот забор и телеграфные столбы, – и незаметно ты оказываешься у решетчатых ворот «Кристины». Только здесь Адам поглядел на Станду и так хорошо, по-дружески улыбнулся: ну вот, мы и дошли!
– Как там дела? – рассеянно спрашивает Адам у окна нарядной.
– Да что, хорошего мало. Днем пришлось вывезти Брунера и Тонду Голых. Тонда полез за Брунером…
– Газы?
– Ну да, рудничные газы. Работы идут уже у самого целика, но пришлось маски надеть, каждые десять минут сменяются.
Адам недовольно засопел. Да что поделаешь!
– А… что те трое? Подают еще сигналы?
– Говорят, утром подавали, но очень слабо. Поскорее пробивайтесь, ребята, пока не поздно. Если газы есть и по ту сторону, тем все равно аминь…
Адам махнул рукой и торопливо побежал в душевую переодеться. Дед Суханек, каменщик Матула и Пепек уже там и снимают рубашки, но им что-то не до разговоров.
– Слыхал? – цедит Пепек сквозь зубы.
– Слыхал, – гулко бросает Адам, поспешно раздеваясь.
– Паршивое дело, – сердится Пепек. – С маской на роже много не наработаешь. Я не надену.
– Если только тебе Андрес разрешит, – возражает дед Суханек.
Пепек хотел было огрызнуться, но тут вошел Мартинек.
– Здорово, команда, – весело поздоровался он. – Что слышно?
– Говорят, там газы появились, – вырвалось у Станды, который о газах знает пока только понаслышке.
– Да? – равнодушно сказал крепильщик и неторопливо снял пиджак, точно жнец в поле. – Какой сегодня день-то чудесный.
– Ты где был? – невнятно проворчал Пепек, склонившись к своим опоркам.
– Да только дома, знаешь ли…
Команда, брюзжа, перекидывается рассеянными, короткими словами. Станда дрожит от холода и от волнения, глядя на этих пятерых голых людей, – ребята, ведь мы, может, видимся в последний раз! С любопытством, в упор и, кажется, впервые без инстинктивного отвращения рассматривает он голых волосатых мужчин: Пепек нервно зевает, у него мужественная наружность – длинноногий, жилистый, он весь состоит из узловатых мышц, которые так и перекатываются под угреватой шерстистой кожей; дед Суханек – сухой, сморщенный, с пучком смешных белых кудряшек на середине груди, точно у него там вырос мох; каменщик Матула – пыхтящая груда мяса, жир обвисает на нем тяжелыми складками, покрытыми мягкой щетиной; Адам – кости да кожа, но рослый, с узкими бедрами и втянутым животом, с густой дорожкой темных ровных волос вплоть до запавшего пупка, – точно у него там третий глаз, такой же ввалившийся и серьезный, уставившийся неведомо куда; Мартинек с широкой грудью, покрытой золотистой шерстью, сильный, красивый и беззаботный; ну, а эти длинные тощие руки, узкая, бледная, голая грудная клетка – сам Станда. Словом, какие есть, но до чего ясно говорит каждое тело о человеке – словно читаешь человеческие судьбы. И раз ты понимаешь, что мы одна команда, то перестаешь стыдиться себя; вот я, товарищи, весь тут перед вами.
Приходит запальщик Андрес, уже переодетый, с лампой в руках.
– Бог в помощь!
– Бог в помощь! – вразнобой отвечает команда.
– Пошевеливайтесь, пора, – подгоняет запальщик, пересчитывая взглядом людей.
– Ладно, сейчас…
Каменщик больше не сверлит Андреса воспаленными глазами, он смотрит в сторону и лишь свирепо хмурится.
Приумолкшая команда быстро идет к клети, позвякивая лампами; запальщик Андрес выступает, разумеется, впереди, точно на смотру, только сабли не хватает. На-гора уже выезжают рабочие после смены, усталые и безучастные – лишь кивок да небрежное «бог в помощь».
– Вы в восемнадцатый?
– Да.
Клеть с командой проваливается. У Андреса твердеет лицо, дед Суханек озабоченно моргает и медленно жует губами, будто молится, Пепек судорожно зевает, а Матула сопит; Адам загораживает рукой лампу и смотрит ввалившимися глазами в пустоту, строго поджав губы; лишь крепильщик Мартинек сияет улыбкой, мирной и несколько сонной. Станде все вокруг начинает казаться удивительно нереальным, почти как во сне – точно так же мы спускались вчера… будто длится та же самая смена, будто мы все еще падаем, падаем без конца в шахту, и, однако, все совершенно иначе… Что, что именно иначе? Да все – я, мы, вся жизнь. Никто не знает, что изменилось за время этого спуска; и бесшумно, неумолимо летят и летят вверх отвесные отпотевшие стены.
Наконец толчок, клеть останавливается, и команда идет по бесконечному сводчатому коридору под вереницей электрических лампочек. Шахтеры, окончившие смену, тянутся группами или разорванными цепочками к клети, повсюду слабо раскачиваются и мерцают огоньки – похоже на праздник поминовения усопших. Теперь влево – в черный откаточный штрек; с кровли и со стен свешиваются те же, что и вчера, белые сталактиты и наросты подземных грибов; из темноты навстречу движется несколько мигающих огоньков. Ага, это возвращается спасательная команда с места взрыва, они что-то спешат выбраться на-гора; Андрес на минутку останавливается с десятником, руководившим спасательными работами, и команда скупыми словами расспрашивает, что там делается. Да, скверно, лучше и не спрашивай, братец.
– Газы?
– Газы и все прочее. Опять крепь трещит. Ну, бог в помощь, ребята, с нас хватит.
Теперь лампа запальщика Андреса быстрей бежит во мраке. И снова налево, как вчера, через вентиляционные двери; снова здесь тот бледный длинный человек – бог в помощь! – и тяжелый удушливый воздух восемнадцатого штрека навалился на людей жаркой нечистой периной.
– Чтоб тебя разорвало! – шипит Пепек, а Матула хрипит, как от удушья. Станде кажется, что здесь стало еще мертвей и пустынней, чем вчера, но штрек почему-то гораздо ближе: они уже у изломанной крепи, вот и подпорки и скобы, поставленные Мартинеком, – неужели дорога такая короткая? – удивляется Станда.
А там уже дрожит маленький спокойный огонек контрольной лампочки, над ним склонился кожаный шлем и чумазый блестящий нос инженера Хансена.
Запальщик Андрес выпятил грудь и четко шагнул вперед – раз-два.
– Бог в помощь, – отрывисто произнес он и щелкнул каблуками. – Докладывает первая спасательная команда: десятник – запальщик Андрес, забойщик Адам, забойщик Суханек, крепильщик Мартинек, подручный забойщика Фалта, каменщик Матула и откатчик Пулпан.
XXI
– Gut, – кивает Хансен. (Неужели он тут работает вторую смену?)
Он по пояс обнажен, и команда смущенно отворачивается; как-то неловко глядеть на человеческую наготу господина инженера.
Но если Ханс устроился как ему удобно, так что за церемонии, ребята! Вся команда снимает куртки и стаскивает рубашки, будто мальчишки, собираясь купаться. Только запальщику Андресу раздеваться не очень охота; но он косится на Хансена – странная была бы субординация, если б десятник остался в пиджаке; и Андрес, мгновенно решившись, сбрасывает с себя вместе с пиджаком и рубашкой и всю свою начальническую важность. Теперь он стоит полуголый, как и все, выкатив небольшую, но ладную грудную клетку со шрамом от огнестрельной раны; замухрышка-то он замухрышка, но солдата все-таки сразу видно. Так, теперь еще подтянуть ремни, да и начать…
Команда смотрит, что успели сделать без нее: Станде кажется, что достаточно, но команда в целом недовольна.
– Глядите-ка, не больно-то много они прибавили!
– Да-а, так всякий сумеет!
– Ишь паршивцы, поглядели, да и лыжи навострили!
– Ей-богу, таких лодырей я еще не видывал!
– Ну, ясно, ребята, что мы сделали, то и есть!
Это не совсем верно, но первая спасательная имеет право критиковать других. Например, по всему восемнадцатому штреку, где были разрушения, вырос целый лес новых стоек и распорок; и рельсы исправлены, на поворотной плите у крейцкопфа стоит вагонетка, с ней можно теперь добраться и до обвалившегося хода; правда, нужно низко нагнуться, чтобы пройти поглубже; внутри завала, насколько может разглядеть Станда, вид еще не очень красив: вспученные стены и рухнувшая кровля – зато все наскоро подперто стойками, прогонами и распорками. И теперь там тянутся трубы со сжатым воздухом, слышно, как гудят вновь поставленные вентиляторы. Дело в шляпе, думает Станда и начинает с большим уважением глядеть на проделанную другими работу; какая подготовка потребовалась, чтобы спасти трех человек! Говорят – смелость и тому подобное; но сколько еще для этого требуется сноровки и разных приготовлений, порядка и всего прочего… нет, тут не геройство, дружище, а разум нужен.
Андрес уже получил распоряжения от Хансена.
– Значит, так, ребята, – говорит он. – Надо работать быстро, пока у нас опять не вспучилась почва. Кто первый пойдет в забой?
– Могу я, – глухо проговорил Адам и наклонился к груде каких-то резиновых и металлических предметов.
– Будете меняться с Суханеком через каждые десять минут. Фалте выбрасывать породу сюда, Станде пригнать вагонетку. Мартинек!
– Здесь!
– Укрепить вторую и третью пару. Восьмую, девятую и десятую заменить. Потом обшить крепью сделанную проходку.
– Есть.
– Ну, за работу, ребята!
Адам только кивнул и стал медленно прикреплять на спину что-то вроде жестяного ранца; теперь он натягивает на голову резиновую морду с длинным слоновьим хоботом – кислородная маска, понял Станда, и сердце у него забилось; значит, тут действительно есть рудничные газы! Адам уже прикрепил снаряжение ремнями к телу; резиновая морда и слоновий хобот придают длинному худому человеческому телу довольно-таки странный вид – ей-богу, только людей пугать. Настоящее привидение! Из-под маски послышались какие-то булькающие звуки – должно быть, Адам что-то сказал, но ничего нельзя разобрать; он проверяет еще раз какие-то краники жестяного прибора и лезет на четвереньках под обрушенную кровлю, втягивая за собой длиннющие ноги.
– Так, Фалта, надеть маску, – торопит Андрес.
– Мне не нужно, – огрызается Пепек. – Я в ней работать не стану.
Запальщик быстро оборачивается – вот сейчас заорет на Пепека, – испугался Станда. Нет, ничего, не заорал.
– Вот как, – сказал он веско. – Опытный забойщик надел бы.
И он повернулся и пошел в крейцкопф к крепильщику, который вместе с Матулой, запрокинув голову, рассматривают крепь и о чем-то советуются.
Пепек нагнулся за маской.
– Тоже мне ловкач, – проворчал он недовольно, – попробуй-ка сам в ней поработать! И не услышишь, если кровля затрещит… Я и так не задохнусь, – гневно бубнит Пепек, натягивая противогаз. – Дьявол, резиной так и смердит!
Пепек становится похож на жука с толстым хоботком и огромными глазами. Из-под маски еще некоторое время слышится придушенное бульканье – по-видимому, Пепек все еще бранится; но вот он пополз на коленях под продавленную кровлю.
Тут из глубины донесся дребезжащий грохот. Этот звук уже знаком Станде – заработал пневматический отбойный молоток. Значит, Адам рубает целик! Слава богу! Теперь, стало быть, по-настоящему делается проходка к троим заживо погребенным!
Пепек, извиваясь, исчез между стойками и подбойками. Дед Суханек серьезно, почти священнодействуя, надевает противогаз.
– Мне тоже надеть? – нерешительно спрашивает Станда.
– Нет, не надо, ты останешься здесь. Ты в нем и дышать-то не сумеешь.
Дед Суханек необыкновенно забавен со своим слоновьим хоботом над мшистой порослью на тощей груди; а Станда разочарован – почему же только ему не нужна маска? Может, он первый сумел бы пролезть к тем троим… И он присаживается на корточки, чтобы хоть одним глазком глянуть, что делается там, внутри завала, но видит лишь, как Пепек пробирается вперед в клубах угольной пыли, которую гонит сюда вентилятор, и она вздымается так, что першит в горле…
Дед Суханек настойчиво хлопает Станду по плечу, покачивая резиновым хоботом: нельзя, Станда, нельзя!
– В чем дело? – недоумевает Станда, а дед показывает пальцем вниз. Ага, газы. Станда до слез закашлялся от угольной пыли; в ее клубах почти уже ничего не видно, одни лишь выпуклые глаза жука и болтающийся хоботок дедовой маски. Внутри с грохотам скребет лопатой Пепек, и – хлоп! – из завала вылетают камни и уголь.
Как далеко швыряет Пепек – изумляется Станда, но тут из тучи пыли выскакивает Андрес.
– Живо за лопату, – подгоняет он, – нагружайте вагонетку! И пошевеливайтесь, понятно? Все убрать с дороги!
Дед Суханек кивает резиновой мордой – ну вот, и тебе дело нашлось, Станда; и, ослепленный пылью, Станда в внезапном приливе усердия, кашляя, принимается кидать лопатой уголь и каменья в вагонетку.
Когда он вернулся с пустой вагонеткой, дед Суханек уже сменил Адама; Адам бессильно прислонился к стойке, снял маску и ладонью стирает с лица и глаз такой обильный пот, что каплет с пальцев; Пепек срывает маску и сплевывает. Он разделся донага, оставил на себе лишь опорки; угольная пыль, смешанная с потом, стекает струйками, прилипает к мокрому телу, от Пепека чуть ли не валит пар.
– Пришлось прикрыть краны, – брюзгливо обращается он к Андресу. – Пыль. – Пепек отхаркивается. – Ей-богу, сегодня мне здесь что-то не нравится!
Андрес пожимает плечами и пинает ногой разбросанные куски породы и угля.
– Слушайте, – сухо говорит он Станде – такая работа никуда не годится; так любая команда сумеет. Пол должен быть чистый, как в бальном зале.
«Ничего себе бал, – думает Станда, – от угольной пыли мы все почернели, словно вороны». Ему трудно дышать, болит голова, хочется прислониться к чему-нибудь и вздохнуть поглубже, но не удается; и темно тут, лампочки еле мигают трепетными покрасневшими огоньками. Но – хочешь чистоты – ладно! И Станда хватает лопату и, пошатываясь, грузит породу. Слышно, как у крейцкопфа бьет Мартинек по подлапке, в глубине завала грохочет и дребезжит отбойный молоток, которым орудует дед Суханек. Пепек сплюнул еще раз, выругался как следует – вероятно, про запас – и снова надел маску. Адам серьезно, сосредоточенно возится с кислородным аппаратом, очевидно, там что-то неладно.
В это время оттуда, где работал крепильщик, послышался треск, что-то хряснуло и тяжело шлепнулось, будто сверху свалился мешок с мукой. Андрес вздрогнул.
– Что такое? – бросил он встревоженно и кинулся туда; Адам только взглянул, Пепек приподнял резиновую морду, прислушался, выругался и полез в дыру. Станда бросил лопату и с бьющимся сердцем побежал вслед за Андресом. Что-нибудь случилось?
Конечно, случилось, но не бог весть что; лишь Мартинек сидит на земле среди раскиданных камней и удивленно моргает; возле него присел Андрес и светит лампой ему на темя; над ними, пыхтя, чешет затылок каменщик Матула.
– А, черт, – отдуваясь, сказал Мартинек, – я только собрался вот тут стойку сменить, а на меня вон что свалилось! – И вдруг он просиял счастливой улыбкой. – А здоровая куча, ребята! – добавил он удовлетворенно.
– Встать можешь? – беспокоится Андрес.
– Еще бы, – отвечает крепильщик, поднимаясь на ноги. – Дай только опамятоваться.
– Голова кружится?
– Немножко есть.
– А не тошнит?
– Нисколечко. – Крепильщик уже стоит, почтительно разглядывая провисшую балку. – Смотри, силища-то какая!
Запальщик обращается к Матуле.
– Вас тоже ударило?
– Ага, – буркнул колосс и почесал всклокоченную голову.
– Тогда немножко передохните, ребята, – заботливо сказал запальщик и обернулся к Станде: – А вы что глазеете? Марш грузить!
Крепильщик Мартинек медленно подходит к своему пиджаку и достает баночку и что-то завернутое в бумагу.
– Мне в таком случае надо перекусить, – говорит он с довольным видом.
Адам уже снова в маске, он дружески кивает Мартинеку слоновьим хоботом.
– Ты уверен, что тебе ничего не сделалось? – торопливо спрашивает Станда, хватаясь за лопату.
– Пустяки!
Молодой гигант устроился поудобнее на земле у крейцкопфа, поставил перед собой лампочку и, развернув коричневую бумагу, с аппетитом посмотрел на толстый ломоть хлеба с салом.
– Ты из-за меня не задерживайся!
Станда торопливо грузит уголь в пустую вагонетку, временами поглядывая на приятеля; тот сидит, свесив голову над нетронутым ломтем хлеба, и морщит лоб.
Станда перестал грузить.
– Тебе нехорошо, Енда?
– Сало воняет, – брезгливо говорит крепильщик и тщательно завертывает хлеб в бумагу. – Я не стану его есть.
Станда снова взялся за лопату, и Матула, пыхтя, застучал по скобе.
Из завала возвращается дед Суханек и стаскивает маску.
– Господи Иисусе, ребята! – вздыхает он и трет высохшими ручками лицо. – Ну и работа! Ну и работа!
Теперь очередь Адама идти в обрушенный штрек; Пепек гремит там лопатой и раз за разом выбрасывает вырубленную породу, так что Станда не успевает складывать ее в вагонетку. «Пепек замечательный, – думает Станда, – как он здорово действует лопатой в тучах пыли, черный и блестящий, точно вытесанный из гранита… чертушка этакий… циклоп прямо какой-то». И изнемогающий Станда с удвоенной силой налегает на лопату.
Он уже вывозит вторую полную вагонетку, поставил на поворотный круг, но тот не поддается.








