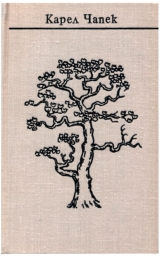
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 42 страниц)
Как ему это удалось, не знаю, но в конце концов он скупил все векселя за четыреста тысяч и запер в своем сейфе.
К тому времени пан Фолтын вернулся домой, страшно потрепанный, прямо будто на скамейках в парке ночевал; он сказал, что пришел только взять кое-какие вещи; но когда служанка принесла ему на подносе обед, он очень обрадовался; она рассказывала, что сама чуть не заплакала – так он ее благодарил; и подбородок у него дрожал от волнения. Он сидел в своей комнате, тихий, как мышь, и все писал что-то или как-то шепотком наигрывал на рояле. Потом сложил свои ноты и куда-то ушел. Стоял ноябрь, а он нарочно не надел теплое пальто, так побежал, в бархатном сюртучке и с развевающимся галстуком, чтобы выглядеть как голодающий музыкант. Он любил такие штучки выкидывать.
Когда наш адвокат обрушил на него дело о разводе, пан Фолтын, говорят, заплакал. Признаю, сказал он, признаю: соединить свою судьбу с судьбой артиста – это сущий ад. Передайте пани Шарлотте, что я возвращаю ей свободу. Никаких препятствий он не чинил и был учтив и покорен судьбе. Только когда адвокат сообщил ему, что я назначаю ему небольшое ежемесячное содержание, которое он может получать в его конторе, пан Фолтын выпрямился, покраснел и возмущенно закричал: «Что? Деньги? Вы думаете, я нищий? Я лучше сдохну с голоду, чем приму ваше подаяние!»
– Хорошо, – говорит адвокат, – я так пани Карличке и передам.
Пан Фолтын, говорят, схватился за голову и захохотал, как безумный. Вы правы, бормотал он, я нищий! Я артист! Простите, а вы не могли бы дать мне вперед пятьсот крон?
С тех пор я потеряла его из виду. Один раз встретила на улице – надо ли говорить, каково мне было. Сумасшедший – и все тут. Косматую свою голову он нес, будто парил в облаках, на шее – грязный бант, под мышкой ноты…
Каждый месяц он приходил в контору за деньгами, неприступный, как бог, небрежным жестом совал деньги в карман и рассказывал, что как раз ведет переговоры с Зальцбургом или с «Метрополитэн-опера» о премьере «Юдифи». Или же говорил, что только теперь почувствовал себя свободным, ибо только в нужде и грязи артист может быть артистом, ну, и тому подобные вещи. Однажды он пришел в лихорадочном состоянии, говорит, через неделю состоится пробное представление «Юдифи» в какой-то киностудии, по особым приглашениям. Смотреть ее съедутся дирижеры и оперные антрепренеры со всего света… Он передал адвокату два билета: один для вас, говорит, а другой… может быть, кто-нибудь пожелает…
Ну, я туда, конечно, не пошла.
А примерно через неделю мне сообщили, что его увезли в Богницы; через два дня он там, бедняжка, и умер. В газетах о его смерти не было ни словечка… Я ему устроила приличные похороны в крематории; он всегда хотел, чтобы его сожгли… Как птица феникс, говорил он. И знаете, на похороны собралось человек двадцать – тридцать, все больше музыканты, которые ходили к нам на музыкальные вечера. Пан Троян тоже был, грустно так поглядывал сквозь очки. И этот шут Моленда со своей бражкой пришел. Плакал – как ребенок. Пришла и та молодая певица, за которой покойник когда-то бегал, – теперь она уже знаменитость, величина! – очень мило с ее стороны. Но самое удивительное – вдруг заиграл орган и зазвучало Генделево «Largo», да так проникновенно! Это один известный профессор консерватории играл… А потом струнный квартет. Наши самые лучшие музыканты, представьте себе! Они сыграли квартет Бетховена… Я не знаю, кто это постарался, наверное, пан Троян, а может, еще кто, но было это так прекрасно и торжественно, что меня вдруг отпустило и сами собой потекли слезы. Должно быть, пан Фолтын все же был большим артистом, раз его провожали такие мастера, и притом совсем бесплатно. Да, похороны у него вышли, как у настоящего музыканта… ничего не скажешь.
И вот я себе иногда говорю: может, он и вправду мог что-нибудь создать? Я, конечно, была не та жена, которая нужна артисту, я знаю, но все-таки я принесла ему благосостояние и мешала так мало, как только может женщина. Наверное, я не очень понимала его; но обыкновенный человек может дать только то, что у него есть. Я хоть надгробие ему красивое поставила: бронзовая лира, а через нее – веточка лавра. И надпись: Бэда Фольтэн.
И больше ничего.
V
Проф. универ, д-р Штраус
Абеляр и Элоиза[137]137
Абеляр и Элоиза – Абеляр Пьер (1079—1142) – выдающийся французский средневековый философ и богослов. Полная трагических перипетий любовь Абеляра к его ученице Элоизе закончилась пострижением обоих в монахи. Письма Абеляра и Элоизы были впоследствии изданы.
[Закрыть]
С паном Фольтэном я познакомился на его домашнем концерте, в котором принял участие наш любительский «профессорский» квартет (два профессора, один председатель суда и наша замечательная первая скрипка – научный сотрудник института анатомии), в котором я играю на альте, – у него в доме часто давались музыкальные вечера с очень приличной программой. Когда мы кончили музицировать, пан Фольтэн, узнав, что моя специальность – сравнительная история литератур, увлек меня в соседнюю комнату. Он произвел на меня впечатление образованного, богатого и благородного молодого человека, питающего любовь к музыке и ко всему прекрасному. Итак, он отвел меня в сторону и начал говорить, что восхищен историей Абеляра и Элоизы и хотел бы написать на эту тему роман или даже оперу; не окажу ли я ему любезность и не расскажу ли немного об Абеляре и его эпохе.
Чистая случайность, но одиннадцатое и двенадцатое столетия с их схоластикой и расцветом монастырей – в некотором роде мой конек. Боюсь, что тогда я несколько увлекся и совсем как на лекции стал трактовать вопросы средневекового номинализма[138]138
Номинализм – направление в средневековой философии, к которому примыкал Абеляр. Приверженцы этого направления считали, что так называемые универсалии (общие понятия) не имеют самостоятельного существования вне реальных вещей. Номиналисты были предшественниками философов-материалистов.
[Закрыть], анализировал «Glossulae super Porphyrium»[139]139
«Глоссы к Порфирию» (лат.)
[Закрыть] и даже пустился в полемику со Шмейдлером: я беру на себя смелость утверждать, что письма Абеляра и Элоизы хотя бы отчасти – подлинные. Пан Фольтэн слушал, как будто все это его чрезвычайно занимало, хотя не знаю, как могли послужить для его оперы Абеляровы «Glossulae» или «Introductio in theologiam»[140]140
«Введение в теологию» (лат.)
[Закрыть], но я, войдя в профессорский раж, об этом и не думал. Я даже пообещал ему, что, если его так интересует эта история, я снабжу его соответствующей литературой для изучения вопроса. Пан Фольтэн пришел в восторг и заранее благодарил. Мне очень понравилось, что композитор или писатель так серьезно относится к интересующему его сюжету и пытается овладеть им, как специалист; поэтому я послал ему целую кипу источников, различные абеляровские издания, Хаусрата, Каррьера и еще кое-что. Некоторое время спустя я его встретил и спрашиваю, как, мол, поживает Элоиза. Пан Фольтэн сообщил мне, что трудится над ней неустанно; любовь Абеляра и Элоизы – это благороднейшая и увлекательнейшая тема для оперы, какую только можно себе представить. Меня это порадовало: двенадцатый век с его конфликтом между духовным уставом и человеческими, уже отчасти предренессансными факторами – поистине драгоценная эпоха. Я не хотел просить его вернуть первоисточники до тех пор, пока они могли служить ему источником вдохновения или руководством. К сожалению, позднее я потерял его из виду, так что уже не мог послать ему новое, критически комментированное гейеровское издание[141]141
Гейеровское издание. – Немецкий филолог Б. Гейер издавал философские труды Абеляра в Мюнстере (1919—1933).
[Закрыть] трактата Абеляра «De unitate et trinitate divina»[142]142
«О единстве и тройственности бога» (лат.)
[Закрыть], там было любопытное замечание насчет того, почему Абеляр был заключен в монастырь.
Позднее я с глубоким прискорбием узнал, что пан Фольтэн скончался в нищете, – мои книги, в частности редкое и ныне недоступное издание Кузена[143]143
Издание Кузена. – Труды Абеляра в издании Кузена выходили в Париже (1849—1859).
[Закрыть] 1849 года, после его смерти, по всей вероятности, погибли. Жаль, очень жаль, что молодой, подававший надежды композитор, по-видимому, не закончил свою оперу об Абеляре и Элоизе; это поистине редкий случай, когда художник подошел к материалу, увлекшему его, с такой глубокой серьезностью и профессиональной подготовкой.
VI
Д-р И. Петру
Текст к «Юдифи»
Пану Фольтэну меня представили в театре, на какой-то премьере. Я слышал о нем и раньше – как о необыкновенно богатом человеке, боготворящем искусство. При первом знакомстве он произвел на меня впечатление несколько тщеславного и аффектированного, но в общем сердечного молодого человека. Мне не понравились его бакены, его монокль, золотая цепочка на запястье, вся его благоухающая духами элегантность. По правде говоря, я подумал: сноб. Он с необычайной живостью и восторгом пожал мне руку и тотчас же пригласил к себе – «к пани Шарлотте и ко мне, на наши интимные музыкальные вечера», как он выразился. Он приглашал так настойчиво, что я согласился, хотя и без особой охоты, и через некоторое время мне пришло печатное приглашение на soirée musicale chez M-me et Maître Beda Folten. Comme chez soi.[144]144
Музыкальный вечер у мадам и маэстро Бэды Фольтэн. Запросто (франц.)
[Закрыть]
Мне довелось присутствовать лишь на одном таком вечере. Фольтэн с развевающимся галстуком и в бархатном сюртуке приветствовал меня с бурной сердечностью.
– Проходите, проходите, – восклицал он, – вы здесь в мире искусства!
Его жена была несколько бесцветная и анемичная, но, по-видимому, славная женщина. Она напомнила мне евангельскую Марфу, которая нужна лишь для того, чтобы заботиться о еде и питье; только порою она робко и как-то по-матерински улыбалась оставшемуся в одиночестве гостю, с которым – хоть убей! – не знала, о чем говорить. Зато здесь прислуживали два приглашенных из кафе официанта, хорошо мне знакомые; их облачили в короткие панталоны, шелковые чулки и даже в белые напудренные парики, чтобы они больше потели, разнося чай и шампанское. Гостей было человек сорок, и многих я знал; добрая половина из них, как и я, недоумевала, в то время как другая спешила побольше съесть и выпить. Во всем чувствовалась какая-то принужденность и несовместимость. Фольтэн в своем бархатном сюртучке с напускной веселостью прохаживался среди этой пестрой публики; одного тащил в буфет, другого по-приятельски похлопывал по плечу, на ходу ухаживал за какой-то музыкальной дамочкой – этакая странная смесь снисходительности, дружелюбия, представительности и слишком наигранной, фамильярной sans façon[145]145
непринужденность, бесцеремонность (франц.)
[Закрыть] или pas de chichi[146]146
панибратство (франц., разг.)
[Закрыть] богемы. Потом нас перегнали в «музыкальный салон» и усадили на пол, на подушки, на низенькие диванчики, прислонили к камину и дверному косяку. Начался концерт. Молодой композитор сыграл свою фортепьянную сюиту, затем какая-то девица исполнила на скрипке произведение длинноволосого и очкастого юноши, аккомпанировавшего ей на рояле, – по-моему, это было неплохо. Но более всего я был захвачен тем, как маэстро Фольтэн и его супруга восседают в центре комнаты в креслах, подобно царской чете, среди раскинувшихся вокруг них на полу и на подушках «артистов». Прищурившись, с видом знатока Фольтэн одобрительно кивал, а пани Фолтынова, плотно сжав губы, явно думала лишь о распоряжениях прислуге. Не знаю почему, но все это вызывало у меня раздражение; наверное, мы не созданы для такого великолепия.
По окончании программы Фольтэн доверительно взял меня под руку и увлек в маленький салон.
– Я так рад познакомиться с вами, – пылко заверил он, – я был бы счастлив оказать вам какую-нибудь услугу.
Я не мог себе представить, какую услугу мог бы оказать мне пан Фольтэн, а он продолжал говорить, что необычайно, исключительно высоко ценит мои суждения как театрального критика и теоретика искусства.
– Дело в том, что я сочиняю оперу «Юдифь», – объявил он, слегка зардевшись. – И сам написал к ней либретто. По-моему, – сказал он, запуская пальцы в свою гриву, – по-моему, композитор должен сам писать свои либретто, только тогда его произведение будет представлять собой нечто целостное – в нем не будет ничего чуждого, ничего, что бы не вытекало из самых глубин его собственной интуиции.
Против этого в общем-то возражать не приходилось. С видимым удовольствием Фольтэн повторял это на все лады, пока наконец не проговорился, чего он хочет от меня. Не окажу ли я ему любезность прочесть вышеупомянутое либретто. И не выскажусь ли откровенно, в чем оно не выдерживает наистрожайшей критики.
– Видите ли, я скорее музыкант, чем поэт, – извинился он и потом снова заговорил о том, как безгранично доверяет моему мнению и так далее.
Что делать – я съел у него два бутерброда, поэтому мне не оставалось ничего другого, как сказать, что с величайшим удовольствием, и тому подобное. Он горячо пожал мне руку.
– Я пришлю вам рукопись завтра, – сказал он, – а сейчас, прошу вас, пойдемте к молодежи.
Молодежь тем временем вдрызг перепилась и вопила так, что дребезжали стекла; оторопевшая хозяйка дома натянуто улыбалась, а пан Фольтэн восклицал:
– Резвитесь, резвитесь, дети! Как дома! Здесь все артисты!
На следующий день прибыла рукопись – в огромной корзине, полной вина, винограда, лангустов и бог весть чего еще; при виде ее я испытал адское желание отправить все обратно. Либретто оказалось ужасающим: несколько превосходных строф или приличный прозаический пассаж, а потом – страница-две бреда параноика; затем вдруг опять многообещающий кусок диалога или более или менее выразительная сцена, и снова путаные и высокопарные тирады. Все это претендовало на демонические страсти, а было чем-то маниакальным, чудовищным в своей патетической выспренности. Действующие лица выплывали неизвестно откуда, вне всякой связи с предыдущим и исчезали неизвестно куда: половину из них автор вообще забыл включить в список. В первом акте в Юдифь влюблен пастух по имени Эзрон, в третьем он превращается в полководца Робоана, а далее исчезают оба. Сущий хаос. Я не знал, что и думать: что, собственно, хотел этим сказать Фольтэн; я снова стал листать рукопись, вновь перечитал диалог Олоферна, написанный лукаво позванивающим, неброским ироническим стихом, и вдруг меня осенило: это мог написать только Франта Купецкий!
Эта мысль не давала мне покоя, и вечером я, прихватив рукопись, отправился в трактир, где всегда сидел Франта.
– Прочти-ка эти стихи, Франтик, – говорю я, – как они тебе покажутся?
Купецкий подмигнул мне и ухмыльнулся.
– Не дурны. А вот что дальше, так это к ним не относится.
Он перелистывал рукопись и качал головой. Потом громко заржал.
– Ой, братцы, – хохотал он, – ой, братцы, вот это да!..
– Франта, – сказал я, – взгляни-ка, не похоже ли, что этот диалог Юдифи написал Тереба?
Купецкий кивнул.
– Значит, Тереба тоже… – пробормотал он. – Ну, конечно, ему ведь тоже жрать нечего было!
– И сколько он вам заплатил?
– Он? – заворчал Франта. – Мне лично эта мразь дала три тысячи за все либретто, но в этом винегрете от меня осталось только три отрывка. Самые лучшие стихи выбросил.
Купецкий заулыбался, словно китайский божок.
– Gesamtkunstwerk.[147]147
Собрание сочинений (нем.). Игра слов: может быть понято как «собрание разных сочинений, сборная солянка».
[Закрыть] Я полагаю, что тут писало человек пять, по крайней мере. Вот это, например, Восмик. А это, – задумался он над одной страницей, – кто бы мог это написать? «Юдифь, Юдифь, что шаг твой неуверен?» Этого я не знаю. «В моей груди косматой…» – пожалуй, это Льгота. Помнишь его «…как гулок шаг мужей косматых…»? Ты не знаешь Льготу? Такой молоденький дохлятик, сильно желторотый птенец…
– Послушай, а как он заказывал вам эту работу? – спросил я.
Купецкий пожал плечами.
– Как, как! Пришел сюда… будто случайно. «Ах, как я счастлив видеть здесь любимого поэта!..»
– А на музыкальные вечера он тебя не приглашал?
– Нет, – солидно ответил Франта, – таких свинтусов он не приглашает. Ему нужна богема, но чтоб при лакированных туфлях. Салон, понимаешь? Он тут вот, в трактире, со мной сидел, меценат этот. Я нарочно делал вид, будто пьян вдребезину, чтобы говорить ему «ты», – уж он извивался… – Купецкий захохотал. – Ну, а потом начал: я-де, дорогой мой, сочиняю оперу, либретто пишу сам…
– …чтобы было нечто целостное.
– Вот именно. Но что голова его полна музыкальных образов и он не может сосредоточиться на либретто. Вот если бы я в общих чертах составил ему план, подбросил парочку идей и несколько стихотворных монологов – чтобы были на какое-то время ориентиры для его музыкальных вдохновений. Наплел с три короба. Вот уж кто подлинно испытывает муки творчества…
– И ты попросил у него аванс?
– Откуда ты знаешь? – удивился Купецкий. – Послушай, у тебя нет какой-нибудь работы?
– Нет, – сказал я. – А этот бред сумасшедшего, как ты думаешь, он сам сочинил?
– Как же, сам, – проворчал Франта. – Для этого у него есть молодой поэт, из тех, что к нему в гости ходят в лакированных туфлях.
– Он не сумасшедший?
– Да вроде бы нет, – заметил поэт Купецкий. – Впрочем, про поэтов ничего нельзя сказать с уверенностью.
* * *
Когда Фольтэн пришел ко мне за рукописью, я повел разговор примерно так:
– Послушайте, Фольтэн, так не годится. Как вы сами исключительно верно изволили заметить, художественное произведение должно представлять собою нечто целостное. А то, что вы называете либретто, выглядит так, будто его сочиняли пять человек. Как если бы вы взяли пять текстов, написанных пятью разными авторами, и кое-как, по кусочкам слепили воедино. Тут нет ни начала ни конца, нет связного действия, в каждой сцене иной стиль, иное звучание, совсем другие действующие лица… Вы можете выбросить это, Фольтэн.
Он несколько раз судорожно глотнул, моргая, как провинившийся ученик.
– Доктор, – проговорил он, запинаясь, – а вы сами не могли бы это немножко подправить? Разумеется, не бесплатно.
– О нет. Простите, но как вы можете покупать у нескольких авторов тексты и затем выдавать их за свое собственное либретто? Так все-таки не поступают!
Он был удивлен и даже немного оскорбился.
– Но почему? Ведь «Юдифь» все равно мое духовное детище! Сделать из нее поэму или оперу – это моя идея, сударь!
– Да, – сказал я ему. – Только до вас эта идея почему-то пришла в голову какому-то Иоакиму Граффу, и Микулашу Коначу[148]148
Микулаш Конач (ум. в 1545 г.) – чешский литератор и книгоиздатель.
[Закрыть], и Гансу Саксу[149]149
Ганс Сакс (1494—1576) – выдающийся немецкий поэт.
[Закрыть], и еще Опицу[150]150
Опиц Мартин (1597—1639) – немецкий поэт и теоретик литературы, представитель немецкого классицизма.
[Закрыть], Геббелю[151]151
Геббель Фридрих (1813—1863) – немецкий драматург, поэт и теоретик искусства. Трагедия Геббеля «Юдифь» завершена в 1840 г.
[Закрыть], Нестрою[152]152
Нестрой Иоганн Непомук (1801—1862) – известный австрийский драматург.
[Закрыть] и Кайзеру[153]153
Кайзер Георг (1878—1945) – немецкий драматург, представитель экспрессионизма.
[Закрыть], а оперу о Юдифи написал некий Серов[154]154
Серов А. Н. (1820—1871) – известный русский композитор и музыковед. Опера «Юдифь» поставлена в 1863 г. в Петербурге.
[Закрыть] – и еще Ветц, Онеггер[155]155
Онеггер Артур (1892—1950) – французский композитор; его опера «Юдифь» была поставлена в 1926 г.
[Закрыть], и Гуссенс[156]156
Гуссенс Юджин (род. в 1893 г.) – английский композитор и дирижер. «Юдифь» Гуссенса была поставлена в 1929 г. в Лондоне.
[Закрыть], и Эмиль Николаус фон Резничек[157]157
Эмиль Николаус фон Резничек (1860—1945) – австрийский композитор и дирижер.
[Закрыть]. Но именно поэтому о Юдифи можно написать еще дюжину опер, – добавил я поспешно, увидев, как он потрясен, – все зависит от того, как понят материал.
Он заметно воспрянул духом и просиял.
– Вот именно! И понимание тут чисто мое! Олоферн пробуждает в девственной Юдифи женщину… такую яростную эротическую одержимость, – только поэтому она его и убивает… Великолепная мысль, не правда ли?
Я готов был его пожалеть, – он явно не понимал, насколько это тривиально.
– Ну, – сказал я, – по-моему, тут важнее всего музыка. Знаете что? Предложите какому-нибудь приличному драматургу написать все либретто, и пусть он поставит свою подпись, понимаете?
Он снова горячо жал мне руку и трогательно благодарил. Я-де его понял и пробудил в нем новое желание работать, – чем это, не знаю. И слова он прислал мне роскошную корзину с ананасами, вальдшнепами и аперитивом «Мария Бризар». Видно, потому, что считал себя страстным сенсуалистом и гедоником.
* * *
Примерно через месяц он появился снова, сияя больше чем когда-либо.
– Пан доктор! – провозгласил он победно. – Несу вам свою «Юдифь»! Теперь уж это настоящее! Я вложил сюда всю свою концепцию. Полагаю, на этот раз вы останетесь довольны и композицией, и развитием действия…
Я взял рукопись.
– Это вы написали сами, Фольтэн?
Он чуть заметно глотнул.
– Сам. Все сам. Я никому не мог доверить свое видение Юдифи. Это чисто мое представление…
Я начал перелистывать сей манускрипт и вскоре понял что к чему. Это была переведенная крайне небрежно, а порой и бесстыдно искаженная Геббелева «Юдифь»; в текст Геббеля всунуто кое-что из сухих пародийных стишков Купецкого, «косматая грудь» Льготы… и опять кое-какие из прежних полоумных тирад.
– Достаточно, Фольтэн, – сказал я. – Кто-то вас ловко провел. На четыре пятых это плагиат «Юдифи» Геббеля. С этим нельзя выступать публично.
Фольтэн покраснел и судорожно глотнул.
– А может, подписать так, – слабо защищался он: – «По драме Геббеля – Бэда Фольтэн»?
– Не делайте этого, – предостерег я. – С Геббелем тут так обошлись, что это прямо вопиет к небу; казнить за это надо. Давайте, я лучше сразу же брошу это в огонь.
Он вырвал у меня рукопись и прижал к груди, как величайшую драгоценность.
– Только посмейте, вы! – закричал он, и глаза его запылали отчаянной ненавистью. – Это моя Юдифь! Моя! Это мое, только мое видение. И не важно что… что…
– Что это уже кто-то написал, не так ли?
Я видел, что ему абсолютно недоступна, так сказать, моральная сторона проблемы, что он прямо по-детски влюблен в свою Юдифь; этот человек мог бы покончить с собой, если бы кто-нибудь доказал ему, что он заблуждается. Я пожал плечами.
– Возможно, вы и правы, Фольтэн. Когда человек что-то любит, это в известной степени принадлежит ему. Я вам вот что предложу. Я буду считать ваше либретто плагиатом и жульничеством, а вы считайте меня идиотом или чем хотите, и все.
Он ушел от меня, глубоко оскорбленный. С тех пор он величал меня не иначе как литературным крохобором, жалким педантом и бог весть как еще. Что правда, то правда: ненавидеть он умел как истинный литератор. В этом он был неподражаем.








