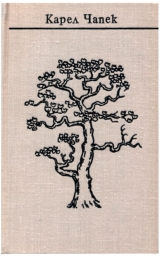
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 42 страниц)
Или ипохондрик: доделать его как следует, вышел бы настоящий изверг. Его история была бы чудовищной, тиранией слабости и страха, потому что слабый человек – самый ужасный тиран. Всех заставил бы плясать вокруг себя на цыпочках, и слова не скажи. Никто не засмейся, никто не порадуйся жизни, потому что я болен. Как может, как смеет кто-то быть здоровым и веселым! Так нет же, не дам вам, негодяи, пусть ваши лица дергаются от боли, сохните от страха и удрученности! Хоть вам, самым близким, буду отравлять дни и ночи тысячью мелочных издевок, хоть вас-то заставлю служить моей немощи и хвори – да разве я не хвор и не имею на то права? А они – смотрите-ка! – взяли и умерли раньше! Так им и надо, а всё оттого, что были здоровы! В конце концов он остается один, этот ипохондрик; всех пережил, и некого уже мучить; теперь он действительно болен и – одинок в своей болезни. Не на кого больше злиться, некого винить в том, что сегодня ему хуже… Какой эгоизм со стороны этих людей, нарочно умерли! И ипохондрик, мучивший живых, начинает тихо и горько ненавидеть умерших, покинувших его.
А что можно было бы сделать из героя! Тот живым бы не выбрался. Однажды ночью схватили бы его солдаты – как он взглянул бы на них, таким гордым, пылающим, насмешливым взором, – как тогда сын маляра… И был бы расстрелян на месте, – скорее всего, пуля попала бы прямо в сердце; мгновенная боль – и он навзничь падает между рельсов. Обезумевший сотник с револьвером… Унесите «собаку» в ламповую! Четыре железнодорожника тащат его тело – господи, до чего ж тяжелы мертвецы!
К тому времени поэт давно бы умер, спился бы; умирал бы в лазарете, опухший и страшный; что это шуршит – листья пальм или крылья? Это молится над ним сестра милосердия, за руки держит – он мечется в белой горячке. Сестричка, сестра, как там дальше: ангел божий, мой хранитель?..
А романтик… ну что ж – случилось бы что-нибудь, какая-нибудь огромная, необыкновенная катастрофа, и он умирал бы, – конечно, за прекрасную чужеземку, положив голову ей на колени, шептал бы: «Ne pleurez pas, madame…»[112]112
Не плачьте, мадам… (франц.)
[Закрыть]. Да, это и был бы настоящий конец, и все это – настоящие, цельные жизни, какими бы им следовало быть.
И это – все, и все – мертвы? Нет, остался еще тот божий нищий; как, он разве не умер? Не умер, нет, и, может быть, он – бессмертен. Вечно он – там, где конец всему; и будет, верно, в конце всего, увидит и это!
XXXIV
Каждый из нас – мы, каждый – толпа, и не видно края ее. Ты только взгляни на себя, человек, – ты ведь чуть ли не все человечество! Это и страшно: ты согрешил – а вина падает на них на всех, и всякую боль твою и слабость несет это необозримое множество. Нельзя, нельзя столько людей вести дорогой унижения и тщетности! Ты – Я, ты ведешь, ты за них в ответе; всех их ты обязан куда-то привести.
Да, но что делать, когда столько судеб, столько вероятностей! Могу ли я всех их вести за ручку? Неужто мне вечно вглядываться в самого себя, выворачивать жизнь свою и на лицо и наизнанку – а нет ли там еще чего– нибудь? Не пропустил ли я какую-нибудь скромную личность, которая почему-то прячется за остальными? Неужто мне вытягивать из себя каждый росток вероятной жизни? Да их ведь уже было добрых полдюжины, – тех, которых можно было кое-как распознать и назвать, и этого более чем достаточно; каждой хватило бы на полную жизнь – зачем же еще искать? Эдак и жить не успеешь, все будешь копаться в себе…
Ну и хватит тебе копаться, ни к чему это не приведет. Не видишь разве, что все другие люди, кем бы они ни были, – такие же, как ты, и каждый из них – тоже толпа! Ты и понятия не имеешь, сколько в вас общего; только присмотрись – ведь их жизнь тоже одна из неисчислимых вероятностей, заложенных в тебе! Ты тоже мог быть тем, что они: мог быть важной особой, или нищим, или поденщиком, голым по пояс; мог быть гончаром, или пекарем, или отцом девяти ребятишек, от уха до уха в повидле. Все это – ты, потому что и в тебе тоже разнообразие вероятностен. Можно смотреть на других людей и по ним узнавать, сколько всего скрыто в тебе. И любой из них живет чем-то твоим – и оборванец, которого уводит в наручниках полиция, и тихий, мудрый ламповщик, и пьяный сотник, заливающий горе вином, – все, все. Гляди, гляди хорошенько, чтоб наконец-то постичь, сколь многим мог бы ты стать; вглядишься пристальнее – в каждом увидишь часть самого себя и тогда, потрясенный, узнаешь в нем подлинно ближнего своего.
Да, это так, слава богу, это так; и я уже не столь одинок в своем «я». Люди, мне больше нельзя к вам, не могу я смотреть на вас вблизи, только в окошко выглядываю – вдруг пройдет кто-нибудь: почтальон или ребенок из школы, метельщик или нищий. А может, пройдет мимо тот юноша со своей девушкой, они склонят головы друг к другу и даже не оглянутся на мои двери. А я уж и стоять-то у окна больше не могу – такие у меня отекшие и непослушные, словно холодеющие ноги, но я могу еще думать о людях, знакомых и не знакомых, – их много, словно на ярмарке, необозримая толпа! Господи, сколько людей! Кто бы ты ни был – я узнаю тебя; ведь более всего нас уравнивает то, что каждый из нас живет в какой-то иной вероятности. Кто бы ты ни был – ты одно из моих бесчисленных «я». Ты – то дурное или то доброе, что есть и во мне; даже если б я ненавидел тебя – никогда не забуду, как страшно ты близок мне. Возлюблю ближнего, как самого себя; и ужаснусь его, как самого себя, и противиться ему буду, как самому себе; его бремя буду чувствовать, его болью страдать и изнывать от бесправия, совершаемого над ним. Чем ближе буду к нему, тем полнее найду себя. Положу предел эгоисту, ибо сам эгоист, и послужу больному, ибо сам болен, не пройду мимо нищего на паперти, так как сам я беден, как он, и буду другом всем, кто трудится, ибо и я – один из них. Я – то, что в силах постичь. Чем больше людей я узнаю – тем полнее станет моя жизнь. И я буду всем, чем мог быть, и то, что было лишь вероятно, станет действительностью. Я буду этим тем больше, чем меньше останется во мне моего «я», ограничивающего меня. Ведь это «я» было как потайной воровской фонарик – существовало только то, что вошло в маленький освещенный круг. Но теперь есть ты, и ты, и ты – столько вас, столько нас, будто на ярмарке. Господи, как разрастается мир, когда в него вступает столько других людей! Кто бы подумал, что это так беспредельно, так величественно!
Вот это и есть обыкновенная жизнь, самая обыкновенная – не та, моя, а наша, необъятная жизнь всех нас. Все мы обыкновенны, когда нас столько, и вместе с тем – какое величие! Быть может, сам бог – совсем обыкновенная жизнь, надо только увидеть, познать его. Быть может, я нашел бы его в других, не найдя – или не узнав – в себе; например, встретишь его среди людей, и, может быть, у него самое обыкновенное лицо, как у всех нас… И он мог бы явиться… ну, хотя бы во дворе столяра; нет, не то чтобы он явился – а просто тебя вдруг осенило бы: он – здесь и повсюду, и ничего, что громыхают доски и визжит рубанок; отец даже головы бы не поднял, Франц не перестал бы свистеть, а пан Мартинек смотрел бы своими прекрасными глазами, но ничего особенного не видел бы; то была бы самая обыкновенная жизнь– и все же какое грандиозное, потрясающее величие. Или вдруг – это случилось бы в дощатой лачуге, запертой на крючок, вонючей, как нора; такая там тьма, только в щель пробивается свет – и вот вдруг все это, все это свинство и нищета, начнет вырисовываться в каком-то странном, ослепительном сиянии… Или – последняя на свете станция, ржавая колея, зарастающая пастушьей сумкой и мятликом, и больше ничего – конец всему: и вдруг этот конец всему и окажется именно богом! Или рельсы, убегающие в бесконечность и в бесконечности пересекающиеся, рельсы, гипнотизирующие тебя; и уже не в поисках неведомых приключений двинулся бы я по ним – а прямо, все прямо – в бесконечность. Быть может, и это было там, и это было в моей жизни, да я проглядел. Например, ночь, ночь, и красные, зеленые огоньки, и стоит на станции последний поезд; вовсе не международный экспресс, совсем обычный пассажирский, этакая пыхтелка, со всеми остановками; почему бы такому обычному поезду не унестись в бесконечность? Бим-бим, смазчик простукивает колеса, на перроне качается фонарь ламповщика, начальник станции поглядывает на часы – пора. Захлопываются двери вагонов, все берут под козырек, – готово! – и поезд, прогрохотав по стрелкам, раскатился во тьму – по той самой колее в бесконечность. Стойте, да ведь в поезде том полно: сидит там пан Мартинек, пьяный сотник спит в углу как бревно, смуглая девочка прижалась носом к стеклу, высовывает язык, а из тормозной будки на последнем вагоне машет флажком проводник. Погодите, я с вами!
* * *
Доктор был в саду, когда пан Попел пришел вернуть ему рукопись, аккуратно перевязанную, словно стопка завершенных дел.
– Прочитали? – спросил доктор.
– Прочитал, – буркнул старик, не зная, что бы сказать еще; помолчав, он воскликнул: – Послушайте, вряд ли это шло ему на пользу – писать такие вещи! По почерку видно – он так неровен в конце, – что рука сильно дрожала.
Пан Попел взглянул на собственную руку; нет, слава богу, еще не очень дрожит.
– Я думаю – все это должно было сильно волновать его, правда? С его здоровьем…
Доктор пожал плечами.
– Конечно, это было ему вредно. Рукопись еще лежала на столе, когда меня к нему позвали. Видно, только что дописал – если вообще дописал до самого конца. Конечно, для него было бы лучше раскладывать пасьянс или что-нибудь в этом роде.
– Тогда бы он мог еще пожить? – с надеждой спросил пан Попел.
– Да-да, – пробормотал врач. – Еще две-три недели, а то и пару месяцев…
– Бедняга, – с чувством произнес пан Попел.
Тихо было в саду, лишь где-то за забором радостно вскрикивал ребенок. Старик задумчиво приглаживал загнутые уголки листков.
– Господи, – сказал он вдруг, – сколько я бы мог рассказать о своей жизни! У меня, знаете, все было не так просто и… обыкновенно, как у него. Вы еще молоды, вы не знаете, на что способен человек… Если б я захотел, все это как-нибудь объяснить – куда бы меня занесло! Н-да… что было, то было, чего ж теперь говорить. А вы – вы, конечно, тоже…
– Мне такими делами заниматься некогда, – возразил доктор. – Копаться в себе и тому подобное… Благодарю покорно, с меня хватает этого свинства в других.
– Значит, – нерешительно начал пан Попел, – вы говорите, лучше пасьянс…
Врач метнул на него взгляд – как бы не так, стану я тебе тут медицинские советы давать!
– Это уж кому что нравится, – нелюбезно ответил он.
Старик задумчиво протянул:
– А какой был хороший, аккуратный человек…
Доктор отвернулся, делая вид, что ощипывает увядший цветок.
– А знаете, я переменил кусты дельфиниума у него в саду, – буркнул он. – Чтоб после него все в порядке осталось…
Послесловие
Конец трилогии. Словно гости разошлись, – был полон дом, и вот – тишина; немножко – чувство освобождения, немножко – покинутости. В такие минуты мы вспоминаем то и это, что собирались сказать ушедшим – и не сказали, о чем думали спросить их – и не спросили; или вспоминаем, кто каким был, возвращаемся мыслью к тому, кто что сказал, как взглянул. Сложить на коленях руки и еще немножко думать о тех, кого здесь уже нет.
Вот крестьянин Гордубал. Человек от коров столкнулся с человеком от коней; конфликт между человеком, который от одиночества весь обратился внутрь себя, – и простой, скажем, жестокой действительностью, окружавшей его. Но это не то, не в этом подлинная судьба Гордубала. Настоящий и горчайший удел его – это то, что с ним произошло лишь после смерти. Как грубеет его история в руках людей; как все события, которые он пережил по-своему, по своим внутренним законам, становятся непонятными, угловатыми, когда полицейские взялись реконструировать их с помощью объективного расследования; как все портится, запутывается и сплетается, образуя совсем иную, безнадежно безобразную картину. И до чего же сам Гордубал обрисовывается искаженно и чуть ли не гротескно, когда общественный обвинитель, от имени суда нравственности, взывает к его тени, чтоб она свидетельствовала против Поланы Гордубаловой. Что осталось от Юрая Гордубала! Бессильный, слабовольный старик… Да, затерялось сердце Гордубала за этими человеческими процедурами; в этом и есть трагедия крестьянина Гордубала, – и более или менее всех нас. К счастью, мы обычно не знаем, какими предстают наши побуждения и дела перед другими людьми; быть может, мы ужаснулись бы того перекошенного, неясного представления, которое сложилось о нас даже у тех, кто к нам расположен. Необходимо сознавать эту сокрытость подлинного существа человека и его внутренней жизни, чтоб постараться узнать его справедливее – или, по крайней мере, больше уважать то, чего мы о нем не знаем. История Гордубала была написана зря, если не стало ясно, какая страшная и всеобщая кривда совершена над человеком.
Познание людей для нас во многом ограничено тем, что мы присуждаем им определенное место в своей системе жизни. Как по-разному являются нам одни и те же люди, одни и те же факты в восприятии Гордубала, в глазах полицейских и в нравственной точке зрения суда! Прекрасна и молода Полана, какой ее видит Гордубал, – или стара и костлява, как о ней говорят другие? Вопрос по видимости простой и даже несущественный, но от этого зависит – убил ли Штепан Манья (в действительности его звали Василь Маняк, а Гордубала – Юрай Гардубей) из любви или из корысти; все дело обернется иначе в зависимости от ответа на этот вопрос. И таких загадок много. Каким же был Гордубал, какой была Полана? И был ли Штепан мрачным преступником – или симпатичным парнем, которого боготворила маленькая девочка Гафия? И каким образом связана со всем этим проблема земли и тот жеребчик? История, первоначально примитивная, распадается на ряд неразрешимых и спорных загадок, стоило только включить ее в различные системы и подвергнуть различным толкованиям. Трижды пересказываются здесь одни и те же события: сначала так, как их воспринимал Гордубал, потом – как их увидели полицейские, и наконец – как оценил их суд; чем дальше, тем сильнее скрипит все сооружение под тяжестью противоречий и несообразностей – несмотря на то или именно потому, что хотят установить правду. Это не значит, что правды нет, но она глубже и труднее, а действительность – куда шире и сложнее, чем принято думать. Повествование о Гордубале заканчивается не исправленной кривдой, вопросом без ответа; неопределенность венчает ее там, где читатель ждет, что его отпустят с миром. Так в чем же подлинная правда о Гордубале и Полане, в чем – правда о Манье? А что, если правда-то эта – нечто более объемное, обнимающее все эти толкования, но и выходящее за их пределы? Что, если подлинный Гордубал был и слаб и мудр, Полана – прекрасна, как дворянка, но и измождена, как старая мужичка, что, если Манья был мужчина, способный убить из любви, – и человек, убивающий ради денег? На первый взгляд – хаос, и мы не знаем, как к нему подступиться, и вовсе он нам не по вкусу; обязанность писателя – по возможности как-нибудь привести в порядок то, что он нагромоздил.
На то и есть «Метеор» – вторая часть трилогии. Здесь тоже в трех или четырех вариантах излагается жизнь человека, но изложение – обратное первому: люди здесь всеми способами стараются отыскать утерянное сердце человека; дано только тело его, и к нему-то стараются найти соответствующую жизнь. На сей раз важно не то, насколько расходятся толкования, тем более что их приходится высасывать из пальца (как бы это ни называлось – интуиция, живой сон, фантазия и так далее); наоборот, бросается в глаза, как кое-где, в некоторых точках, эти толкования совпадают или сходятся с вероятной действительностью, – а впрочем, и это еще не самое главное. Каждый отгадчик включает данный факт – бесчувственное тело – в иной порядок жизни; и истории получаются разными в зависимости от того, кто их рассказывает; каждый вкладывает в историю самого себя, свой опыт, свое ремесло, свой метод, свои наклонности. Первая история – объективный диагноз врачей; вторая – история любви и вины, – это женская участливость сестры милосердия; третья – абстрактная, интеллектуальная конструкция ясновидца, и наконец – сюжетная разработка писателя; можно было бы выдумать еще истории без числа, но автор должен быть настолько благоразумным, чтоб вовремя остановиться. Общее для всех этих историй – это то, что в них более или менее фантастически отражен сам рассказчик. Человек, упавший с неба, по очереди становится объектом воображения доктора, монахини, ясновидца и писателя; и всякий раз это – он, но и тот, кто занялся его судьбой. Все, на что мы смотрим, – вещь сама по себе, но вместе с тем и что-то от нас, что-то наше, личное; и когда мы познаем мир и людей, то это – вроде как бы наша исповедь. Мы видим вещи по-разному – в зависимости от того, кто мы и каковы; вещи добры и злы, прекрасны и страшны, – определяет это то, какими глазами мы на них смотрим. До чего же огромна и сложна, до чего просторна действительность, если в нее вмещается столько различных интерпретаций! Но в этом уже нет того хаоса – это четкая множественность, это уже не неопределенность, но – многогласие; то, что угрожало слепыми противоречиями, говорит теперь лишь, что мы слышим различные и несообразимые свидетельские показания – и еще, что мы выслушиваем разных людей.
Но если во всем, что мы постигаем, всегда содержится наше «я», то как можем мы постичь эту множественность, как приблизиться к ней? Входа нет – надо рассмотреть и это «я», которое мы вкладываем в свою интерпретацию действительности, потому и должна была появиться «Обыкновенная жизнь» с ее копанием в душе человека. И вот нате же: и тут мы опять находим эту множественность и даже ее причины; человек – сонм реальных и лишь вероятных личностей; на первый взгляд это выглядит как еще худшая неразбериха, как дезинтеграция человека, который сам себя раздергал на малые куски и разбросал свое «я» по всем ветрам. Но только теперь-то автора и осенило: да ведь все в порядке, ведь именно потому можем мы постигать и понимать множественность, что сами – множественность! Similia similibus: познаем мир через то, что есть мы сами, и, познавая мир, открываем самих себя. Слава богу, все встало опять на свои места; мы – из того же материала, что и множественность мира; и есть наше место в этой бескрайности и бесчисленности, и мы в состоянии отвечать этим бесконечно многим голосам. Нет больше одного лишь «я»; есть мы – люди; мы можем объясняться на многих языках, звучащих в нас. Теперь мы можем уважать человека за то, что он не такой, как мы, – и понимать его, потому что равны ему. Братство и разнообразие! Даже самая обыкновенная жизнь – уже бесконечна, и неизмерима ценность любой души. Прекрасна Полана, как она ни костлява; слишком велика жизнь человека, чтоб иметь одно лишь лицо и чтоб обозреть ее разом. И уж не затеряется сердце Гордубала, а человек, упавший с неба, будет жить в новых и новых историях. Нет конца ничему – даже трилогии; то, что стоит в конце, – распахивается широко, настолько широко, насколько это в возможностях человека.
Первая спасательная[113]113
В интервью, данном после выхода в свет романа «Первая спасательная», Чапек рассказал, что он писал эту книгу при чрезвычайно благоприятных обстоятельствах: летом в живописном деревенском уединении под Прагой. В одном из писем от августа 1937 г. Чапек сообщает, что у него написаны сто двадцать одна страница и что он с удовольствием думает о завтрашней главе. «Там будет в центре крепильщик Мартинек, сегодня был у меня Адам, а вчера вся бригада». Он сообщает в этом же письме, что перечитал всю рукопись: «Скажу тебе откровенно, я ничуть не был разочарован»[K. Čарek. Listy Olze, s. 279.]. Роман был опубликован в сентябре 1937 г. в «Книговне „Лидовых новин“».
Чапек добросовестно собирал материал для своего произведения. Он побывал в шахтах в Кладно, беседовал с шахтерами и инженерами, знакомился с условиями их труда. В интервью по поводу романа Чапек рассказывал: «Мой отец был рудничным врачом, и мир копей оставил глубокий след в моем воображении. И потом еще воспоминание: мальчиком я запоем читал роман французского писателя Гектора Мало „Без семьи“, где есть глава, как маленький герой с несколькими шахтерами переживает страшные минуты в затопленной шахте. Эта сцена надолго осталась в моей памяти»[К. Čapek. Poznámky o tvorbě, s. 115.]. В то же время писатель настаивает на том, что «Первая спасательная» – это не роман о жизни шахтеров. В заметке, опубликованной в «Лидовых новинах», он писал: «Мне хотелось написать книгу о мужской храбрости, о разных типах и мотивах того, что обычно называют героизмом, о мужской солидарности – словом, об определенных физических и моральных свойствах, которые признаются наиболее ценными, когда отдельным людям или всему народу нужны настоящие мужчины. Это могла бы быть книга о солдатах, но для этого я слишком пацифист в глубине души, или о команде корабля, об участниках какой-нибудь опасной экспедиции или о другой ситуации, которая позволила бы наблюдать горстку мужчин в наивысшем проявлении силы, отваги и солидарности. Я остановился на катастрофе в шахте, хотя бы потому, что горный промысел играет такую большую роль в чешской жизни»[К. Čapek. Poznámky o tvorbě, s. 114.].
Реакция чешской критики на появление романа не была однородной. Наиболее глубокую оценку романа дала коммунистическая критика. Революционный поэт С.-К. Нейман, отметив слабые стороны романа, к которым он относил невнимание к классовой борьбе, с восхищенном писал о великолепном мастерстве автора «Первой спасательной»: «Карел Чапек мастерски соединил профессиональный жаргон шахтеров, основательно им изученный, и повседневную речь простых рабочих, неприглашенную и неиспорченную литературностью, с изощренным мастерством современного романиста, умеющего освободить свое повествование от пут сухой логики, наполнить его великолепной выдумкой, сделать ладным и увлекательным»[ «Tvorba», 1937, s. 41.]. М. Пуйманова подчеркнула удивительное мастерство Чапека в воспроизведении национального характера: «Ребята из „Первой спасательной“ не очень-то стесняются в выражениях… но одно для Чапека невозможно: говорить торжественно, напыщенно, надуто, словом, „говорить красиво“. Нелюбовь к патетическому ораторствованию и сентиментальному сюсюканью и недоверие к нарочито красивому жесту – это наша национальная особенность. Карел Чапек испытывал уважение к чешской стыдливости в этом отношении. Понятие героизма в „Первой спасательной“ основано на национальных достоинствах, и да будет автору воздана за это хвала»[ «Kritický měsičník», 1939, s. 44.]. Иозеф Гора также говорит о выдающемся месте романа Чапека в чешской литературе: «Познание рабочего писателем-интеллектуалом – одна из труднейших задач, которые стоят перед нашей литературой. Чапек, создавший столько абстрактных персонажей в своих романах-утопиях, к нашему удивлению, с поразительной конкретностью проник в народную душу»[«České slovo», 9. XI. 1937.]. В чешской критике того времени роман Чапека сближался и с новейшим советским романом. Так, известный критик Арне Новак указал на то, что роман Чапека близок к коллективной эпопее, создаваемой в Советском Союзе, а Ф. Гётц в статье «Героический реализм Карела Чапека» заявлял, что чапековское понимание героизма «многими своими чертами сближается с концепциями сегодняшней России».
На русский язык «Первая спасательная» была переведена в 1959 г. Перевод сделан по тексту книги: К. Čapek. První parta. Praha, 1954.
[Закрыть]
© Перевод В. Чешихиной
I
Какое несчастье, боже мой, какое несчастье: пять лет учиться в реальном – и вдруг конец: умирает тетя, которая тебя хоть и не больно сладко, а все-таки поила-кормила – и теперь сам думай о пропитании. Распростись со своими логарифмами, с начертательной геометрией и всем прочим; ты и без того ошалел от страха и усердия, а учителям все было мало – такой, говорят, бедный мальчик, как вы, Пулпан, должен особенно ценить образование, которое ему дают, должен стараться достичь чего-то… Стараться, стараться, стараться, и вдруг – трах! – тете вздумалось умереть, – и простись с начертательной геометрией! Бедные мальчики не должны получать образование. Сидишь вот теперь со своей геометрией и французскими словечками да колупаешь мозоли на ладонях. Как же быть-то? Сперва ты ничто, ты даже не шахтер и только спустя долгое время становишься откатчиком. Вот тут и старайся!
Правда, были еще два года. Два года в строительной конторе. Тебя называют чертежником и платят пять-шесть сотен в месяц, тут можно еще верить, что ты доучишься по вечерам и когда-нибудь сдашь экзамены, ну, а дотянешь ли ты хоть до безработного инженера, кто знает? Но хуже этих вечеров, кажется, ничего нет: сидишь над учебниками и пялишь глаза на формулы и уравнения; пресвятый боже, как же к ним, собственно, подступиться? Будь тут последний пес из преподавателей, он объяснил бы все в двух словах, и ты сразу понял бы, как взяться за эти формулы, а так целыми часами глядишь, и что ни дальше, тем все трудней и все больше путаницы в голове. Боже, какие это были два года! Пусть только кто-нибудь посмеет сказать, что я мало старался! Целых два года, прошу покорно, каждый вечер до глубокой ночи корпеть над книгами, бить себя кулаками по голове – ты должен понять, должен выучиться, – это вам не пустяки, сударь. Удивительно, как много может человек вынести; тебе, по совести говоря, давно бы пора сдохнуть от туберкулеза, с голоду и отчаяния. А потом с фирмой случилось несчастье – новостройка приказала долго жить; еще бы, столько разворовали железа и бетона, что у самого господа бога терпение лопнуло; засыпало семь каменщиков, а архитектор предпочел застрелиться, когда его собрались посадить. Опять все старания чертежника строительной конторы Станислава Пулпана пошли прахом; да разве кто даст тебе место, если сказать, что ты работал в этой злополучной строительной компании? Бросьте, молодой человек, хвалиться вам тут нечем; никто не даст работы тому, кто служил у этаких жуликов.
Итак, во имя божие, будь то, что суждено. Покойный отец работал на коксовом заводе, а сын будет рубать уголь. После пяти классов реального и двух лет работы над синьками строительных планов Станда пойдет шахтером на «Кристину». Нужно же как-то добывать пропитание, если тебе почти восемнадцать лет. Пулпанам это, должно быть, на роду написано: дед был крепильщиком, отца послали на коксовый завод, после того как он сломал ногу в шахте. Вы, Пулпаны, созданы для черной работы. Никаких чертежных досок, никаких начертательных геометрий; будешь углекопом, ибо ты – Пулпан. Вот какие дела, голубчик, от этого не уйдешь, как ни старайся. Нет, не уйти, как ни старайся; господи, хоть бы откатчиком-то не долго быть, хоть бы вагонетки не вечно толкать, черт возьми! Никогда я этому не научусь, – в отчаянии думает Станда, – ладно уж, пускай болит поясница, пускай болят руки, лишь бы вагонетка не застревала поминутно на стрелках! Тогда поди толкай ее, дергай, кряхти с натуги; того и гляди совсем, сволочь, с рельс соскочит, – сраму не оберешься. «Эх ты, осел этакий, вот как надо», – сплюнет, бывало, Бадюра либо Григар и легонько, одной рукой подтолкнет твою вагонетку – и она катится как по маслу. Чего, кажется, проще. «Гляди, осел, поехала». К чему же были пять классов реального, зачем он морочил себе голову французскими словечками, на что все эти черчения и рисования! На что, спрашиваешь? Да, верно, на то, парень, чтоб ты еще сильнее чувствовал свое несчастье и одиночество.
Да, одиночество: вот правильное слово! Будто мало одиночества испытал он еще в реальном! Мальчику из бедной семьи нелегко приходится в школе: он должен больше заниматься, должен быть прилежней и примерней остальных; ему то и дело дают понять, что он только из милости вкушает хлеб просвещения и, следовательно, обязан заслужить его особым благонравием, усердием и признательностью. Будьте внимательней, Станислав Пулпан! Я объясню вам еще раз, ученик Пулпан, чтобы лучше подготовить вас к переходу в старшие классы и вообще к жизни; вам это необходимо… Маленький Пулпан начинает понимать еще на школьной скамье, что к нему относятся как-то суровей и сострадательнее, чем к прочим мальчикам, словно он в чем-то слабее их, словно он болен, что ли; он чувствует себя поэтому каким-то отщепенцем, это унижает его до такой степени, что на глаза набегают слезы ярости и боли – и откуда берется в человеке столько чувствительности и ожесточения?.. «О чем вы опять задумались, ученик Пулпан? Вы бы лучше следили за уроком, чтобы как следует вооружиться для практической жизни!»
Практическая жизнь: вот она, сударь, практическая жизнь! Толкай по рельсам вагонетку с углем либо с пустой породой и гляди в оба, чтобы не застрять на стрелках. «Пусти, я подтолкну», – пробасит Григар или Бадюра и одной рукой, этак мимоходом, небрежно толкнет вагонетку, и она сама катится, знай только успевай тормозить. Вот как это делается. Они злятся, конечно, ты их задерживаешь; когда в забой присылают хилого недоноска, этакую неженку из школы, – у кого хватит терпения глядеть, как он воюет с вагонеткой, пока у него глаза на лоб не вылезут? «Пшел прочь, сопляк, – цедит сквозь зубы подручный забойщика Бадюра и выхватывает лопату из рук Станды. – Вот как загружают вагонетку, болван». И Станде горько и обидно, точно он стоит у доски в классе. «Вы слабы в арифметике, ученик Пулпан, вам следует больше заниматься». И, стиснув зубы, откатчик Станда изо всех сил толкает вагонетку. Я вам покажу, какой я слабый! Со мной обходятся хуже чем с портянкой, я сыт этим по горло! Будь это один только Григар, – Григар забойщик и силач, руки и ноги у него, как у битюга на пивоварне; но Бадюра, этакий жалкий скрюченный человечек, сухой, как пучок соломы… Когда после смены все моются в душевой, откатчик Пулпан украдкой сравнивает себя с другими. Правда, у него нет пока вздутых вен и узловатых суставов, как у остальных, но не воображайте, люди добрые, что вы такие уж красавцы, если говорить о телосложении; черт его знает, откуда берут силу и ловкость эти костлявые одры! Одры и есть, а ты все-таки тряпка в сравнении с ними, хотя тебе и восемнадцать лет, – а ведь это, что называется, лучшие годы; даже вагонетку приподнять не в силах, чтобы втолкнуть ее на поворотный круг.
«Пусти, я ее сейчас сдвину, – цедит сквозь зубы маленький Бадюра и сплевывает в угольную пыль. – Боже милостивый, неужто из этого парня выйдет шахтер? Шел бы лучше в трактир – пиво разносить порядочным мужчинам!»
Они меня не любят, – с болью думает оскорбленный Станда. – Не воображайте, я не стану навязываться; мне все равно с вами говорить не о чем. Этот Бадюра только и умеет, что о своем крольчатнике болтать. Просто злятся они на меня, что я учился, вот и все. Хотят показать, что они мне не компания. Ну да, не компания. В училище мне были не компания остальные, потому что я – сын рабочего. А здесь – потому, что я образованней вас всех. Я мог бы вам многое порассказать, книг-то я немало прочел! Но стоит мне заговорить – хотя бы о наших рабочих делах – на меня как собака набрасывается какой-нибудь Григар: «Заткнись, скажет, ты без нас и дороги домой не найдешь, а туда же – учить берешься!» Ладно же, господин Григар, ничего я вам говорить не стану, но я такой же рабочий, как вы, хоть я и простой откатчик, а тоже имею право на собственное мнение; только вы недостаточно образованны, чтобы понимать меня. Но погодите, когда-нибудь я буду говорить, а вы слушать, скажу от имени всех откатчиков и забойщиков, от имени машинистов и рабочих с коксового завода, – от вашего имени, шахтеры с «Кристины», с «Мурнау», «Берхтольда» и Рудольфовой шахты. Скажу о вашей черной работе и черной нужде, буду от вашего имени вести переговоры с господами за зеленым столом. «Господа! Мы, шахтеры, заявляем о своих правах. Что станет без нас с вашей промышленностью, с вашими электростанциями, с вашими уютными виллами и роскошными дворцами? Без черного угля придет конец всей вашей цивилизации. Спуститесь-ка, господа, в забой на глубину шестисот метров; поглядите на какого-нибудь проходчика Григара, когда он, голый по пояс, обливаясь потом, смешанным с угольной пылью, проходит новый штрек; посмотрите на подручного Бадюру, когда он рубает отбойным молотком целик и останавливается лишь затем, чтобы отхаркнуть угольную пыль; посмотрите на беднягу откатчика, который окровавленными ладонями толкает вагонетку, нагруженную драгоценным углем, – давай, давай, парень, надо успеть вывезти дневную норму! Итак, вы видите, господа, как добывается уголь, однако, внимание! Берегитесь, как бы вам на голову не свалился с кровли обломок, как бы не задушили вас рудничные газы, не придавила сорвавшаяся вагонетка; мы-то, шахтеры, привыкли глядеть в оба там, где нас подстерегает костлявая. У нас и смерть приставлена к черному углю. А теперь скажите нам, господа, какую плату потребовали бы вы за этот каторжный труд? Не думайте, – мы любим нашу работу и не променяем ни на какую другую; мы требуем лишь, чтобы шахтерский труд почитали и оплачивали так высоко, как он того заслуживает. Я кончил, господа». – «Скажите, кто этот мужественный шахтер?» – «Это товарищ Станислав Пулпан. Он мог бы стать старшим штейгером или сменным мастером, это образованный, ученый человек, но он не хочет оставить своих товарищей но черной шахте. Он пользуется огромным влиянием во всем угольном бассейне, шахтеры его боготворят; с ним надо считаться…»
Станде даже самому стало неловко, когда он все это вообразил. Глупости, конечно, но он наверняка сумел бы… если б только не приходилось толкать эти дурацкие вагонетки! Всего пять недель, а руки у меня скрючились, одеревенели, пальцы не разогнешь; никогда уже не держать мне рейсфедера – вот что такое откатчик. И Станда, скривив губы, сосет содранную кровавую мозоль на ладони.
II
Всего пять недель, а кажется, что прошла целая вечность. Точно тебя засасывает все глубже и глубже и ты чувствуешь: нет, отсюда мне не выбраться, это мой удел на всю жизнь. Станда пытается вообразить всю свою жизнь, но почему-то ничего не выходит; вместо этого ему представляется, что он бурит угольный пласт, как Григар, и вдруг – трах! – случается что-нибудь необыкновенное, например катастрофа в шахте, и Станда сделает нечто такое, отчего все рты разинут! После этого его вызовет к себе сам директор и скажет: «Станислав Пулпан, поздравляю вас, вы действовали по-шахтерски; поскольку вы еще молоды, мы можем назначить вас пока только десятником участка. Но вы, безусловно, далеко пойдете. Нам на шахте нужны такие люди, как вы. Ах, вы даже окончили пять классов реального? Смотрите, и такого человека мы бог весть сколько времени заставляли толкать вагонетки!»









