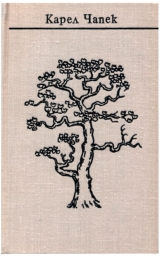
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 42 страниц)
II
Пани Итка Гудцова
Ариэль
Я познакомилась с паном Бэдой Фолтыном, когда он учился в седьмом классе гимназии. Нас, девочек, он интересовал уже давно – в провинции без этого не обходится, – но мы восторгались им издали; между собой мы называли его «красавец семиклассник», о нем говорили, что девиц он презирает и т. п. Это, разумеется, лишь разжигало наше любопытство. У него были прекрасные волнистые волосы, огромные голубые глаза и высокая, но хрупкая фигура; он ходил, погруженный в свои думы, устремив глаза куда-то вдаль; шляпу он держал в руке – и его светлая шевелюра развевалась на ветру. Нам, лицеисткам, он нравился безумно, – только так мы и представляли себе поэтов. В том нежном возрасте и в те времена это кое-что значило; теперь я по своей дочери вижу, что у нынешних девиц совсем иные, менее сумбурные и простодушные представления о жизни. Возможно, это и есть прогресс, но, пожалуй, я этого не понимаю.
Мы познакомились на уроке танцев; я оказалась первой, кого пан Фолтын пригласил танцевать. По сей день вижу, как он поклонился мне, неловкий и смущенный, и пробормотал свое имя. По-моему, я тоже была крайне смущена, но, надеюсь, это не было так заметно. Кстати сказать, танцевал он плохо; сделав несколько шагов, нахмурился и буркнул, что ненавидит танцы и не выносит, когда барабанят по роялю, и вдруг спросил: «Мадемуазель, а вы любите музыку?» В ту пору я терзала «Фортепьянную школу» Фибиха[135]135
Фибих Зденек (1850—1900) – выдающийся чешский композитор, пианист и дирижер.
[Закрыть]-Малата и ненавидела музыку всеми фибрами души; однако я не колеблясь заявила, что музыку обожаю больше всего на свете. Теперь я удивляюсь, отчего это молодежь так любит присочинить?.. «О, тогда мы отлично поймем друг друга!» – Пан Фолтын просиял, восхищенный, и наступил мне на ногу. В ту минуту он мне ужасно не нравился, может быть, потому, что я солгала: нос его показался мне слишком длинен, подбородок слишком мал, руки слишком велики, – словом, все в нем меня отталкивало. Такой резкой неприязнью началась моя первая любовь; правда, до него я по меньшей мере два раза была до смерти влюблена, но это не в счет. И впрямь, первая любовь – это не просто влюбленность, а сознание того, что у тебя есть свой мальчик.
Он провожал меня после уроков танцев, а иногда по вечерам мы ходили с ним гулять; прогулки эти были особенно увлекательны, потому что дома приходилось врать, что я иду пройтись с Маней или Элишкой. Теперь все по-другому, и моя дочь на мой вопрос спокойно отвечает, что идет со своим знакомым.
Когда он, такой чинный, чуть подрыгивая на ходу, шел со мной рядом и говорил рокочущим басом, я просто млела от счастья. Перед подружками я заносилась, вот, дескать, завела «красавца семиклассника». Правда, за Маней ухаживал восьмиклассник, но у того не было таких длинных волос, да и вообще он был совсем неинтересный; Элишка как-то появилась даже с кадетом в полной форме, но он оказался ее двоюродным братом. Я очень гордилась тем, что Бэда артист; он признался мне, что он поэт и ведет тяжкую душевную борьбу, решая, чему посвятить всего себя – поэзии или музыке.
– Вы себе не представляете, Итка, – говорил он, резким движением головы откидывая свою шевелюру, – какой это для меня тяжелый выбор! Что предпочли бы вы?
Мне было все едино. Честно говоря, для меня и поэзия и музыка были только предметами, которым мы, девочки, обязаны учиться, чтобы стать образованными, но, может, именно поэтому и то и другое мне ужасно импонировало.
– Послушайте, Бэда, – возразила я с серьезностью, на которую человек способен только в шестнадцать лет, – а почему вам непременно надо от чего-то отказываться? Например… например, вы могли бы сами сочинять оперы и либретто к ним… как Рихард Вагнер. – (Я немало гордилась тогда, что мне это известно.) Бэда зарделся от радости и впервые в жизни взял меня под руку, – возможно, он отважился на это еще и потому, что мы были в дальнем конце аллеи (прежде мы никогда не заходили так далеко) и чувствовали себя почти в пустыне.
– Итка, – бормотал он, тронутый и восхищенный, – ни одна женщина на свете не понимала меня так глубоко, как вы.
А потом как-то само собой получилось, что он взял меня за локти и попытался поцеловать, но он очень волновался, и поцелуй пришелся куда-то в нос. Но это пустяки! Я была просто вне себя от гордости – и потому, что понимаю такую душу, как Бэда, и потому, что меня поцеловали впервые в жизни. Что это было – внезапное сознание взрослости или торжество, – затрудняюсь определить. Потом я вспомнила, как он сказал, что ни одна женщина не понимала его «так глубоко», и начала разыгрывать сцену ревности, которой, собственно говоря, не испытывала. Я вырвала у него свою руку и упрямо пошла по другой стороне аллеи в молчании, которое должно было выглядеть загадочно.
Бэда был ошеломлен и просто убит горем.
– Итка, – спрашивал он дрожащим голосом, – что с вами?
Я неумолимо смотрела прямо перед собой, полагая, что в сумраке выгляжу трагически бледной.
– Бэда, – произнесла я тихо, – значит, вас уже любила другая женщина?
Вымолвив это, я чуть не провалилась сквозь землю от стыда, щеки мои запылали. Боже, и я могла сболтнуть такое! Ведь это звучало как признание в любви, а мне… так хотелось… ни в чем не признаваться, пока он сам не станет… умолять меня об этом. Впервые в жизни я назвала себя женщиной, и было в этом что-то странное и упоительное.
Бэда, кажется, не заметил моего замешательства, он опустил голову и провел рукой по волосам.
– Да, – сказал он глухо, – любила.
– Как ее звали?
– Шимонка, – пробормотал он, поколебавшись.
«Разве есть такое имя – Шимонка?» – думала я про себя, но имя показалось мне красивым, красивее, чем Итка.
– Вы любили ее… очень?
– Назовите это… страстью, – отвечал он, махнув рукой. – Итка, вы еще дитя… вам этого не понять…
– Я не дитя, – выпалила я, оскорбившись, и попыталась изобразить ревность к чему-то, что именуется «страсть». Думаю, что мне это не удалось, хотя я изо всех сил морщила лоб.
– Вы можете простить мне это? – смиренно пробормотал Бэда.
Я молча сжала его руку. Глупый, ведь это же бесподобно, что ты уже такой взрослый! Если бы знали наши девочки – они были бы потрясены! Итка, правда? А какая была эта Шимонка? Ей было двадцать лет, сказала бы я им, и она была прекрасна, как Мадонна Торричелли. То есть нет, Боттичелли; Торричелли – это какие-то трубки. Загадочная такая, бледная красота. В те времена была в моде всякая загадочность, болезненность и тому подобные вещи; нынешние девочки не такие – крепенькие и прозаические, как репка в огороде, – и меня как мать это вполне устраивает.
С того памятного вечера началась наша великая и безграничная любовь. Мы гуляли вместе по аллее вдоль реки, и наши души, как говорится, сливались, особенно после того, как наступали сумерки. А потом мне приходилось бежать сломя голову, чтобы вовремя поспеть домой, и врать, где я так долго бродила, – это было захватывающе! Я была влюблена в Бэду по уши, но любопытно, что мне было неприятно, когда он пытался взять меня за руку или под руку, а то и поцеловать украдкой. Мне казалось, что у него холодные и слишком большие руки, и, когда у него румянцем полыхали щеки и от волнения трясся подбородок, я чувствовала себя мучительно и глупо. Боже ты мой, ужасалась я, подавляя хихиканье; или в этом было сочувствие к нему, мучительное и нервозное? Не знаю толком. Боже ты мой, сейчас он снова меня поцелует – и что ему в этом? Лишь намного позднее я поняла, что людям в этом, но тогда я всячески старалась отвернуться. Все кончалось тем, что Бэда неловко клевал меня холодным носом куда-то в ухо, и мне хотелось поскорее вытереть лицо, когда это, слава богу, было позади.
– Вы так холодны, – мямлил Бэда укоризненно, и я, бывало, ужасно терзалась оттого, что я такая холодная (Шимонка, конечно, была не такая), но в то же время видела в этом необыкновенно романтическую черту, которую и стремилась выставить как можно выгоднее, особенно перед девочками. Еще долго потом я верила, что я натура холодная и неприступная. Бог весть, почему в юности мы столько носимся со своими личными качествами – особенно с теми, которые сами себе приписываем?
И все же это была великая любовь. Я была счастлива и горда, что у меня уже есть свой мальчик, что он на целую голову выше меня, что он артист и поэт, что у него такие роскошные волосы и он разговаривает со мной так серьезно и так красиво. Я чувствовала себя очень счастливой, когда шла рядом с ним, а он говорил о музыке, о своих планах и о самом себе. Он любил делиться мыслями о том, что он называл уделом артиста; он, наверное, ужасно страдал от своего окружения, которое угнетало его, и от школьных занятий, которые, как он выражался, душили его художественную свободу и творчество. В этом смысле я думала, что полностью разделяю его взгляды, по крайней мере в том, что касалось школы и непонимания со стороны окружающих; мне тоже куда приятнее было бы бегать вместе с ним по цветущим лугам, свободной, как птица, и не бояться маменьки и экзаменов.
– Вы меня так понимаете, Итка! – восхищенно вздыхал Бэда.
О себе я не могла рассказать ему ничего особенного, поэтому, затаив дыхание, слушала, как он говорит о своей душевной борьбе и творческих муках.
– Вы меня так вдохновляете! – признавался он иногда, и я была несказанно счастлива. Порой Бэда туманными намеками давал понять, что до того, как он встретил меня, он вел ужасную, распутную жизнь.
– Понимаете, Итка, я необычайно страстная натура, – бормотал он, сжимая кулаки. – Все артисты чудовищно чутки и чувственны.
Я думала тогда, что страстность – это когда у человека вдруг начинают краснеть уши и дрожат руки, в остальном Бэда со своими овечьими кудряшками и неумелыми руками напоминал мне скорее херувима. Не знаю, откуда это в девчонках берется, но только в моей любви к нему было что-то материнское – какая-то потребность успокаивать и ободрять его и восхищаться его гениальностью, чтобы доставить ему радость. Перед подружками я, конечно, хвасталась, что Бэда страстный, что ради меня он бросил распутную жизнь и от этого безумно страдает, – чего только не говорят между собой девчонки. И читала им стихи, которые он посвятил мне. Одно стихотворение совсем недавно попалось мне в руки. Оно начиналось словами: «Опять один, один под небом хмурым…» Мой муж нашел, что в этом что-то есть, а дочка рассмеялась, – вот, мол, мировая скорбь курам на смех. Кажется, я сожгла эти стихи – мне было стыдно, что такая критика причинила мне боль.
Больше всего Бэду мучило, что он не может мне сыграть на рояле – что-нибудь из Шопена, которого он обожал (я также, как я восторженно его уверяла), или свое собственное сочинение, о котором он говорил много, но несколько туманно, называлось оно «Ариэль». Рассказывая об этой пьесе, он только что не рвал на себе волосы; не зная его музыки, я не знаю и его самого, говорил он, а как бы его вдохновило, если бы он мог играть в моем присутствии! Что касается меня, то я серьезной музыки почти боялась, но я представляла себе, как Бэда встряхивает своей золотой шевелюрой, и этого мне было достаточно. Мы ужасно страдали из-за неразрешимости проблемы, пока однажды мне не стало так его жалко, что я храбро сказала:
– Бэда, я к вам приду, ведь не убьют же меня наши…
Он покраснел от смущения и, заикаясь, сказал, что это никак невозможно: он живет с тетушкой – что подумает тетушка! Но потом он снова и снова возвращался к этой теме – вот если б, хоть раз в жизни, доказать мне, что он артист…
Как-то наши уехали на несколько дней, и у меня созрел план.
– Бэда, – сказала я, – завтра вечером приходите ко мне играть своего «Ариэля», наши уехали.
Я ждала, что он обрадуется бог знает как – но он покраснел и, заикаясь, стал говорить, что это все-таки невозможно; что скажут люди… и вообще… До чего ж, говорю я себе, нынче все проще – приходишь домой, а со стула поднимается некто долговязый, только что люстру головой не сбивает. «Мамуля, это Гонза», – просто говорит дочь. И я подаю юноше руку и не знаю, как к нему обращаться. За двадцать лет многое переменилось.
– Все равно, – говорю, – я хочу слышать вашего «Ариэля».
Еще надо было устроиться со служанкой, – ей я сказала, что после обеда придет один господин, музыкант, проверить, не расстроилось ли пианино. Но нашей Анке это было, видно, абсолютно безразлично. После обеда мне стало казаться, что я не должна была так поступать. В довершение всего я увидела, что Анка надевает воскресное платье.
– Анка, вы куда?
– Гулять, – смеется Анка. – Раз господа уехали, то и у меня выходной, правда?
Я сникла, но делать было нечего. Впервые оставшись дома одна, я чувствовала себя угнетенной и в то же время взбудораженной. Вот-вот должен был прийти Бэда. Я сердилась на себя за то, что у меня так бьется сердце, и ужасалась мертвой тишины пустой квартиры. В этой тишине робко, почти испуганно звякнул звонок. Я пошла открывать. На пороге, словно воришка, стоял Бэда.
– Ах, это вы? – выдавила я из себя. Это приветствие должно было прозвучать весьма непринужденно, но тяжелый ком стоял у меня в горле, и с ужасом и досадой я сознавала, что краснею как мак.
– Это я, – прошептал Бэда, бледный и трепещущий, будто вот-вот упадет в обморок, и на цыпочках, как-то уж очень на цыпочках, проник в прихожую. Он так волновался, что я вдруг разом собрала все силы и весьма сносно начала разыгрывать роль маленькой хозяйки дома. «Прошу вас, пан Фолтын, проходите», и прочие формальности, не знаю, откуда что взялось. Наверное, у женщин это врожденное. – Я так рада послушать вашего «Ариэля».
– Итка, – зашептал Бэда, – вы… совсем одна дома?
– Разумеется, – отвечала я с апломбом, как взрослая. – А теперь играйте, Бэда, – ведь вы для этого здесь.
В конце концов я подвела его к табурету у рояля. Он обеими руками провел по своей шевелюре и легко тронул пальцами клавиши. И все.
– Ариэль, – заговорил он неуверенно, – да будет вам известно, это я сам. Это очищенная, искупленная внутренняя жизнь. Вы знаете, с той поры, как я вас встретил… я чувствую себя настолько чище… – Он взял несколько аккордов. – Это начало. Не сердитесь, Итка, но у меня еще не вполне готово. Только аллегро и еще – рондо.
– Ну хотя бы аллегро.
Он ударил по клавишам, пробежав от самых басов вверх и несколько раз постучал по самой верхней ноте.
– Не звучит, – сказал он мрачно, – а она мне так необходима! Знаете, для того мотива, где Ариэль победно смеется… Послушайте! Я сыграю вам ноктюрн Шопена.
– А «Ариэля» – нет?
– Сегодня нет, Итка. Сегодня… я не могу. – Он в отчаянии запустил обе руки в свои волосы. Вы слишком близко от меня. Я думаю только о вас. Ах, зачем вы меня мучите?
Я увидела, как у него краснеет шея. Ах ты боже мой, сейчас он опять захочет меня поцеловать.
– Бэда, – закричала я, – да играйте же! Играйте что хотите!
Но он уже поднимался, трясясь, как лист.
– Итка, – шептал он, протягивая ко мне свои холодные влажные руки, – Итка, ведь вы любите меня!
Подбородок его неудержимо прыгал, и на щеках выступили красные пятна. Видит бог, я была в него влюблена, но в ту минуту он показался мне таким противным и жалким; сделай он еще шаг – и я наверняка ударила бы его кулаком по лицу.
Возможно, он прочел это по моему выражению, я сама чувствовала что-то твердое и напряженное около губ. Он обомлел и вспыхнул – и мне вдруг стало жаль его; напряжение ослабело, я готова была на что угодно, только бы он не обижался так ужасно. Но Бэда несколько раз с усилием глотнул слюну, надулся и с ненавистью уставился на меня.
– Я не знал, что вы такая мещанка, – процедил он и отвернулся к окну. Сердце мое сжалось. Не знаю, смогу ли я правильно передать свое состояние; я была страшно сердита на себя, на него, к горлу подступали горькие слезы. Только не плакать, думала я, только не плакать!
– Уходите, Бэда, – выдавила я из себя. – Уходите! Уходите!
Он повернулся ко мне; глаза его были полны слез, подбородок дрожал, он без конца судорожно глотал что-то. Я ужаснулась, представив – а если бы он меня поцеловал?!
– Уходите же, – крикнула я со слезами; и когда за ним аккуратно, как-то чересчур аккуратно защелкнулся замок, я разразилась громким плачем. От унижения, злости, а может быть, и от жалости.
Потом я хотела написать ему длинное письмо – не помню уж о чем; возможно, я хотела упрекнуть его за его поведение, а потом все простить, словом, прибегнуть к нехитрой женской дипломатии. Просто удивительно, как быстро взрослеют девчонки. Но прежде чем я отправила свое послание, мы встретились с ним на улице. Я шла с Маней и нарочно громко рассмеялась над какой-то ерундой, чтобы он не думал, будто я страдаю, но сердце мое стучало где-то высоко в горле – от страха и от любви. Бэда, прошел мимо своей слегка подпрыгивающей походкой, высокомерный и надутый, и даже не взглянул на меня.
Маня остановилась, вытаращив на меня глаза.
– Итка, вы уже не разговариваете?
Впервые в жизни я не сумела выдумать ничего, что поддержало бы мое реноме в глазах подружки.
– Он противный, – сказала я жестко. – Он мне отвратителен.
Так я сказала, и это была правда. Маня потом рассказывала девочкам, что я при этом побледнела, как смерть. Не знаю, только на этом все кончилось. Еще один раз я плакала, когда мне передали, что он презрительно сказал Эле: «Итка? Такая мещанка!»
* * *
Теперь мне кажется, что я больше рассказывала о себе, чем о папе Фолтыне. Но, наверное, иначе и нельзя, я была тогда совсем юной, а в юности всегда больше интересуешься собой; другие люди служат тебе скорее поводом осознать свою личность. Поэтому молодые люди не очень-то выбирают, с кем встречаться, – это больше дело случая и обстоятельств, чем осознанного выбора. Теперь я думаю, что и впрямь мало подходила для пана Фолтына: он был, конечно, артист, незаурядная, поэтическая натура со всеми ее достоинствами и слабостями; он был впечатлительнее, глубже и тоньше меня, обыкновенной, поверхностной девочки. Пожалуй, он был прав, и я мещанка; сейчас я очень этим довольна и мне просто смешно вспоминать, как я тогда переживала. В юности всегда воображаешь о себе невесть что. Наверно, и то, что меня отпугивало – его, как сказала бы моя дочь, «стрррашная эррротичность», была связана с его артистической предрасположенностью к экзальтации; но как вспомню, до чего он был смешон и неловок, когда хотел поцеловать меня, то говорю себе: девочка, в этом отношении он был тогда ничуть не взрослее, ничуть не опытнее тебя. Просто он думал, будто мне импонирует, что он такой грешник и соблазнитель. Сегодня он, наверно, сочинял бы, что водит гоночную машину или состоит в подпольном политическом обществе. Двадцать лет назад больше держали курс на литературу и тому подобные вещи. Времена меняются, но юность всегда чем-то гордится и чем-то хвастается, хотя бы это «что-то» становилось противоположностью для каждого следующего поколения.
III
Д-р В. Б
В университете
Боюсь, как бы мое свидетельство о Бедржихе Фолтыне не оказалось несправедливым. Дело в том, что он не понравился мне с самой первой встречи. Вернувшись после каникул на четвертый курс философского факультета, я узнал от хозяйки, что теперь у меня есть сосед, который занимает так называемую комнату с пианино; эта комната была такой же тесной клетушкой, как и моя, но каким-то чудом туда влезло еще и разбитое пианино. Фолтын зашел представиться. Это был носатый и волосатый юноша с резко скошенным слабым подбородком, длинной, как колбаса, шеей и самодовольным выражением бесцветных глаз. Он только что окончил гимназию и записался на факультет права. Однако, по его словам, больше всего он хотел бы заниматься музыкой. Не будет ли это меня беспокоить – сейчас он сочиняет симфоническую поэму «Ариэль». Смотря что, сказал я ему, я немножко смыслю в музыке, приятель. Он с места в карьер пустился было в разговоры о музыке, явно не сознавая, какая пропасть лежит в университете между студентами первого и четвертого курса. Должно быть, я осторожно дал ему это понять – он надулся и с той поры всячески старался произвести на меня впечатление. Тем, например, что приходил домой в четыре часа утра и начинал пинать ногами мебель, чтоб доказать, какой он отчаянный кутила. Или вдруг в такое же недопустимое время начинал музицировать, будто сочинял что-то, – но все это были какие-то прелюды или дешевые вариации на чужие темы; для того, кто немножко умеет играть, это сущий пустяк – пальцы сами бегают по клавишам. Или городил всякий вздор насчет искусства – усвоил, должно быть, с дюжину громких слов, вроде интуиции, подсознания, прасущности и не знаю чего еще, забив себе этим голову. Удивительно, как легко из громких фраз сделать великие идеи! Упростите словарь некоторых людей, и им вообще нечего будет сказать. Когда я слышу или читаю о «духовной кристаллизации», «формальном перевоплощении сущности», «творческом синтезе» и тому подобных вещах – мне становится дурно. Боже ты мой, люди, думаю я, ткнуть бы вас носом в органическую химию (не говоря уж о математике), тогда бы вам не так легко писалось! Величайшее несчастье нашего столетия, на мой взгляд, состоит в том, что, с одной стороны, мозг человека почти с абсолютной точностью оперирует микронами и бесконечно малыми величинами, а с другой – свои мозги, свои чувства, свое сознание мы позволяем одурманивать самыми мутными словами. Я всегда понимал музыку – я ощущаю в ней нечто архитектонически столь же грандиозное и завершенное, как в числах, хотя порой к ней примешивается что-то отталкивающе плотское. Поэтому я прямо ненавидел юнца Фолтына с его разглагольствованием о музыке как о проявлении первобытного инстинкта жизни. Не знаю, где он подобрал теорию, что истоки всякого искусства лежат в первобытной эротической силе и что любое искусство относится к области сексуальной активности. Художник, уверял он, одержим эротической божественностью, и эту свою одержимость он может выразить и преодолеть только в творчестве, в творческих муках и наслаждениях. Тогда он не должен этого делать публично, сердился я, но Фолтын не сдавался. Вот именно, говорил он, всякое искусство – эксгибиционизм. Художественное творчество – это божественный эгоизм: как можно полнее, ошеломительно и безоглядно выразить самого себя, свое нутро, все свое «я». А патлы вам на что, спрашивал я, тоже для самовыражения? Юнца это несколько коробило: неужели он не имеет права чем-нибудь отличаться от остальных жвачных? Нет, мы решительно не понимали друг друга. При этом Фолтын испытывал неодолимую потребность изрекать великие слова, раскрывать свою душу и взгляды; наверно, он был довольно-таки одинок, хотя, помимо всего прочего, кичился своими любовными и светскими связями.
Я не люблю, когда похваляются успехом у женщин. Мне претит так называемое донжуанство – не тем, в чем оно видит забаву, а тем, что оно еще бесстыдно хвастается этим, словно спортивным достижением. Мошенник никогда не хвалится на людях, сколько касс обокрал, а такой вот завоеватель женщин только о том и болтает. Фолтын то и дело таинственно намекал, что у него интрижка с одной дамочкой, что в него безумно влюблена некая баронесса; стоило вам увидеть, как он разговаривает на улице с девицей, и он уже давал понять, что она одарила его своей благосклонностью. «Роскошная девочка, а? – замечал он с видом знатока. – А фигура, вы себе не можете представить».
Одевался он, правда, с вызывающей элегантностью и не пропускал ни одного бала, где, как он говорил, «завязывал связи». Для меня до сих пор загадка, откуда у него брались на это деньги – он был беден, как церковная мышь, и целыми неделями почти ничего не ел – так, булки какие-то, – зато ходил разодетый, надушенный и завитой. Я полагал, что он из тех, кто живет в долг, – сам я никогда не мог себе представить, как это делается, чтоб кто-нибудь одолжил мне несколько крон. Фолтына прямо-таки снедало честолюбивое желание пробиться в общество богатых людей; дома он, разумеется, прикидывался человеком богемы, который плюет на этот зажравшийся сброд и презирает все, кроме Искусства. Как-то он вновь принялся расписывать мне своих баронесс и дамочек и игриво намекать на связь с одной девушкой, которая, по-моему, была слишком хороша для этого носатого позера. Так он меня этим допек, что я сказал:
– Не сочиняйте, братец Фолтын, на вас еще ни одна женщина не взглянула; ни одна не пожелала вас – вот вы и придумываете всякие свинства.
Он покраснел, и глаза его наполнились слезами; я увидел, что ранил его слишком больно, но было уже поздно. Обиделся так обиделся, что поделаешь, – по крайней мере, теперь тебе известно, что я вижу тебя насквозь.
С тех пор он тайно и смертельно ненавидел меня. Мы продолжали разговаривать, но отношения наши напоминали хождение по острию ножа; в конце концов, жить бок о бок с человеком, который прямо задыхается от ненависти к тебе, тоже утомительно. И все-таки он мне отомстил; я никогда бы не поверил, что можно оскорбить музыкой. Случилось это так. У меня была приятельница, студентка с философского, очень милая, очаровательная девушка; она изучала ботанику, а я был чем-то вроде ассистента по органической химии; мы познакомились, когда я обругал ее в нашей лаборатории за то, что она никак не могла определить какую-то глюкозу. Я любил бывать в ее обществе, она была жизнерадостна и весела, тогда как я себя считал эдаким ученым пауком. О любви и тому подобных отношениях мы и не думали – просто мне было хорошо и приятно бродить с ней после лекций по Праге; звали ее Павла. Однажды под вечер – бог знает, что это ей взбрело в голову, – она занесла мне книги, которые я ей когда-то дал почитать. Меня не было. Она позвонила; ей открыл Фолтын в своей бархатной курточке. По счастью, в тот вечер я ее все-таки встретил. Она заметила мимоходом, что принесла книги, а потом вдруг спросила – и на лбу у нее прорезалась поперечная морщинка:
– Послушайте, этот ваш сосед-музыкант, он удивительный человек, да?
Я встрепенулся.
– Павла, что случилось? Он к вам приставал?
– Да нет, – сказала она с неохотой. – Он что, в самом деле великий артист?
Мне это очень не понравилось. Ага, сказал я себе, должно быть, Фолтын решил показать себя.
– Послушайте, Павла, он ничего не плел об эротической прасущности и прочей ерунде? Не играл вам ноктюрн? Не говорил ничего о божественной одержимости и ошеломительном самовыражении?
– А что? – спросила она уклончиво.
– А то, – ответил я сквозь зубы, – что если он прикоснулся к вам, я переломаю ему кости!
Ничего не поделаешь, это был взрыв ревности.
Она остановилась, явно рассерженная.
– А вы знаете, что мне не нужен защитник? – бросила она.
Так мы поругались, потом помирились, и снова все было в порядке. Я побежал домой разбираться с Фолтыном. Он сидел у себя впотьмах и мечтательно наигрывал что-то.
– Послушайте, Фолтын, – выпалил я. – Павла не заходила?
Он не перестал играть, но я услышал, что его сонное дыхание стало громче.
– Заходила, – равнодушно сказал он, помолчав, и продолжал бренчать.
– Она ничего не говорила?
– Ничего. Ничего особенного.
И вдруг он заиграл вальс из оперетки. Словно влепил мне пощечину: это была непристойная воркующая мелодия, мерзкие эротические призывы и мление.
– Что это значит? – набросился я на него.
– Диада тра-та-та, – запел Фолтын, выбивая на пианино эту напомаженную скабрезность, словно торжественный марш. Я испугался, что в темноте придушу его, сдавив эту мягкую сладострастную шею; я нащупал выключатель и зажег свет. Фолтын заморгал слепыми глазами, но продолжал играть; он играл, играл, играл, дергаясь всем телом, кривя губы, с выражением упоения на лице, играл это захлебывающееся вальсообразное скотство. Я знал, что он обливает грязью Павлу, раздевает ее у меня на глазах, смеется надо мной: заходила, заходила, а об остальном щебечет песня. Я знал, что он лжет, что он просто хочет оскорбить меня и ранить и прямо корчится, наслаждаясь местью. Я мог бы задушить его, но ведь нельзя же дать в зубы только за то, что человек бренчит на пианино какой-то помойный вальс.
– Мерзавец! – заорал я, но, прежде чем захлопнулась дверь, Фолтын повернул ко мне свое лицо с насмешливо прищуренными глазами и легкой торжествующей усмешкой и горделиво тряхнул своей гривой, как бы говоря: так тебе и надо.
На другой день я съехал с квартиры. Павле я, конечно, ничего не сказал, но наша дружба как-то разладилась. Возможно, виною тому была ревность, – я уже не мог сам себе внушать, что ничего между нами нет, что мне просто хорошо и приятно бродить с ней после лекций. Как-то вечером мы гуляли по Петрской набережной, и вдруг во мне назойливо зазвучал этот фолтыновский вальс с его омерзительной навязчивой чувственностью. И как-то так грубо и по-идиотски получилось, что я действительно оскорбил Павлу, и расстались мы не по-хорошему. Это была чудесная, умная девушка, а я просто глупец. Наверное, в Фолтыне все-таки жил какой-то гений, если он сумел навлечь на человека проклятие своей музыкой; ведь и талант может быть чем-то вроде порока.
Спустя некоторое время я услышал, что Фолтын, еще не окончив курса, женился. И, кажется, на дочери разбогатевшего столяра, владельца пяти доходных домов. Должен сказать, что меня это не удивило.








