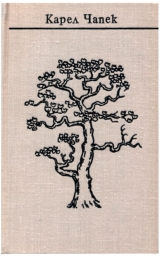
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Романы"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 42 страниц)
Ночь. Вся деревня спит, а Гордубал ходит с фонарем, делает что может: убирает хлев, выгребает навоз, носит воду. Тихо, чтобы никого не разбудить, делает Юрай всю мужскую работу.
…Бьет одиннадцатый час,
Помилуй, господи, нас.
И Юрай потихоньку забирается в хлев.
Ну, коровушки, сделал я на завтра кое-что за Полану.
А утром снова на Воловье поле. Искать работу.
– Эй, Гарчар, не нужен тебе помощник?
– Что ты, спятил или только из тюрьмы вышел, дружище? После жатвы работу ищет?
«Не разоряйся, – думает Гордубал. – У меня в кошеле хватит денег на половину твоей усадьбы! Нечего нос задирать». И Юрай, понурившись, плетется домой. А зачем? Да так, просто по горам пройтись, не оставаться же в чужом краю.
Юрай сидит на опушке, у Варваринова поля. И сюда доносятся колокольчики стад, должно быть, с Леготского хутора. Что-то поделывает Миша там, наверху, в лугах?..
Внизу – ручей, а у ручья стоит женщина. Юрай прищуривается, чтобы лучше видеть. Уж не Полана ли это? Нет, нет! Откуда здесь взяться Полане? Издалека любая баба похожа на Полану.
Вот из леса выскочил черномазый парень. «Нет, это не Манья, – мелькает у Юрая, – с какой бы стати он пришел с той стороны?» Черномазый останавливается возле женщины. «Но чем они так долго толкуют? – удивляется Гордубал. – Небось какая-нибудь девушка и ее милый из Леготы или из Воловьего поля. Сходятся тайком, чтобы не вздули его наши парни».
А те двое все стоят и стоят. Воркуйте себе на здоровье, я не смотрю. Солнце уже над Менчулом, скоро вечер, а двое все стоят и не могут наговориться. Где бы еще поискать работу? Не нужен ли майнер в соляных копях? Далеко, правда, копи, да что за беда… А те двое все стоят. Нет, не стоит спрашивать в копях, все равно зря…
Глянь-ка, уж нет тех двоих. Стоит только один и словно покачивается… Э, нет, это не один покачивается, а двое, как будто борются. Так тесно прижались друг к другу, словно один человек.
У Гордубала замирает сердце. Бежать туда, вниз! Нет, домой – поглядеть, дома ли Полана. Конечно, дома, где же ей еще быть? Господи, да что же это с ногами? Как свинцовые они. Гордубал вскакивает и бежит. Мимо леса, по полевой тропинке, опрометью к деревне. Ох, ох, колет в боку, точно шилом, которым плетут корзины. Гордубал задыхается, но торопится изо всех сил. Слава тебе, боже, вот и деревня. Гордубал еще прибавляет шагу. Ох, как колет в боку! Господи, когда же дом?! Ну, еще немного! Вон они, ворота. Надо крепко прижать руку к боку, тогда не так больно.
Запыхавшись, Гордубал подбегает к воротам и в изнеможении опирается о верею; голова у него кружится, дыхание вырывается со свистом.
Двор пуст. Полана, наверно, в клети или еще где-нибудь. И вдруг Юраю все становится до смерти безразлично. Не все ли равно, где она? Зачем идти в клеть, говорить что-то. Гордубал хрипло дышит и, прислонившись к столбу, еле держится на ногах.
Калитка отворяется, и во двор несмело входит Полана, взволнованная, румяная. Завидя Юрая, она растерянно останавливается и торопливо оправдывается:
– А я была у соседки. У соседки, Юрай, Герпаковой, ходила поглядеть на ребенка.
Юрай выпрямляется во весь рост, поднимает брови.
– Я не спрашиваю тебя, Полана.
XXII
Юрай по привычке направился было за амбар. Но в сердце колет так, что нет сил идти. Юрай делает вид, будто ему хочется посидеть тут, на камне, у ворот, поглядеть на двор.
У Поланы вдруг оказывается уйма работы: она сыплет зерно курам, метет крыльцо, – словом, поспевает всюду.
– Девчонку родила Герпакова, – сообщает она доверительно.
Эх, Полана, с чего стала ты вдруг такой разговорчивой?
– М-м, – рассеянно бурчит Гордубал.
Смеркается. Полана распахивает ворота: скоро коровы вернутся с пастбища.
– Помнишь, Юрай, – начинает она нерешительно, – ты говорил, что… хочешь купить еще коров?
– Нет, не надо, – бормочет Гордубал.
Кивая головами, идут в стойло коровы. Бим-бам, бим-бам. Юрай встает. Слава богу, полегчало!
– Покойной ночи, Полана, – говорит он.
– Ты что? Не будешь ужинать?
– Нет, не буду.
Полана преграждает ему дорогу.
– Юрай! Я постелю тебе в избе. Что скажут люди? Ты – хозяин, а спишь с коровами.
– Оставь людей в покое, – глухо отзывается Гордубал. – Мало ли что еще они говорят.
Юрай уходит. Угрюмо глядит ему вслед Полана. Стариковская спина у Юрая!
Гордубал ложится на солому. В боку больше не колет, но на сердце тяжело, болит оно. Дом затихает как-то смущенно. Гафия лепечет вполголоса, словно на нее прикрикнули: тише, мол, не шуми тут! Будто тяжелобольной в доме.
Тишина. Дом спит, спит вся деревня. Кряхтя, поднимается Гордубал с соломы, зажигает фонарь, идет поглядеть, где что надо справить.
Опять колет в боку, чтоб его разорвало! Надо бы вычистить стойла и подстелить коням. Надо бы то, надо бы это, да что-то сегодня неможется! Юрай заглядывает в курятник, в свиной хлев, в амбар, взбирается по лесенке на сеновал – не загорелось бы сено. Ох, как колет в боку! Юрай обходит двор и идет в сад. Зачем? Да так, не забрался бы кто чужой. Кто бы мог забраться? Конечно, никто, а впрочем, бог весть. А чердак? Полана ведь не спит на чердаке, там теперь сложена кукуруза. Полана перебралась в клеть. Затаив дух, подавляя стон, Гордубал поднимается по чердачной лестнице, пытается отворить дверь, но она не поддается, что-то мешает, слышно, как что-то сыплется и шуршит. Верно, кукуруза завалилась и придавила дверь. Значит, на чердаке тоже никого. Да и кому бы там прятаться? Вот глупости!
Гордубал стоит посреди двора, как черный столб, и смущенно чешет в затылке. Зачем, удивляется он, зачем я тут хожу? Сколько лет жил здесь этот Манья, ну и я не стерег двор, не бродил с фонарем. Так зачем же теперь? Гордубала охватывает тупое безразличие. Кабы я уже лежал в хлеву и услышал вдруг чужие шаги, встал бы или нет? Нет, не встал бы. Крикнул бы: «Кто там?» Нет. Только бы дух затаил. Эх, господи, да разве за взрослыми людьми уследишь?! Ну да, а я следил, господи прости, а сам притворялся, что работаю в потемках. Да разве устережешь чье-нибудь сердце? Глупый ты, глупый!
Ну, что ж, пускай Манья вернется. Теперь все равно. Все равно. Все переболело. Снявши голову, по волосам не плачут.
У Герпаков заплакал ребенок. Вот видишь, может, и правда, Полана ходила поглядеть на ребеночка. Что ж тут особенного? Бабы ведь души не чают в детях. Сейчас Герпакова, наверно, дает ему грудь. Помнишь, Полана, как ты кормила Гафию? Поведешь, бывало, плечом, и грудь опять прячется под рубашку. Одиннадцать лет прошло. А я-то в Америку… Глупый, глупый!
Гордубал глядит на звезды. Господи, сколько их! Наверно, прибавилось за эти годы. Раньше их было не так много… Прямо страх берет… Все равно, все равно, все спадает, как шелуха, одно за другим. Была Америка, было возвращение. Были Герич, Феделеш, Манья – много чего было. А теперь – ничего нет. Все равно. Слава богу, отлегло от сердца.
Тру-ту-ту – трубит вдали ночной сторож. А звезд столько, что дрожь пробирает.
Покойной ночи, Полана, покойной ночи, покойной ночи!
XXIII
Раннее утро, еще никто не проснулся, а Юрай уже вышел из деревни и шагает в горы. К пастуху Мише. Зачем? Да так, потолковать с человеком.
Гор еще не видно, в воздухе повис туман. Юрая немного знобит, но боли в боку нет. Только дышать трудно, – верно, от тумана. Юрай проходит мимо своего бывшего поля и останавливается перевести дух. Поле уже вспахано – вот вам и одни каменья! Видать, стоит овчинка выделки.
Тяжело дыша, Гордубал шагает дальше. Туман поднялся и перевалил через лес. Скоро осень. Гордубал поднимается в гору, прижимает руки к груди. Вот опять колет; теперь колет все время – вверх ли идешь или вниз. Чуть-чуть повыше опять туман. Но это уже не туман, а облака, носом можно учуять, как они пропитаны влагой. Осторожнее, не стукнуться бы об них головой! Вот облака перевалили через хребет; теперь Гордубал идет в облаках, в трех шагах ничего не видно. Приходится пробираться на ощупь, сквозь густой туман, не зная, где ты. И Гордубал, хрипло дыша, медленно, с трудом шагает в облаках.
Заморосил мелкий холодный дождь. Наверху, на полонине, пастух Миша накинул на голову мешок и, щелкая кнутом, гонит волов к шалашу. Что это рядом с ним? Не разберешь – зверь, куст или камень. А, это умный песик – Чувай! Чувай обегает стадо и сам гонит волов, только звон доносится из тумана.
Миша сидит на пороге пастушьей хижины и глядит во мглу. Туман временами редеет, и видно, как волы жмутся друг к другу. Потом все опять заволакивает тучами, только дождь шумит. Сколько сейчас может быть времени? Наверно, около полудня, Чувай вскакивает, настораживается и тихо ворчит. Из тумана появляется тень.
– Ты здесь, Миша? – окликает сиплый голос.
– Здесь.
– Ну, слава богу!
Это Гордубал, он промок насквозь, зуб на зуб не попадает. Со шляпы струйками стекает вода.
– Что шляешься под дождем? – сердито спрашивает Миша.
– С утра… не было дождя, – сипит Юрай. – Ночь была ясная. Это хорошо, что дождь… земле дождь нужен.
Миша, задумавшись, моргает.
– Погоди, я огонь разведу.
Гордубал сидит на сене и глядит на огонь. Потрескивают, дымят дрова. Тепло разливается по телу Юрая – да еще Миша накинул ему на спину мешок. Уф, даже жарко! Словно в майне. Юрай с учит зубами и гладит мокрого, вонючего Чувая. Э-э, что там, я и сам-то пахну, как мокрый пес.
– Миша, – запинаясь, говорит Юрай, – а что… там… за сруб в лесу?
Миша кипятит в котелке воду и бросает в нее какие– то травы.
– Я знаю, худо тебе, – ворчит он, – и чего шляешься под дождем, дурень?..
– У нас в майне была штольня, – торопливо рассказывает Юрай, – там всегда капала вода. Всегда. Кап-кап-кап, точно часы идут… А знаешь, у Герпаковой родился ребенок. Полана ходила поглядеть… Нигде нет работы, Миша, никому не нужны люди.
– А ведь все новые родятся, – ворчит Миша.
– Надо, чтобы родились, – трясется в ознобе Юрай, – для того и женщины на свете. Ты не женатый, не знаешь, не знаешь ничего, Миша. Ну что ты можешь сказать, раз не женат? А надо, брат, обо всем подумать. Надо, чтобы было записано – «за любовь ее и верность супружескую». Иначе люди могут бог знает что сказать. Эх, жалко, украли у меня три тысячи долларов. Зажила бы она, как барыня, а? Правда! Ну, скажи, Миша.
– Верно, – бормочет Миша, раздувая огонь.
– Вот видишь. А мне говорят – дурень. Завидуют, что такая жена у меня. Голову держит высоко, как господский конь. Вот какой народ: все норовят обидеть человека. Пошла-то она всего лишь к соседке, взглянуть на ребеночка, а люди болтают бог весть что. Растолкуй им, Миша, что я сам видел, как она вышла от соседки.
Миша серьезно кивает головой.
– Скажу, все скажу.
Юрай переводит дух.
– Я затем и пришел, понял? Ты не женат, тебе не за что мстить. Мне они не поверят. Ты им скажешь, Миша? Пусть поймут, что пришлось нанять батрака, раз хозяин был в отлучке. Полана на чердаке запиралась, крючок крепкий такой, я сам видел… А Герич городит бог весть что! Мол, восемь лет и все такое. Скажи, кто знает ее лучше – Герич или я? Поведет плечом – и грудь опять под рубашкой… Тот парень, что был внизу у ручья, не наш, он леготский, я сам видел. Он пришел с той стороны. А люди – сразу за сплетни.
Миша качает головой.
– На, выпей-ка это, помогает.
Юрай глотает горячий отвар и глядит в огонь.
– Хорошо у тебя тут, Миша. Ты им все расскажи, тебе поверят. Ты, говорят, все знаешь. Скажи, что была она хорошая, верная жена… – Дым ест глаза, у Юрая навертываются слезы; нос у него совсем заострился. – Я, я один знаю, какая она! Эх, Миша! Хоть сейчас бы поехал опять в Америку, чтобы копить для нее деньги…
– Выпей-ка разом, – говорит Миша. – И согреешься.
У Гордубала на лбу выступает обильный пот. Его охватывает приятная слабость.
– Много я мог бы порассказать про Америку, Миша, – произносит он. – Многое позабыл, да подожди, вспомню…
Миша молча подбрасывает дров в костер, Гордубал прерывисто дышит и что-то бормочет сквозь сон. Дождь перестал, лишь с елок над шалашом падают тяжелые капли. А туман все сгущается. Порой замычит вол, и Чувай бежит поглядеть на стадо.
Миша чувствует на спине напряженный взгляд Гордубала. Юрай уже несколько минут не спит и глядит запавшими глазами на Мишу.
– Миша! – хрипит Гордубал. – Может человек сам с собой покончить?
– Чего?
– Может человек себе положить конец?
– Зачем?
– Чтобы не думать больше. Есть такие думы, Миша, что… лучше бы их не было. Думаешь… например, что она врет… что не была у соседки… – У Юрая дергаются губы. – Как от них избавиться, Миша?
Миша сосредоточенно молчит.
– Трудное дело. Думай до конца.
– А если в конце… только конец? Может человек себе положить конец?
– Не надо, – медленно говорит Миша. – Зачем? И так умрешь.
– А скоро?
– Если хочешь знать – скоро.
Миша встает и выходит из шалаша.
– Спи теперь, – говорит он, обернувшись в дверях, и исчезает в тумане.
Гордубал пытается встать. Слава богу, ему уже лучше, только голова как-то не держится и тело точно из тряпок – слабое, вялое.
Юрай, пошатываясь, выходит из шалаша. Кругом туман, не видно ни зги, только слышатся колокольцы, тысячи волов пасутся в облаках и звенят колокольцами. Юрай бредет неведомо куда. «Надо вернуться домой», – думает он и идет.
Идет куда глаза глядят. Иногда ему кажется, что под гору, – он точно валится куда-то. Временами похоже, что лезет он в гору, – и это так трудно, дыхание захватывает в груди. Э, все равно, лишь бы домой. И Юрай Гордубал погружается в туман.
XXIV
Гафия нашла отца в хлеву. Коровы беспокойно мычали, и Полана послала ее поглядеть, что случилось. Гордубал лежал на соломе и хрипел.
Он уже не противился, когда жена отвела его в избу, только как-то недоуменно и с усилием поднял брови. Полана раздела его и уложила в постель.
– Дать тебе чего-нибудь, Юрай?
– Ничего, – пробормотал он и опять забылся. Ему снилось что-то – вот не вовремя разбудили! Но что это было? Нет, Герич не был в Америке… Все опять спуталось, придется начать сначала. Эх, как давит грудь! Верно, это песик Чувай улегся на меня. Юрай беспокойно гладит волосатую грудь. Спи, спи, мохнатый, как у тебя бьется сердце! Ох, и тяжел ты, плут!
Гордубал ненадолго задремал, а когда проснулся, то увидел, что Полана стоит в дверях и испытующе смотрит на него.
– Ну, как тебе?
– Лучше, голубушка. – Он не решается заговорить, боясь, что исчезнет родной дом и возникнет опять каморка в Джонстоне. Да, да здесь совсем как дома: расписной сундук, дубовый стол, стулья. У Гордубала сильнее забилось сердце. Наконец-то я дома! Господи, какая же длинная дорога – четырнадцать дней на лоуэрдеке, да еще в поезде. Тело точно разломанное. Только не шевелиться, а то опять все исчезнет. Лучше закрыть глаза и думать – вот я здесь, дома.
Все опять смешалось: майнеры в Джонстоне, Гарчар, драка – побили тогда Гордубала; Юрай бегает по штольне, увертывается, прыгает на лестницу в шахте, карабкается вверх. А сверху стремительно падает подъемник, вот-вот разобьет ему голову, ей-богу, разобьет. Гордубал просыпается от собственного стона.
Нет, не надо спать, так легче. Широко раскрыв глаза, Юрай разглядывает мебель в комнате. Так легче. Гордубал чертит пальцем в воздухе и рассказывает Мише про Америку.
Я, брат, всегда шел на самую тяжелую работу. Только крикнут; «Хеллоу, Гордубал!» – я и иду. Один раз засыпало штольню, даже плотники отказались лезть. Двадцать долларов я в тот раз заработал. Сам инженер мне руку пожал. Да, Миша, вот так взял и пожал…
Гордубалу чудится, что он спускается в шахту. Все вниз и вниз. Толстая еврейка и какой-то старик строго смотрят на него. «Сто восемьдесят один, сто восемьдесят два, сто восемьдесят три, – считает Гордубал и кричит: – Стоп, стоп! Дальше некуда. Тут конец шахты!» Но клеть мчится все дальше вниз, жара невыносимая, нет сил дышать. Куда они едут? Видно, в самое пекло. Юрай хватает ртом воздух и просыпается. Светает. В дверях стоит Полана и пристально глядит на мужа.
– Мне уже лучше, – шепчет Гордубал, и в глазах его появляется нежность, – не сердись, Полана, я скоро встану.
– Лежи, – говорит Полана и подходит к нему. – Что болит-то?
– Ничего. Со мной и в Америке случалось такое. Доктор говорил – флю[42]42
грипп (от англ. flue).
[Закрыть]. Флю. Через два дня буду здоров, как рыба. Завтра встану, голубушка. Задал я тебе хлопот, а?
– Хочешь чего?
Гордубал качает головой.
– Мне и верно полегчало сегодня. Вот хорошо бы водицы кружечку… Да я и сам могу…
– Сейчас принесу.
Она уходит. Гордубал поправляет подушки за спиной, запахивает на груди рубашку. А то Полана увидит меня таким пугалом, думает он. Умыться бы да щетину сбрить. Полана вот-вот будет тут, наверно, и на кровать присядет, пока я буду пить. Юрай подвигается, чтобы освободить место на кровати, и ждет. Видно, забыла обо мне, думает он. Бедная, сколько у нее хлопот. Хоть бы Штепан вернулся. Скажу ей, как придет: «А что, Полана, может, вернуть. Манью?»
В избу входит Гафия с кружкой воды в руках. Девочка песет ее осторожно, высунув от усердия язычок.
– Спасибо, Гафия, умница ты у меня, – вздыхает Гордубал, – а что, дядя Штепан тут?
– Нету.
– А что мамка делает?
– Во дворе стоит.
Гордубал не знает, что и сказать, даже про воду забыл.
– Ну, иди, – бормочет он, и Гафия опрометью выскакивает за дверь. Юрай тихонько лежит и слушает. Лошади в конюшне стучат копытами. Напоила ли их Полана? Нет, сейчас, наверно, еще поит свиней – вон как расхрюкались. Как же, за день набегается хозяйка. Надо бы вернуть Штепана… Поеду в Рыбары, скажу: «Эй, ты, лежебока, отправляйся к коням! Полане одной не управиться. Вечером возьму и поеду», – думает Юрай. В глазах у него темнеет, и все исчезает.
В комнату заглядывает Гафия, мнется у двери и бежит обратно. «Спит!» – шепчет она матери. Полана молчит, напряженно думая о чем-то своем.
В полдень Гафия снова на цыпочках входит в избу, Гордубал лежит, закинув руки за голову, и глядит в потолок.
– Маменька велела спросить: не надобно ли чего? – выпаливает она.
– Я думаю, Полана, – говорит Юрай, – нужно вернуть Манью.
Гафия в недоумении раскрывает рот.
– А как вам, легче?
– Спасибо, легче.
Гафия выбегает.
– Говорит, что поправился! – докладывает она Полане.
– Совсем поправился?
– Не знаю.
С полудня стало совсем тихо. Гафия не знает, чем ей заняться. Мать не велела ей убегать – сиди, мол, дома, может, хозяин попросит чего. Гафия играет на крыльце с куклой, которую ей вырезал Штепан.
– Не ходи никуда, – наказывает она кукле. – Хозяин лежит, а ты стереги двор. Да не плачь, а то наподдам.
Гафия идет на цыпочках посмотреть, что делается в избе. Гордубал сидит на кровати и покачивает головой.
– Что делает мать, Гафия?
– Ушла куда-то.
Гордубал кивает.
– Передай ей, чтоб вернула Штепана. А жеребца он может получить обратно. Хочешь, чтоб у тебя были кролики?
– Хочу.
– Я тебе смастерю клетку для кроликов такую, как у майнера Иенсена. Эх, Полана, много чего есть в Америке! Все заведем. – Гордубал качает головой. – Хочешь, Гафия, я возьму тебя наверх, в луга? Там есть такой чудной сруб, даже Миша не знает, что там было. Иди, иди, скажи матери, что Штепан вернется.
Гордубал чувствует какое-то удовлетворение. Он ложится и закрывает глаза. Темно, точно в штольне. Бух-бух, это где-то бьют киркой по камню… Вот Штепан ухмыляется – одни, мол, каменья. Да, каменья. А знаешь ли ты, дурень, что такое работа? По работе судят о мужчине. Что за дрова у тебя на дворе, голубушка? Ровные да гладкие поленья, а я, бывало, корявые пни раскалывал. Вот это мужская работа – колоть пни. Или добывать из-под земли камень.
Гордубал доволен. Немало я поработал на своем веку, Полана, ей-богу, немало. Хорошо это. Сложив руки на груди, Гордубал спокойно засыпает.
Проснулся он уже под вечер, тяжелые сумерки разбудили его.
– Гафия, – позвал Гордубал. – Гафия, где Полана?
Тишина. Издалека доносится звон, это стадо возвращается с поля. Гордубал вскочил с кровати и натянул штаны. Надо отворить ворота коровам. Голова у Юрая кружится – видно, от долгого лежания. Он ощупью пробирается во двор и распахивает ворота. В голове шумит, дышится тяжело – однако ж, слава богу, удалось выбраться на воздух. Звон близится, нарастает, ширится, как река. Все полно звоном этих колокольцев. Юраю хочется стать на колени, перезвон колокольцев звучит для него неслыханным великим благовестом. Степенно покачивая головами, во двор входят две коровы с полным выменем.
Юрай прислоняется к воротам. Ему хорошо, спокойно, как на молитве.
Во двор вбегает раскрасневшаяся от быстрой ходьбы Полана.
– Ты уже встал, Юрай? – восклицает она. – А где Гафия?
– Да, встал, – виновато оправдывается Гордубал. – Мне уже легче.
– Иди, иди, полежи, – настаивает Полана. – Утром будешь совсем здоров.
– Как хочешь, голубушка, как хочешь, – послушно и ласково отзывается Гордубал. – Я мешать тебе не стану.
Он закрывает ворота, закладывает засов и медленно идет в избу. Когда ему приносят ужин, он уже спит.








